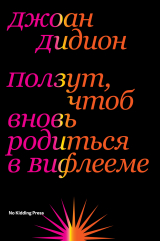
Текст книги "Ползут, чтоб вновь родиться в Вифлееме"
Автор книги: Джоан Дидион
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
О морали
Я пишу эти строки в Долине Смерти, в номере мотеля и трейлерного парка «Энтерпрайз». За окном июль. На улице очень жарко, температура 119 градусов по Фаренгейту. Кондиционер включить не получается, но в номере есть небольшой холодильник – я могу взять лед, завернуть его в полотенце и приложить к пояснице. Холодные кубики на спине помогают мне размышлять, по просьбе журнала «Американ сколар», об абстрактном понятии морали; понятию этому я с каждым днем доверяю всё меньше, и потому мой разум упорно склоняется к конкретике.
Вот и конкретика. Вчера в полночь на пути из Лас-Вегаса в Долину Смерти машина выехала на обочину и перевернулась. Водитель, молодой и, по всей видимости, пьяный, умер на месте. Его девушку нашли живой, но с внутренним кровотечением и в сильнейшем шоковом состоянии. Сегодня днем я разговаривала с медсестрой, которая доставила ее к ближайшему врачу, в 185 милях отсюда через долину и три горные гряды по смертельно опасной дороге. Медсестра сказала, что ее муж, шахтер на добыче слюды, остался с телом погибшего паренька на шоссе ждать, пока из Бишопа, что за горами, доберется следователь, то есть до рассвета. «Нельзя просто так бросить мертвое тело на дороге, – объяснила медсестра. – Это аморально».
Тогда это слово не вызвало у меня недоверия, потому что под ним скрывалось нечто очень определенное. Медсестра имела в виду, что к оставленному в пустыне телу уже через несколько минут стянутся койоты, чтобы объесть плоть. Забота о том, разорвут тело койоты или нет, кажется простой сентиментальностью, но в ней, разумеется, кроется нечто гораздо большее: мы обещаем друг другу, что будем заботиться о погибших и постараемся не оставлять их на съедение койотам. Если нас учили выполнять обещания, – говоря попросту, если нас достаточно хорошо воспитали, – то мы останемся охранять тело или будем мучиться кошмарами.
Я, разумеется, говорю о правилах поведения в обществе, которые иногда, как правило уничижительно, называют «караванной моралью». Это название вполне отражает суть. К счастью или нет, мы суть то, чему научились в детстве: мое было полно скорбных поучений о том, какие горести ждут не сдержавших общественную клятву верности. Вспомним партию Доннера-Рида, которая голодала в заснеженных хребтах Сьерра-Невады, утратив все бренные атрибуты цивилизации, кроме последнего табу – на поедание себе подобных. Вспомним джейхокеров, которые рассорились недалеко от места, где я пишу эти строки, и разошлись в разные стороны. Некоторые погибли в горах Фьюнерал, некоторые – близ Бэдуотера, а большинство остальных – на Панаминтском хребте. Женщина, оставшаяся в живых, дала название этой долине. Кто-то может сказать, что джейхокеров сгубило пустынное солнце, а группу Доннера-Рида – снежные горы, словом, обстоятельства, им неподвластные; меня же учили, что эти люди пренебрегли обязательствами, нарушили принципы какой-то фундаментальной верности, иначе не оказались бы, беспомощные, в холодных горах и жаркой пустыне, не поддались бы злости, не предали бы друг друга, не потерпели бы трагическую неудачу. Короче говоря, такие истории нам рассказывали в назидание, и предлагалась в них одна и та же мораль, в которой мне, однако, видится возможное двойное дно.
Вы читаете это и уже наверняка теряете терпение. Речь идет, сказали бы вы мне, о морали столь примитивной, что она не заслуживает даже называться моралью, о банальных правилах выживания, которые не имеют ничего общего с высшим благом. Именно. В особенности сегодня ночью, в столь зловещем краю, жить в котором – значит смиряться с антиматерией, мне сложно поверить, что «благо» – измеримая величина. Позвольте рассказать, каково здесь сегодня ночью. По ночам в пустыне распространяются истории. Кто-нибудь из местных забирается в пикап, проезжает пару сотен миль до вожделенного пива и возвращается домой с новостями. Потом отправляется еще за сотню миль и там за пивом делится историями, которые рассказывают там, откуда он прибыл, и там, где он был до того. Эта информационная сеть живет благодаря людям, чей инстинкт толкает их ехать сквозь ночь, чтобы не лишиться рассудка. Вот что сегодня передается из уст в уста в пустыне: говорят, двое утонули в подземном водоеме где-то по ту сторону границы с Невадой и помощники шерифа ныряют в пещеру за телами. Вдова утонувшего парня, лет восемнадцати, беременная, приехала на место происшествия; говорят, она стоит у пещеры и не сходит с места. Ныряльщики появляются и исчезают, а она всё стоит и смотрит на воду. Операция тянется уже десять дней, но до дна до сих пор не добрались, нет ни тел, ни следов утонувших – лишь черная толща теплой воды, уходящая всё глубже, глубже и глубже, и редкая прозрачная рыбешка неопределенного вида. Сегодня рассказывали, как из воды вытащили одного из ныряльщиков. Он был не в себе и истошно кричал. Вдову увели, чтобы она не услышала его рассказа о том, что вода в глубине становится горячее, а не наоборот, о свечении под водой, о магме, о подземных испытаниях ядерного оружия.
Таков общий характер местных историй, и сегодня их носится по округе целое множество. И дело не только в историях. В церквушке через дорогу собрались пара десятков пожилых людей, приехавших сюда пожить в трейлере и умереть под солнцем, и затянули молитвы. Я не слышу их и не хочу слышать. Но я хорошо слышу редкие крики койотов и вечный припев «Малыш, дождь должен пойти» из музыкального автомата в баре неподалеку, и, если бы мне были слышны еще и голоса умирающих, которые прибыли в этот пустынный край со Среднего Запада ради невообразимых пережиточных ритуалов и твердыни вечной, я сама распрощалась бы с рассудком. Временами мне кажется, что я слышу гремучих змей, но муж говорит, что это водопроводный кран, шелест бумаги или ветер. Потом он подходит к окну и направляет луч фонарика на пересохшее русло ручья.
Что же это значит? Ничего, с чем можно было бы справиться. Какая-то зловещая истерия разливается сегодня в воздухе, какая-то нотка чудовищной перверсии, к которой может свестись любая человеческая мысль. «Я следовал голосу совести». «Я делал то, что казалось правильным». Сколько безумцев говорили это, притом вполне искренне? Сколько убийц? Так говорил Клаус Фукс, и те, кто устроил резню в Маунтин-Медоуз, и Альфред Розенберг. И, как не преминули бы безапелляционно напомнить те, кто сам готов произнести эту фразу, так говорил Иисус. Возможно, все мы так говорили, и, возможно, мы ошибались. Если не брать в расчет самый примитивный уровень – верность тем, кого мы любим, – что может быть высокомернее, чем провозглашать примат совести? («Ответь мне, – спросил раввин Дэниела Белла, когда тот, еще ребенком, заявил, что не верит в Бога. – Как думаешь, есть ли Ему до этого дело?») По крайней мере, иногда мне кажется, что мир – это картина Иеронима Босха; послушай я свою совесть, она привела бы меня в пустыню, где стоял Мэрион Фэй из «Оленьего заповедника», где он смотрел на восток в сторону Лос-Аламоса и молил, будто призывая на землю дождь: «…пусть обрушится и смоет грязь, гниль и вонь, пусть обрушится по всей земле, пусть останется чистый от скверны мир под лучами бледного мертвого рассвета».
Конечно, вы скажете, что у меня нет никакого права, даже будь у меня власть, навязывать вам столь несуразные веления совести; но и мне не нужна чужая совесть, какой бы рациональной, какой бы просветленной она ни была. («Следует осознавать, какие опасности таят в себе самые благородные из наших желаний, – писал Лайонел Триллинг. – Загадочный парадокс нашей природы состоит в том, что стоит нам однажды сделать людей объектами наших просветленных интересов, как мы тут же делаем их объектами нашей жалости, затем мудрости и, наконец, принуждения».) То, что этика совести сама по себе коварна, едва ли будет для вас откровением, но говорят об этом всё реже; те, кто заводит такие беседы, и сами с пугающей легкостью занимают противоречивую позицию, согласно которой этика совести опасна, когда «неверна», и заслуживает восхищения, когда «правильна».
Видите ли, я готова настаивать на том, что мы не можем точно определить – за пределами фундаментального соответствия принципам жизни в социуме, – что правильно, а что нет, что есть добро, а что зло. Я так подробно на этом останавливаюсь, потому что самым сомнительным аспектом морали мне кажется то, как часто звучит это слово в прессе, по телевизору, в самых пустячных разговорах. Заходит ли речь о политике силы и выживания или о незначительных государственных мерах, о чем угодно, – всё наделяется надуманным моральным весом. В этом есть что-то поверхностное, какое-то потворство своим желаниям. Конечно, всем нам хотелось бы «верить» во что-то; например, объяснить собственное чувство вины общественными обстоятельствами, избавиться от своей утомительной личности или, возможно, превратить белый флаг, который на родине означает поражение, в знамя борьбы на чужбине. В этом нет ничего плохого, именно так с незапамятных времен и поступают люди. Но мне кажется, что в этом нет ничего плохого ровно до тех пор, пока мы не обманываем себя насчет того, что делаем и почему. Это нормально, пока мы помним, что все специальные комитеты, пикеты, смелые подписи в «Нью-Йорк таймс», весь спектр агитпропа ipso facto, сами по себе, не наделяют нас добродетелью. Это нормально, пока мы понимаем, что цель, оправданная или нет, идея, достойная или бессмысленная, в любом случае никак не связана с моралью. Ибо если мы начнем обманываться и объяснять моральным императивом то, что на самом деле сводится к практической необходимости или нашим желаниям, тогда мы присоединимся к сонму сумасшедших, тогда по стране разнесется пронзительный стон истерии, и тогда мы окажемся в беде. Подозреваю, уже оказались.
1965
О поездках домой
Я дома: у моей дочери сегодня первый день рождения. Под «домом» я имею в виду не наше с мужем и ребенком постоянное пристанище в Лос-Анджелесе, а место, где живет моя семья, в Калифорнийской долине. Разница эта жизненно важна, хоть и проблематична. Мужу нравится моя семья, но в нашем доме он чувствует себя неуютно: стоит нам приехать, как я тут же перенимаю привычки родных – непростые, загадочные, намеренно туманные – и забываю то, к чему привыкла с ним. Мы живем в пыльных домах («П-Ы-Л-Ь» – однажды вывел пальцем мой муж на каждой поверхности в доме, но никто даже не заметил), полных памятных мелочей, которые для него ничего не значат (что могут значить для него расписные китайские тарелки? какое ему дело до аптекарских весов?), и говорим только о знакомых, которых отправили в психиатрическую лечебницу, о знакомых, которых оштрафовали за вождение в нетрезвом виде, и о недвижимости – в особенности о недвижимости, земле, ценах за акр, использовании коммерческой территории, оценке и доступности скоростных дорог. Мой брат не понимает, почему мой муж не способен вникнуть в то, чем выгодна такая распространенная практика, как заключение соглашения о продаже с одновременной арендой, а мой муж никак не возьмет в толк, почему так много людей, которых обсуждают в доме моего отца, только что отправили в психиатрическую лечебницу или оштрафовали за вождение в нетрезвом виде. Как не понимает он и того, что, обсуждая особенности ссуд и права на проезд по частной территории, мы на шифрованном языке говорим о том, что любим больше всего на свете: о желтых полях, о кронах тополей, о том, как поднимается и опускается уровень воды в реках, о горных дорогах, по которым не проехать после обильного снегопада. Иногда мы не понимаем друг друга, выпиваем еще по бокалу и смотрим на огонь. Мой брат в лицо зовет моего супруга «мужем Джоан». Брак – классический случай предательства.
А может, это больше не так. Иногда я думаю, что мы, ныне тридцатилетние, стали последним поколением, на котором лежит бремя «дома», поколением, для которого семья – источник всех забот и треволнений. У нас по всем объективным показателям была «нормальная» обстановка и «счастливая» семья, однако только около тридцати я сумела впервые не разрыдаться после разговора с родственниками по телефону. Мы не ругались. Всё было в порядке. И всё же какое-то неназванное тревожное чувство окрашивало эмоциональный заряд моих отношений с тем местом, где я родилась. Вопрос о том, можно или нельзя вернуться домой, занимал наши мысли и чувства и составлял довольно заметную часть литературного багажа, с которым мы в пятидесятых покидали отчий дом; подозреваю, что тем, кто родился в послевоенной неразберихе, это не слишком интересно. Пару недель назад в баре в Сан-Франциско я видела девушку под метамфетамином, которая разделась и танцевала топлес ради денежного приза в любительском конкурсе «Мисс Красивая Грудь». В этом действе не было никакого особенного значения, романтического упадка, трагического ощущения «пути на дно» – дорогих моему поколению чувств. Что бы вынесла эта девушка из драмы «Долгий день уходит в ночь»? И кто же из нас ничего не понял?
То, что я – заложница старого режима, становится для меня особенно очевидно, когда я приезжаю домой. Я бесцельно брожу из комнаты в комнату, парализованная невротической усталостью от того, что прошлое поджидает за каждым углом, за каждым поворотом, в каждом ящике шкафа. Решаюсь на смелый шаг разобрать ящик комода и раскидываю содержимое по кровати. Купальник, который я носила в свои семнадцать. Письмо с отказом из «Нэйшн», аэрофотоснимок территории, где в 1954 году должен был вырасти торговый центр, который мой отец так и не построил. Три расписанные вручную чайные чашки с розочками и инициалами моей бабушки – Э. М. Что принято делать с письмами из «Нэйшн» и чашками, расписанными в 1900 году, я не знаю. Нет и готового вердикта фотографии, на которой ваш дедушка – молодой человек на лыжах – обозревает перевал Доннера в 1910-м. Я разглаживаю снимок, всматриваюсь в лицо, одновременно вижу и не вижу в нем себя. Затем закрываю ящик и иду пить очередную чашку кофе с матерью. Мы хорошо ладим, ветераны партизанской войны, смысла которой никто из нас не понимает.
Проходят дни. Я ни с кем не вижусь. Начинаю бояться вечернего звонка мужа, и не только потому, что он примется рассказывать многочисленные новости о такой далекой для меня сейчас жизни в Лос-Анджелесе, о людях, которых он встретил, о письмах, которые требуют ответа, но и потому что он спросит, чем я занималась, неловко посоветует выбраться из дома, съездить в Сан-Франциско или Беркли. Вместо этого я еду через мост на семейное кладбище. С моего последнего приезда там побывали вандалы, памятники разбиты и повалены на сухую траву. Однажды я видела в ней гремучую змею, и поэтому не выхожу из машины; сижу и слушаю радио, где крутят кантри-энд-вестерн. Позже отвожу отца на ранчо, которое он выстроил у подножья холмов. Пастух зовет нас на собрание, которое состоится через неделю, и, хотя я точно знаю, что к тому времени уже буду в Лос-Анджелесе, я всё равно обтекаемо, как заведено в моей семье, отвечаю, что приеду. Добравшись до дома, рассказываю о поваленных памятниках на кладбище. Мать пожимает плечами.
Иду в гости к двоюродным бабушкам. Меня принимают то за мою кузину, то за дочь одной из них, умершую в молодости. Мы вспоминаем историю, приключившуюся с нашим родственником, которого мы не видели с 1948 года, и меня спрашивают, нравится ли мне в Нью-Йорке. Я переехала в Лос-Анджелес три года назад, но отвечаю, что нравится. Ребенку протягивают растительный леденец, а мне – доллар на какой-нибудь «гостинец». Вопросы теряются на извилистых тропинках разговора и остаются без ответов, дочь играет с клубами пыли в лучах послеполуденного солнца.
Пора отмечать день рождения: торт с белым кремом, клубничное мороженое с зефирками, бутылка шампанского, оставшаяся с другой вечеринки. Вечером, когда дочь засыпает, я опускаюсь на колени и касаюсь щекой ее личика там, где оно прижимается к бортику кроватки. Она – открытое и доверчивое дитя, не готовое и не привыкшее к ловушкам жизни в большой семье, возможно, то, что я могу предложить ей хотя бы эти крупицы, уже неплохо. Мне хотелось бы дать ей больше. Мне бы хотелось пообещать ей, что она вырастет, зная своих кузин, зная, как наполняются и пустеют реки, видя прабабушкины чайные чашки; хотелось, чтобы у нее были пикники с жареной курицей на берегу речки, пикники, на которые можно не расчесывать волосы, мне бы хотелось подарить ей на день рождения дом, но мы теперь живем иначе, и ничего подобного я ей обещать не могу. Так что я дарю ей ксилофон, летнее платьице с Мадейры и обещаю рассказать смешную историю.
1967
III. Семь уголков разума
Заметки коренной калифорнийки
Легко сидеть в баре, скажем, «Ла Скала» в Беверли-Хиллз или «Эрнис» в Сан-Франциско, и предаваться всепроникающей иллюзии, что до Калифорнии от Нью-Йорка всего пять часов на самолете. Но это до «Ла Скалы» в Беверли-Хиллз или до «Эрнис» в Сан-Франциско. А ведь Калифорния не там.
Многие выходцы с Востока (или с Восточного берега, как говорят в Калифорнии, но не говорят в «Ла Скале» и «Эрнис») в это не верят. Они побывали в Лос-Анджелесе или Сан-Франциско, проехали сквозь рощи гигантской секвойи, посмотрели на залитый солнцем Тихий океан с побережья Биг-Сур и, естественно, теперь считают, что видели Калифорнию. Но это не так, и настоящую Калифорнию они, скорее всего, никогда не узнают: путешествие по ней гораздо дольше и во многих смыслах сложнее, чем они готовы предпринять; пункт назначения в таком путешествии мерцает как мираж на горизонте, вечно отдаляясь, вечно убывая. Я знаю об этом, потому что я сама из Калифорнии, я потомок семьи или целого множества семей, которые всегда жили в долине Сакраменто.
Вы возразите, что нет ни одной семьи, которая прожила бы в долине Сакраменто срок, хоть сколько-нибудь сравнимый с «всегда». Но калифорнийцы вообще склонны говорить о прошлом с размахом, будто оно началось с чистого листа и достигло счастливого завершения в тот день, когда повозки двинулись на запад. «Эврика» («Я нашел!») – гласит девиз штата. Такое восприятие истории воспитывает меланхолию в тех, кто разделяет его; всё детство я впитывала разговоры о том, что наши лучшие времена давно позади. Собственно, именно об этом я и хочу рассказать: каково это – родиться в Сакраменто. Если у меня получится, то, возможно, я смогу объяснить, что такое Калифорния и, может быть, что-то еще, ведь Сакраменто и есть Калифорния, а Калифорния – это место, где гонка за успехом неизменно сопряжена с чеховским чувством утраты, где ум исподволь будоражит неискоренимое подозрение, что именно здесь, под бесконечным белесым небом, всё обязано получиться, потому что дальше – край континента.
В 1847 году Сакраменто представлял собой не более чем глинобитное укрепление, форт Саттерс, одиноко стоящий среди прерий и отрезанный от Сан-Франциско и океана Береговыми хребтами, а от остального континента – горами Сьерра-Невада. В долине Сакраменто колыхалось целое море травы, травы такой высоты, что всадник мог легко зацепиться за нее седлом. Годом позже у подножия Сьерры обнаружили золото, и Сакраменто вмиг превратился в город, который любой кинозритель без труда нарисует в воображении: пыльное скопление пробирных контор, салунов и колесных мастерских. Назовем это второй фазой. Затем пришли поселенцы – фермеры, которые две сотни лет брели на Запад, зловредное племя, оставившее позади Вирджинию, Кентукки и Миссури; они превратили Сакраменто в фермерский город. Земля здесь была плодородной, поэтому вскоре Сакраменто стал богатым фермерским городом, где один за другим вырастали особняки и дорогие автосалоны и открылся загородный клуб. В этом тихом сне Сакраменто пребывал примерно до начала 1950-х, а потом что-то случилось. А именно: город проснулся, разбуженный резким вмешательством внешнего мира. В момент пробуждения Сакраменто, к счастью или нет, утратил свой характер, и об этом я тоже хочу рассказать.
Но первые мои воспоминания – не о переменах. Они о том, как я убегала от боксера, пса моего брата, по полю, которое нашел нетронутым и засеял наш прапрадедушка; как плавала (с опаской – я была нервным ребенком, боялась воронок и змей, и, возможно, в этом и коренилась моя ошибка) в реках, где мы плавали уже сто лет: в реке Сакраменто, столь илистой, что стоило опустить руку в воду по запястье, как пальцев уже не было видно; в Американ-Ривер, чистом и быстром потоке талого снега из Сьерра-Невады, – к июлю бег ее замедлялся, а на оголенных камнях устраивались на солнце гремучие змеи. Сакраменто, Американ-Ривер, иногда Косумнес, время от времени Фезер. Неосторожные дети гибли в них ежедневно; мы читали об этом в газетах: они недооценивали течение, попадали в разлом у слияния Американ-Ривер и Сакраменто; для поисков прибывала подмога из округа Йоло, но тела так и не находили. «Не местные, – такой вывод делала бабушка после прочтения этих заметок. – И нечего было родителям пускать их к реке. Приехали из Омахи». Вывод был поучительным, но найти объяснение случившемуся он едва ли помогал. Знакомые нам дети тоже гибли в реках.
Когда заканчивалось лето – закрывалась Ярмарка штата, спадала жара, последние зеленые стебли хмеля на Эйч-стрит обрезали на зиму, а по вечерам от земли поднимался густой туман, – мы снова принимались заучивать торгово-промышленные достижения наших латиноамериканских соседей и ходить в гости к двоюродным бабушкам, к десяткам бабушек, из года в год, бесчисленное количество воскресных дней. Когда я вспоминаю эти зимы теперь, то думаю о желтых листьях вязов, налипших на дно водосточной канавки у епископальной церкви Святой Троицы на М-стрит. В Сакраменто сейчас есть те, кто называет эту улицу Кэпитол-стрит, а церковь теперь занимает одно из безликих новых зданий, но детей в воскресной школе наверняка учат тому же, что и всегда:
Вопрос: Чем Святая Земля похожа на долину Сакраменто?
Ответ: Видами и разнообразием даров земли.
Еще я вспоминаю, как поднималась вода в реках, а по радио объявляли, насколько она поднялась, и как думала о том, где и когда снесет очередную дамбу. В те времена их было не так много. Иногда отводные каналы переполнялись и мужчины ночь напролет перегораживали их мешками с песком. Иногда ночью сносило какую-нибудь дамбу к северу от Сакраменто, и поутру разносились слухи, что ее взорвали военные саперы, чтобы снизить давление на город.
За сезоном дождей приходила весна, дней на десять; пропитавшиеся влагой поля быстро зарастали яркой недолговечной зеленью (через две-три недели она желтела и становилась сухой, как порох), оживал рынок недвижимости. Бабушки в это время уезжали в Кармел; девушек, которые не сумели поступить в университеты Стивенса, Аризоны или Орегона, не говоря уж о Стэнфорде и Беркли, отправляли в Гонолулу на борту «Лерлайна». Не помню, чтобы кто-нибудь ехал учиться в Нью-Йорк, кроме одной моей кузины, которая там всё же побывала (понятия не имею зачем) и сообщила по возвращении, что продавцы обуви в магазине «Лорд энд Тейлор» были с ней «неприемлемо грубы». То, что происходило в Нью-Йорке, Вашингтоне или за границей, похоже, вообще никак не трогало умы жителей Сакраменто. Помню, однажды меня взяли в гости к очень пожилой женщине, вдове владельца ранчо, которая вспоминала (любимый жанр разговоров в Сакраменто) о сыне каких-то своих ровесников. «Сын Джонстонов ничего значительного так и не добился», – сказала она. Моя мать без особенного энтузиазма возразила: «Алва Джонстон получил Пулитцеровскую премию за работу в „Нью-Йорк таймс“». Хозяйка смерила нас непроницаемым взглядом: «В Сакраменто он не добился ничего».
Голос этой женщины – настоящий голос Сакраменто, и тогда я не понимала, что звучать ему оставалось недолго: кончилась война, экономика пошла в рост, и в округе раздались голоса инженеров воздушно-космической отрасли. ВЕТЕРАНАМ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА! РОСКОШНОЕ ЖИЛЬЕ ПОД НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ!
Переехав в Нью-Йорк, я летала в Сакраменто по четыре-пять раз в год (чем приятнее был полет, тем, загадочным образом, несчастнее становилась я, потому что таких, как я, угнетает мысль о том, что на повозке этот путь мы могли бы и не проделать); я будто пыталась доказать кому-то, что не собиралась уезжать вовсе, поскольку в каком-то смысле Калифорния – та Калифорния, о которой я говорю, – напоминает Эдем: предполагается, что отказавшиеся от ее благ изгнаны прочь из-за какого-то изъяна души и пути назад им нет. В конце концов, разве не для того, чтобы наконец добраться до Сакраменто, участники партии Доннера поедали своих?
Я говорила, что путь назад нелегок, и нелегок он потому, что делает банальную двусмысленность сентиментальных путешествий еще заметнее. Вернуться в Калифорнию не то же самое, что вернуться в Вермонт или Чикаго. Вермонт и Чикаго – константы, относительно которых можно судить, насколько ты сам изменился. Единственная константа в Калифорнии моего детства – это скорость, с которой она исчезает. Пример: 1948 год, День святого Патрика. Меня взяли посмотреть на законодательную власть «в действии», сомнительный опыт; группка краснощеких депутатов в зеленых шляпах оглашала для протокола ирландские шутки. До сих пор я представляю себе законодателей именно так: в зеленых шляпах или на веранде отеля «Сенатор», где их, изнывающих от жары, развлекают посланцы Арти Сэмиша. (Сэмиш, лоббист, однажды сказал: «Эрл Уоррен, может быть, и губернатор штата, зато законодательным собранием командую я».) Вообще никакой веранды в том отеле уже нет – если вам интересно, сейчас вместо нее авиакассы, – а самому отелю заксобрание предпочло мотели к северу от города, где горят бамбуковые факелы и от подогреваемого бассейна в холодную ночь поднимается пар.
Сейчас трудно отыскать ту Калифорнию. Тревожно думать о том, насколько она вымышлена, надумана; печально осознавать, сколько наших воспоминаний на деле нам не принадлежат, а лишь отражают чью-то чужую память, истории, которые передаются из поколения в поколение. Например, у меня есть невероятно живое воспоминание о том, как сухой закон ударил по хмелеводам в Сакраменто: сестра одного из них, знакомая нашей семьи, купила в Сан-Франциско норковую шубу, но ей велели ее сдать, и она рухнула на пол в гостиной, с шубой в обнимку, и зашлась рыданиями. Я родилась только через год после отмены сухого закона, но эта сцена для меня реальнее многих событий, случившихся со мной лично.
Помню одну поездку домой. Я летела в одиночестве ночным рейсом из Нью-Йорка и перечитывала стихотворение У. С. Мервина, которое нашла в журнале, – о человеке, который долго пробыл в чужой стране и понял, что пора возвращаться домой:
…Но, должно быть,
Скоро. Я уже жарко защищаю
Проступки наши, которым оправданья нет,
И не люблю, когда напоминают. Уже в уме моем
Язык наш сокровищами полнится, которых
В чужих наречиях не отыскать. И нет нигде
Таких же гор, таких широких рек, как дома.
Вы понимаете. Я хочу говорить как есть, и я уже рассказала вам о широких реках.
Уже должно было стать ясно, что правда об этом месте ускользает из рук и выслеживать ее нужно аккуратно. Если вы завтра же отправитесь в Сакраменто, кто-нибудь (но точно не кто-то из моих знакомых), возможно, отвезет вас посмотреть «Аэроджет дженерал» – это, как говорят местные, «что-то связанное с ракетами». Там работает пятнадцать тысяч человек, и почти все они приезжие; жена местного юриста однажды рассказала мне, как бы в подтверждение того, сколь радушно встречает наш город вновь прибывших, что, кажется, встретила одного из них в позапрошлом декабре во время открытого просмотра, когда он выбирал себе дом. («Вообще сложно представить более милого человека, – с жаром говорила она. – Кажется, они с женой купили дом по соседству с Мэри и Элом, так они с ним и познакомились».) Можно зайти в вестибюль огромного здания «Аэроджета», где пара тысяч продавцов еженедельно торгуют продуктами производства, посмотреть на электронное табло со списком сотрудников, их проектов и местоположением в любое время и подумать, давно ли я приезжала в Сакраменто, МИНИТМЕН, ПОЛАРИС, ТИТАН, огни мелькают, и на каждом кофейном столике лежит расписание полетов, очень актуально, очень доступно.
Но я могла бы отвезти вас за несколько миль оттуда, в городки, где банки до сих пор носят названия вроде «Банка Алекса Брауна», где в буфете единственного отеля на полу по-прежнему восьмиугольная плитка, у стен пыльные пальмы в кадках, а на потолке вентиляторы; в городки, где всё – будь то магазин семян, франшиза «Харвестера», отель, универмаг и главная улица – носит одно и то же имя, имя человека, который основал город. Несколько недель назад, в воскресенье, я попала как раз в такой городок, даже поменьше: ни отеля, ни франшизы «Харвестера», банк сгорел – очередной городок на реке. Мои родственники праздновали золотую свадьбу в «Ребекка-холле», погода стояла жаркая, и гости восседали на стульях с прямыми спинками вокруг вазы с гладиолусами. Я рассказала о поездке в «Аэроджет-дженерал» одной из кузин, которая выслушала меня с интересом и недоверием. Что же из этого – настоящая Калифорния? Все мы хотели бы это знать.
Попробуем сделать несколько очевидных высказываний по вопросу, не допускающему двояких толкований. Хотя Сакраменто во многом наименее типичный город Долины, это настоящий долинный город, и рассматривать его можно исключительно в таком контексте. В Лос-Анджелесе при слове «Долина» большинство представляет себе Сан-Фернандо (хотя некоторые понимают под этим «Уорнер бразерз»), но не стоит заблуждаться: мы говорим не о той долине, где расположились киносъемочные павильоны и маленькие ранчо, а о настоящей Долине, Калифорнийской долине площадью в полсотни квадратных миль, вся вода со склонов которой стекается в реки Сакраменто и Сан-Хоакин и возвращается на поля благодаря сложной системе рукавов, отводов и канав, а также каналам Дельта-Мендота и Фрайант-Керн.
В ста милях к северу от Лос-Анджелеса, спустившись с гор Техачапи к окраинам Бейкерсфилда, вы оставляете позади Южную Калифорнию и оказываетесь в Долине. «Вы смотрите на шоссе, и оно бежит навстречу, прямое на много миль, бежит, с черной линией посередине, блестящей и черной, как вар на белом бетонном полотне, бежит и бежит навстречу под гудение шин, а над бетоном струится марево, так что лишь черная полоса видна впереди, и, если вы не перестанете глядеть на нее, не вдохнете поглубже раз-другой, не хлопнете себя как следует по затылку, она усыпит вас».








