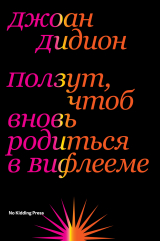
Текст книги "Ползут, чтоб вновь родиться в Вифлееме"
Автор книги: Джоан Дидион
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
О самоуважении
Однажды, в сухой сезон, я большими буквами поперек разворота тетради написала, что наивность кончается тогда, когда мы лишаемся иллюзии, будто нравимся себе. И хотя теперь, спустя несколько лет, меня изумляет, что даже сознанию, которое с собой не в ладах, свойственно вести тщательный учет малейших своих колебаний, один случай до сих пор с досадной ясностью стоит у меня перед глазами и отдает во рту вкусом пепла. Дело было в неверно понятом самоуважении.
Меня не взяли в студенческое общество Фи Бета Каппа. Эта неудача едва ли была непредсказуемой или неоднозначной (мне попросту не хватило баллов), но она выбила меня из равновесия. Я привыкла воображать себя этаким Раскольниковым от академии, по странной случайности неподвластным причинно-следственным связям, которые стесняли других. Даже лишенная чувства юмора девятнадцатилетняя студентка вроде меня не могла не понимать, что ситуации недостает подлинного трагизма, и всё же день, когда меня не взяли в студенческое общество, ознаменовал конец чего-то – возможно, наивности. Я потеряла уверенность в том, что мне всегда будет гореть зеленый свет, приятную убежденность в том, что само по себе наличие положительных качеств, которыми я завоевывала одобрение в детстве, гарантирует мне ключи к Фи Бета Каппа, а заодно счастье, признание и любовь достойного мужчины; я утратила трогательную веру в мистическую силу хороших манер, чистых волос и высоких баллов по шкале интеллекта Стэнфорд – Бине. На этих сомнительных характеристиках зиждилось мое самоуважение, и в тот день я в замешательстве взглянула на себя с дурным предчувствием человека, без креста в руках встретившего вампира.
Когда отступать некуда, заглядывать в себя – занятие не из приятных, почти как переходить границу с чужими документами, но сейчас мне кажется, что без этого нельзя начать путь к настоящему самоуважению. Вопреки избитым фразам, самоуважение сымитировать труднее всего. Фокусы, которые легко обманывают посторонних, не работают на освещенной боковой улочке, куда мы тайком приходим на свидания с собой: здесь у обезоруживающих улыбок и аккуратных списков благих намерений силы нет. Напрасно перебираем мы у всех на виду собственные крапленые карты: добрые поступки, совершенные по дурным причинам, случайные победы, ради которых не пришлось стараться, героические на вид деяния, за которыми стоит страх общественного осуждения. Неутешительно, но факт: самоуважение не имеет ничего общего ни с одобрением окружающих – в конце концов, их легко обмануть, – ни с репутацией, без которой, как говорил Ретт Батлер Скарлетт О’Харе, те, у кого достаточно мужества, могут и обойтись.
Обходиться же без самоуважения, в свою очередь, значит невольно стать единственным зрителем бесконечной кинохроники своих настоящих или мнимых неудач, к которой с каждым сеансом добавляются свежие кадры. Вот стакан, который ты разбила со злости, вот обида на лице Х.; следующая сцена: вечер, когда У. вернулся из Хьюстона, смотри, снова ты всё испортила. Жить без самоуважения – это лежать ночью без сна, не рассчитывая на спасительное действие теплого молока, фенобарбитала или руки спящего рядом, и считать грехи: что сделано неправильно или не сделано вовсе? Сколько раз ты обманула доверие, незаметно нарушила обещание, сколько раз упустила возможность из-за лени, трусости или беспечности? Как ни оттягивай этот момент, все мы рано или поздно ложимся в эту неудобную постель, которую стелем себе сами. Получится ли заснуть – зависит, конечно же, от того, насколько мы себя уважаем.
Можно возразить, что каким-то невероятным людям, которым совсем не за что себя уважать, неплохо спится. Однако те, кто утверждает подобное, упускают суть так же, как упускают ее те, кто считает, что у уважающей себя женщины нижнее белье не будет держаться на булавке. Бытует распространенное заблуждение, что самоуважение – это талисман, отгоняющий змей, переносящий своего владельца в благословенное царство, где постель всегда удобна, где нет двусмысленных разговоров и прочих неурядиц. Это совсем не так. Самоуважение не имеет отношения к наружности, оно есть вопрос внутреннего покоя, примирения с собой. Хотя неосторожный и склонный к самоубийству Джулиан Инглиш из «Свидания в Самарре» и беспечная, патологически нечестная Джордан Бейкер из «Великого Гэтсби» кажутся не слишком подходящими примерами для иллюстрации самоуважения, у Джордан Бейкер оно было, у Джулиана Инглиша – нет. Благодаря своему блестящему умению приспосабливаться, более свойственному женщинам, чем мужчинам, Джордан трезво оценивала собственные способности, стремилась к внутреннему покою и не давала никому извне его нарушить. «Терпеть не могу неосторожных людей, – говорила она Нику Каррауэю. – Для столкновения требуются двое».
Подобно Джордан Бейкер, люди, которые уважают себя, не боятся совершать ошибки. Они знают цену поступкам. Решившись на измену, они не побегут под гнетом совести требовать от обманутой стороны отпущения грехов, не станут сверх меры жаловаться на то, что их несправедливо, незаслуженно опозорили, вынудив предстать перед судом в качестве соответчика в бракоразводном процессе. Короче говоря, люди, которые уважают себя, проявляют определенную твердость, моральный стержень; у них есть то, что некогда называли характером, – качество, которое в теории ценится высоко, однако на практике зачастую уступает другим более доступным добродетелям. Характер неумолимо сдает позиции – о нем всё больше вспоминают в разговоре о неказистых детях или сенаторах США, потерпевших поражение на предварительных выборах и упустивших шанс на переизбрание. И всё же характер – то есть готовность брать на себя ответственность за свою жизнь – это семя, из которого прорастает самоуважение.
Вот уж кто не понаслышке знал всё о самоуважении, так это наши бабушки и дедушки, и не важно, было оно у них или нет. Им с юных лет прививали дисциплину, уверенность в том, что жить – значит делать то, что не хочется, закрывать глаза на страхи и сомнения, постоянно выбирать между благами сиюминутными и несравнимо большими, пусть и неосязаемыми. Люди XIX века находили достойным восхищения, но отнюдь не удивительным то, что генерал Гордон Китайский надевает белый костюм, отправляясь защищать Хартум от войск Махди. Не казалось несправедливым, что путь к свободной земле Калифорнии лежит через тяготы, грязь и смерть. Зимой 1846 года двенадцатилетняя Нарцисса Корнуолл хладнокровно записывает в своем дневнике: «Отец был занят чтением и не замечал, что дом заполонили странные индейцы, пока матушка ему не сообщила». Даже не зная, что именно сказала матушка, мы вряд ли можем не впечатлиться произошедшим: отец семейства занят чтением, индейцы наводняют комнаты, мать подбирает слова так, чтобы не поднимать тревогу, а ребенок прилежно описывает событие и даже отмечает, что эта группа индейцев, «на наше счастье», была настроена довольно мирно. Индейцы – часть повседневной жизни, данность.
В том или ином обличье такие индейцы есть у каждого из нас. Повторюсь, важно признаваться себе в том, что всё стоящее имеет цену. Уважающие себя люди готовы к тому, что индейцы могут оказаться настроены враждебно, что предприятие может обанкротиться, а любовная связь может не стать вечным праздником лишь потому, что «мы венчаны с тобой». Они готовы поставить на кон частицу себя. Иногда они и вовсе отказываются от игры, но если играют, то в полной мере осознают свои шансы на победу.
Такого рода уважение к себе – это дисциплина, привычка ума; ее нельзя подделать, можно только развить, натренировать, выковать. Однажды мне рассказали, как справиться со слезами – надо надеть на голову бумажный пакет. На то есть чисто физиологические причины, как-то связанные с кислородом; психологический же эффект очень велик: едва ли кто-то станет воображать себя Кэти из «Грозового перевала» с бумажным пакетом из супермаркета на голове. То же касается всех мелких привычек, неважных самих по себе; сложно поддерживать в себе морок вожделения или сострадания под холодным душем.
Но все эти мелкие привычки обретают ценность, когда отражают нечто большее. Сказать, что битва при Ватерлоо была выиграна на спортивных площадках Итона, не значит утверждать, что Наполеона мог бы спасти ускоренный курс по игре в крикет. Устраивать званые ужины в тропическом лесу было бы бессмысленно, если бы мерцающие на лианах свечи не пробуждали глубоко укорененные привычки, ценности, составляющие суть нашей личности. Подобные ритуалы помогают вспомнить, кто мы и что собой представляем. А чтобы вспомнить, нужно знать.
Иметь ощущение собственной неотъемлемой ценности, которое и лежит в основе самоуважения, потенциально означает иметь всё: способность проводить границы, любить, оставаться равнодушными. Не иметь его – значит быть запертыми внутри себя, парадоксальным образом быть не способными ни на любовь, ни на равнодушие. Без уважения к себе мы, с одной стороны, вынуждены презирать тех, кто настолько несостоятелен, что почитает за честь общаться с нами, кто настолько лишен проницательности, что остается слеп к нашим неустранимым изъянам. С другой стороны, мы всецело зависим от воли всякого, кого встречаем, и занятным образом настроены – поскольку наше собственное видение себя неприемлемо – воплощать чужие ложные представления о нас. Мы льстим себе, думая, что желание угодить другим – это достоинство, проявление воображаемой эмпатии, свидетельство готовности отдавать. Разумеется, я буду Франческой для любого Паоло, Хелен Келлер для любой Энни Салливан: не обманем ничьих ожиданий, не откажемся от самой нелепой роли. По милости тех, о ком мы весьма невысокого мнения, мы играем заведомо провальные роли, и каждое поражение сулит лишь отчаяние от того, что придется снова угадывать и оправдывать чужие ожидания.
Этот феномен иногда называют «отчуждением от себя». В запущенной стадии мы перестаем отвечать на телефонные звонки в страхе, что нас о чем-то попросят; возможность сказать нет, не проваливаясь в пучину самоуничижения, в этой игре не предусмотрена. Каждая встреча требует слишком много сил, действует на нервы, истощает волю, малейший намек на мелочь вроде неотвеченного письма пробуждает настолько несоизмеримое чувство вины, что ответить становится и вовсе невозможно. Признать реальное значение неотвеченного письма, освободиться от чужих ожиданий, вернуть то, что принадлежит нам по праву, – в этом великая, ни с чем не сравнимая сила самоуважения. Без него человек рано или поздно дойдет до ручки: пустившись на поиски себя, обнаружит, что искать уже некого.
1961
Из головы не идет это чудовище
В одном не слишком выдающемся фильме ужасов (я даже не помню его названия) о механическом человеке, который проходит по дну Ист-Ривер до Сорок девятой улицы, а потом выбирается на сушу и направляется крушить здание ООН, встревоженная героиня обыскивает территорию вокруг своего загородного дома, когда оказывается, что механическое чудовище проникло в ее владения и пыталось похитить ее ребенка. (Мы-то знаем, что чудовище на самом деле просто хочет подружиться с девочкой, но ее мать, которая, вероятно, видела не так много фильмов ужасов, об этом не догадывается. Это усиливает патетику и драматическое напряжение.) Вечером того же дня героиня сидит на веранде и вспоминает произошедшее; ее брат выходит к ней, набивает трубку и спрашивает: «Ты чего такая мрачная, Дебора?» И она с горькой улыбкой отвечает ему: «Да не знаю, Джим. Просто из головы не идет это чудовище».
Просто из головы не идет это чудовище. Очень полезная фраза, она часто приходит мне в голову, когда я замечаю, в каком тоне самые разные люди пишут или говорят о Голливуде. В коллективном воображении американская киноиндустрия всё еще предстает механическим чудовищем, сконструированным для того, чтобы душить и разрушать всё интересное и ценное, всякое созидательное начало человеческого духа. Определение «голливудский» долгое время было уничижительной характеристикой и означало нечто причастное так называемой Системе – понятию, которое надлежит произносить с тем же зловещим ударением, которым однажды наделил слово «Синдикат» Джеймс Кэгни. Тот факт, что Система не только выкашивает таланты, но и отравляет душу, находит подтверждение в богатом фольклоре. Стоит упомянуть «Голливуд», как мы непременно вспоминаем, как Фрэнсис Скотт Фицджеральд умирал в Малибу в обществе одной лишь Шейлы Грэм, вымучивая сценарии фильмов выходного дня (тогда же он писал «Последнего магната», но это отношения к делу не имеет); мы привыкли вспоминать светлейшие умы поколения, которые разлагаются у бассейна в «Саду Аллаха» в ожидании звонка из здания Тальберга. (Вообще нужно некое особое романтическое мировосприятие, чтобы понять, почему в «Саду Аллаха» обстановка более пагубная, чем в нью-йоркском отеле «Алгонкин», и почему здание Тальберга и «Метро-Голдвин-Майер» действуют более угнетающе, чем здание Грейбара и «Вэнити фэйр». Эдмунд Уилсон, как раз обладающий такого рода романтическим складом ума, предположил однажды, что дело в погоде. Наверное, так и есть.)
Голливуд-Разрушитель. Таково было, по сути, романтическое представление об этом месте, и довольно быстро Голливуд сам начал его распространять: вспомните персонажа Джека Пэланса, которого Система в конечном счете убила в «Большом ноже»; или Джуди Гарланд и Джеймса Мэйсона, а еще раньше Джанет Гейнор и Фредрика Марча, в картине «Звезда родилась»: их погубила Система, или Студия (когда Голливудом правили старые гиганты индустрии, эти слова означали примерно одно и то же). На сегодняшний день испорченность, продажность и зарегулированность Голливуда превратились в крепкий фундамент американского общественного мнения, да и его, Голливуда, собственных представлений о себе, так что я не особенно удивилась, услышав недавно от молодого сценариста, что Голливуд «убивает в нем писателя». Этот «писатель» за десять лет, прожитых в Нью-Йорке, написал один комедийный (в противоположность «комическому») роман, несколько газетных рецензий на чужие комедийные романы и пару лет придумывал подписи к фотографиям в иллюстрированной периодике.
Так вот. Неудивительно, что образ Голливуда-Разрушителя всё еще преследует привычную среднюю интеллигенцию (видимо, чудовище рыскает в непроходимых зарослях между «Талией» и МоМА) или хотя бы тех ее представителей, кто пока не оценил, какой шик придает Голливуду похвала от «Кайе дю синема». (Те, кто уже оценил, заняли не менее радикальную позицию: без конца размышляют о том, что хотел показать Винсент Миннелли в картине «Встретимся в Сент-Луисе», ходят на семинары, посвященные Николасу Рэю, и тому подобное.) Что удивительно, чудовища боятся и в самом Голливуде, хотя именно там должны были бы знать, что монстр давно погребен, он умер естественной смертью несколько лет назад. Часть студии «Фокс» занял офисный комплекс под названием «Сенчури-сити»; «Парамаунт» снимает не сорок фильмов в год, а сериал «Бонанза». От того, что некогда было Системой, остался лишь налаженный механизм премьер, и даже «Сада Аллаха» больше нет. Едва ли не каждая картина – независимая; не этого ли все мы хотели? Разве мы не ждали, что это произведет революцию в американском кино? Наступила новая эпоха, эра «лучше меньше, да лучше», и что мы получили? Фильмов снимают меньше, но они совсем не обязательно лучше. Спросите в Голливуде, отчего так, и в ответ вам начнут бормотать что-то о чудовище. Говорят, в Голливуде невозможно «честно» работать. Что-то постоянно мешает. Студии или то, что от них осталось, обращают в прах любую задумку создателя. Люди с деньгами будто состоят в сговоре против режиссеров. Нью-Йорк таинственным образом умыкает пленку прямо с монтажного стола. Творцы зажаты в тисках стереотипов. Что-то отравляет «интеллектуальный климат». Если бы только им дали больше свободы, если бы только позволили зазвучать их самобытным голосам…
Если бы. В этих жалобах слышен очаровательный старомодный оптимизм в духе Руссо: якобы большинство людей, окажись они предоставлены сами себе, отбросят стереотипы и примутся мыслить самобытно и ярко, и голоса, стоит лишь раз их услышать, окажутся прекрасны и мудры. Думаю, никто не станет спорить с тем, что роман должен быть воплощением самобытного голоса, индивидуального опыта на бумаге, но сколько хороших или хотя бы интересных романов найдется среди тысяч, которые издаются каждый год? Сомневаюсь, что имеет смысл требовать большего от киноиндустрии. Обладатели самобытного голоса уже некоторое время снимают фильмы, в которых их голос звучит в полную силу; вспоминается Элиа Казан и его «Америка, Америка» и «Доктор Стрейнджлав» Стэнли Кубрика, хотя насчет голоса последнего я не испытываю особого энтузиазма.
Между тем возможность быть услышанными появилась не только у «интересных» голосов. «Лайф» приводит следующее высказывание Джона Франкенхаймера: «Голливуд больше не назовешь „индустрией“. Сейчас ничто не мешает переложить на пленку личные фантазии». Среди его личных фантазий обнаруживается картина «Всё рушится», в которой мы узнаем, что Уоррен Битти и Эва Мари Сейнт влюблены друг в друга, когда Франкенхаймер наплывом показывает лебедей, скользящих по глади пруда, и «Семь дней в мае», где настолько превратно передано, как говорит, думает и действует правящая элита Америки (насколько я помню, сенатор от Калифорнии в фильме ездил на «роллс-ройсе»), что слово «фантазия» впору применять к этому фильму исключительно в клиническом смысле. Карл Форман работал над очень достойными (в своем роде) картинами – среди них «Ровно в полдень» и «Пушки острова Наварон», – а затем, когда ему представилась возможность переложить свои фантазии на пленку, выпустил то, что он назвал «личным манифестом», – фильм «Победители», идея которого, пожалуй, только в том, что две головы лучше одной, если последняя принадлежит Форману.
Проблема в том, что американских режиссеров за редким исключением не слишком интересует стиль; сердце их жаждет дидактики. Спросите, как они собираются поступить с новообретенной абсолютной свободой, возможностью выступить с личным манифестом, и они найдут интересующую их «проблему» или «вопрос». Но за что бы они ни взялись, это будет проблема уже решенная или вопрос, который и вовсе никогда не вставал, однако не думаю, что они поступают так из осторожности или корыстного расчета. (На ум приходит один сценарист, который только недавно открыл для себя карликов, – хотя, как и все мы, наверняка жил в то время, когда они появлялись на литературных страницах журналов не реже, чем модель Сьюзи Паркер в рекламе. Этот сценарист видит в карликах символ разрушительного нравственного разложения современного человека. Кажется, он несколько отстал от времени.) Этот на первый взгляд продуманный выбор безопасных тем маскирует отсутствие воображения и леность ума, в каком-то смысле поощряемую положительным откликом широкой аудитории, немалого числа критиков и ряда людей, от которых ждешь более проницательного взгляда. Бравая критика Стэнли Крамера в «Нюрнбергском процессе», вышедшем на экраны в 1961 году, была направлена не на авторитаризм вообще, не на сами суды и сопутствовавшие им этические и юридические сложности, а на военные преступления нацистов, в оценке которых и так существовал определенный консенсус. (Если помните, «Нюрнбергский процесс» получил награду Киноакадемии; ее от лица «всех интеллектуалов» принял сценарист Эбби Манн.) Позже Крамер и Эбби Манн вместе работали над экранизацией «Корабля дураков»: они попытались привнести в фильм «несколько больше сочувствия и юмора» и перенесли действие романа из 1931 в 1933 год, чтобы еще раз подчеркнуть отважный протест против национал-социалистической партии. Форман в «Победителях» без конца настаивает на том, что победителей война перемалывает не менее безжалостно, чем побежденных – эту мысль едва ли можно назвать радикальной. (Поначалу кажется, что Форману присущ некий налет стиля, но это впечатление обманчиво – оно порождено обширными заимствованиями приемов у Эйзенштейна.) «Доктор Стрейнджлав» Кубрика, которому действительно присущ некий стиль, едва ли можно назвать отчаянно оригинальным; редкий случай раздувания из мухи слона. Джон Саймон заявил журналу «Нью лидер», что в «Докторе Стрейнджлаве» «достойной восхищения» оказалась «совершенная непочтительность ко всему, что истеблишмент принимает всерьез: ядерной войне, правительству, армии, международным отношениям, героизму, сексу и всему прочему». Не могу сказать, кто, по мнению Джона Саймона, составляет современный истеблишмент, но, если пробежаться в случайном порядке по списку, предшествующему «всему прочему», примеров непочтительности долго искать не придется. Нам всегда было свойственно шутить над сексом; журнал «Вэрайети» назвал «Один, два, три» Билли Уайлдера блистательной пародией на международные отношения; армия как тема для шуток воплотилась в образе сержанта Билко в «Шоу Фила Сильверса», а если исходить из того, что истеблишмент с неизменным почтением относится к «правительству», то, должна сказать, я наблюдала порой в прайм-тайм по телевизору весьма подрывные материалы. «И всё прочее». «Доктор Стрейнджлав» вышел незатейливой шуточкой о том, что между ядерной войной и всеми прочими войнами есть разница. К тому моменту, как Джордж Скотт сказал: «Думаю, прогуляюсь до командного пункта», Стерлинг Хэйден произнес: «Похоже, мы ввязались в настоящую войну», а бомбардировщики отправились в сторону советских целей под звуки песни «Когда Джонни вернется домой», Кубрик уже исчерпал весь свой арсенал шуток на тему и мог бы начинать отсчитывать минуты до того момента, как зрителю всё это начнет приедаться.
В итоге мы имеем несколько самобытных голосов, но гораздо больше посредственных. В Европе дела едва ли обстоят иначе. У итальянцев есть Антониони, создающий красивые, умные, замысловато и изящно выстроенные картины, которые воздействуют исключительно своей структурой; Висконти же, с другой стороны, чувствует форму хуже, чем кто-либо из современников. С тем же успехом, что его «Леопарда», можно посмотреть нарезку случайных стоп-кадров. Федерико Феллини и Ингмар Бергман поражают визуальным вкусом и удивительно плоским восприятием человеческого опыта; Ален Рене в фильмах «В прошлом году в Мариенбаде» и «Мюриэль, или Время возвращения» демонстрирует такой нарочитый стиль, что неизбежно возникает вопрос – уж не дымовая ли это завеса, уж не скрывает ли она пустоту. Что же до оригинальности, которую гораздо чаще приписывают европейскому кино, чем американскому, после «Боккаччо-70» язык больше не повернется машинально добавить определение «голливудская» к понятию «формула».
Что ж. Можно сказать, что, пусть и с некоторой помощью из-за рубежа, мы в Голливуде теперь совсем повзрослели и готовы строить собственный мир. Чудовище ослабило свою хватку; Гарри Кон больше не устраивает в «Коламбии» концлагерных, как тогда говорили, порядков. Успех в прокате всё меньше зависит от одобрения Американской ассоциации кинокомпаний. Никакого больше отбоя в десять, никаких «Ну пап!», теперь можно всё. Некоторым такая вседозволенность не слишком по душе; некоторым непременно хочется найти «причины», по которым наши фильмы получаются хуже, чем – мы свято верим – они могли бы быть. Недавно один продюсер жаловался мне на то, как сложно работать в Системе (хотя этого слова он не произнес). Он сказал, что мечтает экранизировать один рассказ Чарльза Джексона. «Просто потрясающая вещь, – уточнил он. – Но боюсь браться. Там про мастурбацию».
1964








