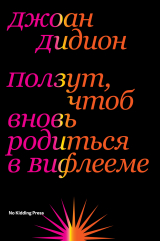
Текст книги "Ползут, чтоб вновь родиться в Вифлееме"
Автор книги: Джоан Дидион
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
Такими были Гавайи тогда. А затем началась Вторая мировая война. Молодые островитяне ушли на фронт и вернулись оттуда с новыми идеями. Несмотря на сопротивление, на Гавайи хлынули денежные потоки с материка. После Второй мировой покойный Уолтер Диллингем мог бы спуститься из своей виллы на склоне Даймонд-Хед на публичное слушание и бросить Генри Кайзеру самый мощный упрек, какой был в ходу до войны, – визитер, – но сила его осталась бы непонятной половине аудитории. Если не по существу, то по духу Вторая мировая превратила каждого в Диллингема, а тем, кто слишком медленно это осознавал, постоянно напоминали об этом политики, лидеры профсоюзов и наблюдатели с материка.
Безусловно, масштабы изменений зачастую переоцениваются, иногда в порыве чувств, иногда в стратегических целях, однако Гавайи уже действительно не те, что прежде. В Гонолулу до сих пор лишь один «Лоуэлл», и это Лоуэлл Диллингем, лишь один «Бен», брат Лоуэлла Диллингема – однако Бена Диллингема раскатал на выборах в Сенат 1962 года Дэниел Иноуэ, американец японского происхождения (в 1920-х, когда комитет конгресса обратился к отцу Бена Диллингема и Генри Болдуину с вопросом, почему на Гавайях почти не голосует японское население, те двое только и смогли предположить, что из Токио поступила команда не участвовать в выборах). Среди сторонников старой власти в Гонолулу до сих пор бытует мнение, что Большая пятерка «прогнулась» под профсоюзы – однако Джек Холл, волевой глава местного отделения Международного союза портовых и складских рабочих, которого когда-то осудили в соответствии с Актом Смита за попытку насильственного свержения правительства США, теперь занимает место в правлении Бюро помощи туристам и благодарит леди из «Внешнего круга» за старания ради «сохранения чистоты и прелести Гавайских островов». А Чинн Хо, который в школьные годы мелом записывал котировки для какого-то брокера, теперь не только владеет недвижимостью на несколько миллионов, но и домом того самого брокера на Даймонд-Хед, совсем рядом с владениями Бена Диллингема. «Просто он об этом мечтал, – объясняла мне племянница брокера, – когда ему было четырнадцать».
Но, возможно, лучший способ понять, что изменилось, – это зайти в школу Пунахо, которую когда-то основали миссионеры «для своих детей и детей своих детей», что до недавних пор толковалось весьма буквально. Старые классные журналы – каталог гавайской олигархии: год за годом на их страницах встречаются одни и те же имена, они же выбиты в камне или тонко вырезаны на латунных табличках на улице, что в Гонолулу зовется просто Стрит, она же Мерчант-стрит, где в угловых зданиях расположены офисы Большой пятерки и кипит большая часть деловой жизни Островов. На выпускном в 1881 году один из Александров произнес напутственную речь, а один из Диллингемов прочел напутственное стихотворение; в 1882 году кто-то из Болдуинов говорил об «иммиграции из Китая», очередной Александр – о том, что труд сам по себе есть наслаждение, а Бишоп – о солнечном свете. И хотя высшая каста гавайцев и белая олигархия всегда существовали бок о бок и, более того, смешивались путем брака, белые ученики Пунахо, когда дело доходило до школьных пророчеств о будущем, предполагали, что их гавайские одноклассники будут «играть в музыкальном коллективе».
Не то чтобы Пунахо перестала быть учебным заведением для детей власть предержащих; это по-прежнему так. «Пунахо всегда открыта для тех, кому суждено сюда попасть», – убеждал выпускников в недавнем школьном вестнике Джон Фокс, директор Пунахо с 1944 года. Но там, где в 1944 году было 1 100 учеников с медианным коэффициентом интеллекта 108, теперь уже 3 400 с медианой 125. Там, где раньше учащихся азиатского происхождения было десять процентов, теперь тридцать.
Так и выходит, что перед новой библиотекой Кука, где за архивами присматривает праправнучка миссионера Хайрама Бингема, среди цветущих плюмерий на крылечке сидят китайские мальчики с летными сумками «Пан-Американ», в которых лежат книги.
«Джон Фокс – личность спорная, как вы, наверное, знаете», – говорят иногда выпускники, но никогда не поясняют, о чем спор. Возможно, из-за того, что Гавайи преподносят себя в качестве образца современного плавильного котла, межрасовых отношений здесь в беседах касаются особенно деликатно. «Я бы не сказала, что у нас цветет дискриминация, – осторожно говорила мне одна женщина в Гонолулу. – Скорее здесь силен чудесный, чудесный дух соревновательности». Другие просто пожимают плечами. «Никто особо не настаивает. Азиаты – ну, скрытные, наверное, не совсем подходящее слово, но они не такие, как негры или евреи, они не лезут туда, где им не рады».
Взгляды на расовый вопрос, даже бытующие среди тех, кого на островах считают либералами, покажутся любопытными и удивительно наивными любому, кто провел последние турбулентные годы на материке. «Здесь определенно есть те, кто общается с китайцами, – сказала мне одна женщина. – Их и в гости приглашают. Например, к дяде моего друга постоянно заглядывает Чинн Хо». Звучит как «у меня есть друзья евреи», но я восприняла эту фразу так, как мне ее преподнесли, – так же, как примитивный прогрессивизм одной учительницы местной школы: мы шли по коридору, и она рассказывала мне о чудесах школьной интеграции, которые принесла война. «Смотрите, – сказала она, внезапно схватив за руку милую китайскую девочку и развернув ее ко мне лицом. – Такого вы бы до войны тут не увидели. Только посмотрите на эти глаза».
Таким образом в особенной и по-прежнему островной мифологии Гавайев тяготы войны обернулись предвестниками прогресса. Ответ на вопрос о том, воплотились ли они в жизнь, равно как и о том, является ли прогресс благом или злом, зависит от того, кого спрашивать. В любом случае, война определяет сознание жителей этих мест, она заполняет разум, нависает над Гонолулу подобно тучам над Танталом. Немногие говорят об этом. Чаще говорят о шоссе на острове Оаху, о кондоминиумах на Мауи, о пивных банках, брошенных у Священного водопада, и о том, что гораздо разумнее ехать не в Гонолулу, а сразу на курорт Мауна-Кеа, который открыл Лоренс Рокфеллер. (Вообще мнение о том, что из Гавайских островов побывать стоит исключительно на Мауи или Кауаи, настолько распространено, что в ожидаемое всеми возрождение Гонолулу верится с трудом.) Или, если ваш собеседник склонен мыслить широко, вы услышите что-нибудь в духе Джеймса Миченера, мол, Гавайи – это мультикультурный, прогрессивный рай с идеальными условиями труда, где прошлое примирилось с будущим, где глава профсоюза рабочих Джек Холл завтракает в Тихоокеанском клубе, где блюститель старых порядков на Островах, компания «Бишоп эстейт», объединилась с Генри Кайзером, чтобы превратить мыс Коко-Хед в 350-миллионное предприятие под названием «Гавайи-Кай». Если же ваш собеседник из туристического бизнеса, вы услышите о Годе миллионного посетителя (1970), о Годе двухмиллионного посетителя (1980), о том, как в 1969-м здесь побывали двадцать тысяч членов Ротари-клуба, и о Продукте. «По отчетам можно судить о том, что именно нам нужно, – говорит мне один делец от туризма. – Нам нужно уделять больше внимания формированию и адаптации продукта». Продукт – это место, где они живут.
Те, кто живет в Гонолулу уже какое-то время, – скажем, хотя бы лет тридцать – и уже в чем-то преуспел, козыряют именем Лоуэлл и рассказывают о своей благотворительной деятельности. Те, кто живет в Гонолулу совсем недавно и еще ни в чем не преуспел, мечтают открыть свою лавочку или заниматься недвижимостью и рассуждают о том, уместно ли повела себя Жаклин Кеннеди, появившись на ужине у Генри Кайзера в цветном платье муу-муу и босиком. («Ясное дело, сюда приезжают отдыхать, а не наряжаться по всем правилам, но всё-таки…») Они часто бывают на материке, но не успевают толком разобраться, что же там происходит. Им нравится развлекать и развлекаться, встречать и провожать гостей. «Что тут без них станет? – риторически вопрошала одна женщина. – То же, что субботним вечером в клубе в Расине, на висконсинском берегу». Они добры и полны энтузиазма, пышут здоровьем и светятся таким счастьем и такой надеждой, что иногда мне сложно с ними разговаривать. Думаю, они бы не поняли, зачем я приехала на Гавайи. И думаю, едва ли они поймут, какие воспоминания я увезу с собой.
1966
Твердыня вечная
Остров Алькатрас сейчас усеян цветами: оранжевые и желтые настурции, герани, зубровка, голубые ирисы, рудбекии с темной сердцевинкой. Сквозь трещины в бетоне прогулочного плаца пробиваются ростки ибериса. Ржавый мостик, словно ковром, покрыт ледяником. «Внимание! Не входить! Собственность США», – гласит большая, желтая и заметная издалека табличка. С 21 марта 1963 года, когда последние тридцать заключенных отправились в тюрьмы, содержание которых обходится подешевле, этот знак стоит здесь лишь для проформы: охранные башни пустуют, камеры заброшены. В Алькатрасе не так уж и неприятно находиться, когда здесь только цветы, ветер, стонет буй с колоколом, а со стороны Золотых Ворот движется приливная волна, но чтобы полюбить подобное место, нужно питать слабость к катакомбам.
Иногда такая слабость мне свойственна, и об этом будет мой рассказ. Сейчас на острове Алькатрас живут всего три человека. Джон и Мари Харт до сих пор занимают квартиру, в которой провели те шестнадцать лет, что Джон работал охранником; на этом острове они вырастили пятерых детей во времена, когда их соседями были Роберт Страуд по прозвищу Птицелов и Микки Коэн; ни Птицелова, ни Коэна здесь больше нет, как и детей Хартов – они уехали, свадьбу последнего отпраздновали на острове в июне 1966 года. Есть на Алькатрасе еще один житель – бывший моряк торгового судна Билл Доэрти. Джон и Билл на пару круглосуточно присматривают за двадцатидвухакровым островом и отчитываются перед Управлением служб общего назначения. У Джона Харта есть собака по кличке Даффи. У Билла Доэрти – пес по имени Герцог. Собаки не только составляют компанию своим владельцам, но и служат первой линией обороны острова. У Мари Харт из развлечений – угловое окно, откуда открывается панорамный вид на Сан-Франциско, что лежит на берегу залива в полутора милях от острова. У окна Мари пишет «виды» или играет на органе песни вроде «Старый черный Джо» и «Пойди прочь, дай мне уснуть». Раз в неделю Харты отправляются на лодке в Сан-Франциско, чтобы зайти на почту и в магазин «Сейфуэй» в районе Марина. Время от времени Мари Харт выезжает с острова, чтобы повидаться с детьми. Ей нравится говорить с ними по телефону, но с тех пор, как японское грузовое судно повредило кабель, на Алькатрасе уже десять месяцев нет телефонной связи. Каждое утро репортер Кей-джи-о, который сообщает о пробках на дорогах, сбрасывает с вертолета «Сан-Франциско кроникл», а когда есть время, заглядывает на чашечку кофе. Больше здесь никто не бывает, кроме сотрудника Управления служб общего назначения по имени Томас Скотт, который иногда приводит с собой очередного конгрессмена, потенциального покупателя острова, или, изредка, жену с маленьким сыном – на пикник. Желающих купить остров немало, мистер Скотт говорит, что на закрытых торгах за него можно выручить около пяти миллионов долларов, но Управление не может его продать, пока Конгресс не закончит рассматривать вопрос о создании на острове «парка мира». Мистер Скотт говорит, что рад бы уже избавиться от Алькатраса, но не моргнув глазом отказаться от управления целым островом с крепостью не так-то просто.
Какое-то время назад я побывала в этой крепости вместе с ним. Даже тюрьма из детских фантазий больше похожа на тюрьму, чем Алькатрас. Решетки и провода кажутся здесь неуместной формальностью; тюрьма – это сам остров, а холодные волны прилива – ее стены. Потому ее и называют Скалой, Твердыней. Билл Доэрти с Герцогом опустили для нас причал, и пока мы взбирались в гору на его «универсале», Билл рассказывал мистеру Скотту о мелком ремонте, который он то ли сделал, то ли еще только запланировал. Ремонт смотрители острова делают единственно для того, чтобы скоротать время, ведь правительство за содержание бывшей тюрьмы не платит. В 1963 году на полноценный ремонт потребовалось бы пять миллионов долларов, именно поэтому тюрьму и забросили. Те двадцать четыре тысячи долларов в год, которые тратятся на Алькатрас, идут в основном на оплату охраны и частично на 400 тысяч галлонов воды, которые ежегодно расходуют Билл Доэрти и Харты (на самом острове пресной воды нет, что усложняет поиски застройщика), на отопление двух квартир и на кое-какое освещение. Постройки буквально заброшены. Из дверей камер вырваны замки, электронные запирающие механизмы отсоединены. Отверстия для подачи слезоточивого газа в стенах столовой пусты, от морского воздуха краска пузырится и отслаивается гигантскими бледно-зелеными и охристыми пластами. Я недолго постояла в камере Аль Капоне, – блок «Б», второй ярус, номер 200, пять футов в ширину, девять в длину, без вида, который полагался заключенным со стажем, – и прошлась по одиночному блоку, куда при закрытых дверях не проникает ни единый луч света. «Улитка Митчел, – нацарапано карандашом на стене одиночной камеры номер 14. – Единственный человек, которого застрелили за то, что он слишком медленно шел». Рядом на стене календарь, месяцы размечены карандашом, дни зачеркнуты чем-то острым – май, июнь, июль, август какого-то неизвестного года.
С тех пор как Управление приобрело Алькатрас с целью застройки, Мистер Скотт обнаружил интерес к пенологии; он рассказывал нам о побегах и мерах безопасности, показывал берег, где при попытке бегства был убит Док, сын Мамаши Баркер. (Ему приказали вернуться в тюрьму, а он ответил, что предпочтет пулю, которую и получил.) Я заглянула в душевую, где в мыльницах до сих пор лежит мыло. Повертела в руках пожелтевшую брошюру, оставшуюся с пасхальной службы (Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес), постучала по клавишам прогнившего пианино и попыталась представить себе, какой была эта тюрьма когда-то: фонари всю ночь пляшут по окнам, охранники патрулируют коридоры, столовые приборы гремят, когда их пересчитывают и складывают в мешки, – прилежно попыталась вызвать в себе отвращение и ужас при звуке защелкивающихся дверей и отчаливающей лодки. И всё же мне было хорошо там, в развалинах, где нет ни мирской суеты, ни человеческих иллюзий; в пустоте, которую отвоевала себе природа там, где женщина играет на органе, чтобы заглушить вой ветра, а старичок играет в мяч с собакой по кличке Герцог. Я могла бы сказать, что вернулась, потому что долг есть долг, но, возможно, дело в том, что никто не просил меня остаться.
1967
Берег отчаяния
Недавно я отправилась в Ньюпорт посмотреть на знаменитые каменные «коттеджи» конца прошлого века, в которых некогда проводили лето богатые американцы. Они до сих пор стоят вдоль Бельвью-авеню и Клифф-Уолл: шелковые занавески поистерлись, но горгульи, памятники чему-то большему, чем они сами, нетронуты. Дома эти, очевидно, построены во имя некой высокой цели, но никто так и не смог объяснить мне, какой именно. Мне говорили, что великие летние особняки имеют музейную ценность, и предупреждали, что они чудовищны; уверяли, что образ жизни, который подразумевают эти дома, умопомрачительно элегантен или неописуемо отвратителен, что очень богатые люди отличаются от нас с вами, и конечно, налоги для них ниже, и пускай особняк «Брейкерс» – не эталон хорошего вкуса, но всё же, где крокетные воротца былых времен? Я читала Эдит Уортон, читала я и Генри Джеймса, который полагал, что эти дома должны стоять вечно в напоминание «о нелепой мести поруганных пропорций и здравого смысла».
Но дело совсем не в налогах, вкусе и поруганных пропорциях. Если кто-нибудь, по примеру миссис Ричард Гэмбрилл в 1900 году, нанимает архитектора Нью-Йоркской публичной библиотеки и одобряет проект дома в духе французского замка XVIII века на Род-Айленде, разбивает сад наподобие того, какой Генрих VIII устроил для Анны Болейн, и называет получившееся «Вернон-корт», такого человека уже не обвинишь в надругательстве над «здравым смыслом». Здесь что-то другое. Оценивать Бельвью-авеню с ее гигантскими несуразицами за коваными воротами с точки зрения эстетики нельзя; это последствия метастазирования капитала, доведенной до логического предела Промышленной революции, наводящие на мысль, что представления о том, что жить нужно «с комфортом» и «счастливо», возникли совсем недавно.
«Счастье» – это, в конце концов, этика потребления, а Ньюпорт – памятник обществу, в котором производство считалось нравственным ориентиром; если не конечной целью экономического процесса, то по меньшей мере поощрением. Принципу удовольствия здесь места нет. Иметь деньги на строительство усадьбы вроде «Брейкерс», «Марбл-хаус» или «Окер-корт» и выбрать для этого Ньюпорт – значит отрицать наличие возможностей; этот остров уродлив, скуден и лишен сурового благородства, ландшафт здесь такой, что насладиться им не получится, его можно только укрощать. О духе Ньюпорта красноречиво говорит популярность в этих местах топиарного искусства. Не то чтобы у владельцев дорогих поместий не было вариантов: Уильям Рэндольф Херст, например, предпочел построить себе замок не в Ньюпорте, а на берегу Тихого океана. Его можно понять: Сан-Симеон со всеми его особенностями – это и в самом деле la cuesta encantada, зачарованный склон, залитый золотистым солнцем, овеваемый ленивыми ветрами, нежное, романтичное место. Ньюпорт же дышит исключительно деньгами. Даже когда солнце пляшет пятнами на просторных лужайках и повсюду плещутся фонтаны, в воздухе нет ни нотки удовольствия, ни аромата славных традиций, а вместо ощущения, как приятно деньги можно потратить, лишь грузное бремя того, как тяжело они достаются: шахты, рельсы, литейные цеха, турбины, фьючерсы на бекон. Деньги в Ньюпорте столь осязаемы, что невольно возвращаешься мыслями к их сырьевым источникам. Вид на особняк «Розклифф» меркнет на фоне образа Большого Джима Фэйра, добывающего серебро в горах Невады, чтобы его дочь могла поселиться в Ньюпорте. «Старик Бёрвинд в гробу бы перевернулся, если б увидел у дома нефтевоз, – сказал мне охранник „Вязов“, когда мы осматривали утопленный сад. – Он-то всё углем промышлял, каменным углем». Мы стояли в лучах солнца перед мраморным летним особняком, но в голове у нас крутились одни и те же слова: уголь, каменный уголь, битум и антрацит, – мало общего с летними грезами.
Любопытно, что в этом смысле Ньюпорт – типично западный город, скорее похожий на Вирджинию-Сити, чем на Нью-Йорк, на Денвер, чем на Бостон. В нем есть грубость, свойственная фронтирным территориям. И, как и на фронтире, женщинам здесь делать нечего. Мужчины выкупили Ньюпорт и даровали женщинам право здесь поселиться. Подобно тому, как для севрского фарфора можно приобрести золоченую витрину, можно купить и мраморную лестницу, чтобы продемонстрировать свою женщину в выгодном свете. А еще женщин можно было выставлять напоказ в ажурных беседках, во французских салонах, да и в ином обрамлении тоже. Их обхаживали, им льстили, их желаниям потакали, для них красиво обставляли комнаты и покупали дорогие платья, им позволяли воображать, что они хозяйки дома и собственной жизни, но когда приходило время переговоров, их свобода оказывалась обманкой, trompe l’oeil. Мир частного владения Бейли-Бич превратил Эдит Уортон в неврастеничку, а Консуэло Вандербильт, против ее воли, в герцогиню Мальборо. Эти дома принадлежат мужчинам, это фабрики, под которыми простираются сети тоннелей и служебных железных дорог, их пронизывают водопроводы и резервуары для сбора соленой и дождевой воды, сводчатые хранилища столового серебра, запасники для фарфора и хрусталя, склады для скатертей, «обычных» и «для особого случая». Где-то во чреве поместья «Вязы» есть угольный бункер в два раза больше спальни Джулии Бёрвинд. Работа шестеренок в таких домах важнее желаний и предпочтений; ни великие страсти, ни утренние капризы не могут нарушить производственный цикл, остановить конвейер обедов, балов-маскарадов, marrons glacés. В столовой имения «Брейкерс» невозможно не мечтать о побеге под предлогом мигрени.
В таком случае оказывается, что Ньюпорт – это назидательная, фантастически сложная декорация к американской моралите, в которой деньги и счастье несовместимы. Странно подумать, что эта изощренная драма родилась в воображении людей именно такого сорта, однако рано или поздно все мы судим себя; трудно поверить, что Корнелиус Вандербильт ни разу не почуял в какой-нибудь мрачной бильярдной своего бессознательного, что, построив «Брейкерс», он проклял себя. Наверное, всем им мир казался чудеснее в молодые годы, когда они только начинали прокладывать рельсы, искать драгоценную руду в Комстоке и смели думать, что заполучат всю медь на континенте. У этих мужчин была мечта, и, возможно, они больше других сделали для того, чтобы она воплотилась в реальность. А в итоге они построили место, где наглядно, как в детской книжке, разворачивается притча о том, как производственная этика шаг за шагом ведет к несчастью, к ограничениям, к поломке в отлаженном механизме жизни. Бельвью-авеню преподает урок более жестокий, чем крах коммуны Брукфарм. Разве можно понять превратно предостережение, выбитое в камнях Ньюпорта? Разве можно подумать, что строительство железной дороги гарантирует спасение, когда на лужайках тех, кто строил ее, остались лишь тени измученных мигренями женщин и повозки для пони, бессрочно ожидающие давно умерших детей?
1967








