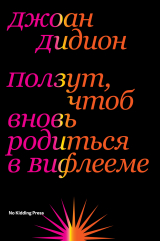
Текст книги "Ползут, чтоб вновь родиться в Вифлееме"
Автор книги: Джоан Дидион
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Гуаймас, штат Сонора
Дожди в Лос-Анджелесе затянулись, и утес начал осыпаться в воду, а мне совсем не хотелось одеваться по утрам; поэтому мы решили ехать в мексиканский Гуаймас, где стояла жара. Мы поехали не за тем, чтобы рыбачить на марлина. Не затем, чтобы нырять. Мы бежали от себя, а для этого следует отправиться на юг, через Ногалес, дождавшись дня, когда опрятные зеленые местечки наскучат и сердце потянется в суровый край, скажем, в пустыню. Пустыня – всякая пустыня – это долина смертной тени; вернувшись оттуда, чувствуешь себя Алкестидой, возвратившейся из Аида. За Ногалесом по обеим сторонам шоссе 15 нет ничего, кроме пустыни Сонора, мескитовых деревьев, гремучих змей и парящей на востоке Сьерра-Мадре, ни следа человека, лишь изредка по шоссе на север проносится нефтевоз, да вдалеке в клубах пыли время от времени мелькают на железной дороге пульмановские вагоны. Шоссе 15 проходит через Магдалену, затем Эрмосильо, где в баре отеля «Сан-Альберто» встречаются скупщики руды и скота из Америки. В Эрмосильо, расположенном в восьмидесяти пяти милях от Гуаймаса, есть аэропорт, но лететь – значит упустить всё самое главное. А главное – это забыть, где ты, отдаться на волю жары, обманчивых перспектив и едкого запаха мертвечины. Дорога мерцает. Глаза так и норовят закрыться.
А потом, едва пустыня становится единственной реальностью, дорога врезается в берег, а там и Гуаймас с его неземными вулканическими холмами и островами в теплом Калифорнийском заливе, что лениво трогает их берега и даже кактусы; вода – стекло, мираж, тревожно свистят и стонут в гавани корабли, призрачные шхуны заперты на суше, забыты. Таков Гуаймас. Этот город словно сошел со страниц романа Грэма Грина: тенистая площадь с ажурной аркой для оркестра, птичий гам, ветхий собор с голубой черепицей на куполе, на крест уселся гриф-индейка. На причалах тюки сонорского хлопка и кучи медного концентрата; на грузовых судах под панамскими и либерийскими флагами юные греки и немцы угрюмо всматриваются сквозь жаркие сумерки в причудливые, тесно сбитые холмы, разглядывают неподвижный затерянный город.
Намеревайся мы действительно потерять себя, мы бы остановились в городском отеле, где выцветшие бирюзовые ставни со скрипом распахиваются во внутренний двор, где в дверных проемах сидят старики и ничто не шелохнется, но мы остановились за городом, в большом старом отеле «Плайя де Кортес», построенном Южной тихоокеанской транспортной компанией еще до национализации железных дорог. Он тоже казался миражом: толстые беленые стены, темные ставни и яркая плитка сохраняли приятную прохладу, столы здесь были сколочены из эбеновых железнодорожных шпал, на окнах висели блеклые муслиновые занавески с аппликациями, массивные балки были обвязаны снопами кукурузы. Вокруг бассейна росли перечные деревья, во дворе – лимоны и бананы. Еда ничем не удивляла, но после ужина было приятно лежать в гамаке, слушать фонтаны и шепот океана. Всю неделю мы так и лежали, иногда без особого энтузиазма ловили рыбу, рано ложились спать, загорали и всё больше привыкали лениться. Муж поймал восемь акул, я прочла учебник океанографии, и мы почти не разговаривали. К концу недели мы решили было сходить куда-нибудь, но из развлечений были лишь старая станция слежения за спутниками и фильм «Мир цирка» с Джоном Уэйном и Клаудией Кардинале, и мы поняли, что пора домой.
1965
Лос-анджелесская тетрадь
1
Сегодня в лос-анджелесском воздухе висит какая-то тревога, какая-то неестественная тишина, напряжение. Это значит, что уже ночью придет Санта-Ана, горячий ветер с северо-востока, из-за перевалов Кахон и Сан-Горгонио, поднимет песчаные бури вдоль шоссе 66, иссушая холмы и нервы до точки воспламенения. Несколько дней из каньонов будет подниматься дым, ночами будут выть сирены. Ни по радио, ни в газетах не сообщали, что вот-вот придет Санта-Ана, но все, кого я сегодня видела, знают об этом не хуже меня. Мы чувствуем приближение этого ветра. Ребенок капризничает. Горничная злится. Я снова берусь препираться с телефонной компанией, затем решаю не тратить на это силы и ложусь, сдавшись на милость тому, что витает в воздухе – что бы это ни было. Жить с Санта-Аной значит привыкать, сознательно или бессознательно, смотреть на человеческое поведение как на механизм.
Помню, когда я только переехала в Лос-Анджелес и поселилась у тихого пляжа, мне рассказали, что индейцы, стоит подуть дурному ветру, бросаются в воду. Их можно понять. Когда дула Санта-Ана, Тихий океан зловеще переливался; по ночам я просыпалась не только от павлиньих криков в оливковых зарослях, но и от жуткой тишины: волны не набегают на берег. Стояла нестерпимая жара. Небо отливало желтым – говорили, это предвестие землетрясений. Моя соседка целыми днями не выходила из дома, по вечерам у них не горел свет, а ее муж бродил вокруг дома с мачете. По его словам, ему слышался то посторонний, то гремучая змея.
«В такие вечера, – писал о Санта-Ане Рэймонд Чандлер, – любая пьянка заканчивается дракой. Кроткие женушки ощупывают лезвия кухонных ножей и присматриваются к шее любимого мужа. Случиться может что угодно». Таков был этот ветер. Я тогда не знала, что он действует на нас таким образом неспроста, но оказалось, что это еще один случай, когда научные выводы подтверждают народную мудрость. Ветер Санта-Ана, получивший свое имя в честь одного из каньонов, что лежат на его пути, – это фён, он похож на своих двойников в Австрии и Швейцарии и на израильский хамсин. Постоянных злых ветров немало (самые известные из них, пожалуй, мистраль во Франции и сирокко в Средиземноморье), но фён выделяется особыми характеристиками: он возникает на подветренном склоне горного хребта, нагревается, пока опускается к земле, и превращается в горячие, сухие воздушные потоки. Стоит ему где-то объявиться, врачи тут же слышат жалобы на головную боль, тошноту, аллергию, «нервозность» и «депрессию». В Лос-Анджелесе некоторые учителя отказываются проводить уроки, потому что дети становятся неуправляемы. В Швейцарии в сезон фёна растет число самоубийств, а суд в некоторых кантонах считает ветер смягчающим обстоятельством. Говорят, что за ветром следят и хирурги, потому что в сезон фёна снижается свертываемость крови. Несколько лет назад один израильский физик выяснил, что уже за десять-двенадцать часов до появления первых порывов ветра в воздухе сильно повышается доля положительно заряженных ионов. Кажется, никто не знает, почему: одни предполагают, что дело в трении, другие винят солнечную активность. Так или иначе, повышается процент положительных ионов, а их избыток, если говорить по-простому, вгоняет людей в уныние. Едва ли можно придумать более механистическое объяснение.
На востоке США часто жалуются, что в Южной Калифорнии нет никакой «погоды», времена года сменяются беспрестанно, незаметно и вяло. Это заблуждение. Для местного климата характерны редкие, но суровые крайности: два периода ливневых субтропических дождей, которые тянутся неделями, размывают холмы и устремляют потоки вод к океану; дней двадцать в год – но не подряд – дует Санта-Ана, и в засушливом пекле пожаров не избежать. С первыми признаками Санта-Аны Лесная служба перебрасывает бригады из Северной Калифорнии на Юг, пожарные Лос-Анджелеса отменяют все штатные мероприятия, не связанные с возгораниями. Из-за Санта-Аны в 1956-м выгорел Малибу, в 1961-м – Бель-Эйр, в 1964-м – Санта-Барбара. Зимой 1966/1967 года, сражаясь с огнем, который распространился по склонам гор Сан-Габриэль, погибли одиннадцать человек.
Просмотрите передовицы лос-анджелесских газет в дни, когда дует Санта-Ана, и вы окажетесь очень близки к пониманию, что творится в этих местах.
Дольше всего за последние годы сезон Санта-Аны длился в 1957 году, тогда ветер дул не три-четыре дня, но целых две недели подряд, с 21 ноября по 4 декабря. В первый день вспыхнули 25 тысяч акров на склонах Сан-Габриэль, а порывы ветра достигали ста миль в час. В городе он разогнался до ураганной силы – 12 баллов по шкале Бофорта; падали нефтяные вышки, людям скомандовали во избежание травм от поднятых в воздух объектов покинуть центральные улицы. 22 ноября пожар в горах Сан-Габриэль вышел из-под контроля. 24 ноября в автокатастрофах погибли шесть человек, к концу недели «Лос-Анджелес таймс» уже вела статистику смертей на дорогах. 26 ноября известный адвокат из Пасадены, измотанный денежными проблемами, застрелил жену и двоих сыновей, а затем покончил с собой. 27 ноября убили и выбросили на ходу из машины двадцатидвухлетнюю разведенную жительницу Саутгейта. 30 ноября пожар в горах Сан-Габриэль всё еще не удавалось сдержать, а скорость ветра в городе составляла восемьдесят миль в час. В первый день декабря были убиты четыре человека, а на третий – ветер начал стихать.
Тем, кто не жил в Лос-Анджелесе, трудно понять, как много места занимает Санта-Ана в сознании горожан. Город в огне – так на самом глубинном уровне видит себя Лос-Анджелес: это отразилось в романе Натанаэла Уэста «День саранчи», и самое неизгладимое впечатление от беспорядков в Уоттсе в 1965 году оставили именно пожары. С шоссе, ведущего от побережья к центру, много дней подряд можно было увидеть город в огне – впрочем, мы всегда знали, что этим и кончится. Погода в Лос-Анджелесе – это вечная катастрофа, апокалипсис; как снегопады Новой Англии определяют ее образ жизни, так жестокость и непредсказуемость Санта-Аны сказывается на всех обитателях Лос-Анджелеса, подчеркивает непостоянство и капризы здешней жизни. Ветер шепчет, что мы ходим по краю.
2
– Вот зачем я хотела попасть в эфир, Рон, – доносится голос женщины, дозвонившейся в эфир ночной радиопередачи. – Просто хочу сказать, что та, которая написала «Секс для секретарши» – как бишь ее зовут, – разрушает нравственность нашей страны. Это позор. Статистика говорит сама за себя!
– «Секс в большом офисе», милочка, – поправляет диск-жокей. – Так называется книга. Написала Хелен Гёрли Браун. Так что же говорит статистика?
– Под рукой у меня ее, конечно, нет. Но она говорит сама за себя.
– Было бы интересно послушать. Будем же конструктивны, Ночная Пташка.
– Хорошо. Как вам такие данные, – по голосу слышно, что женщина закипает. – Я, может, книгу и не читала, но с какой стати она советует обедать с женатыми мужчинами?
Передача продолжалась в том же духе с полуночи до пяти утра, иногда включали песню, иногда кто-нибудь задавался вопросом о том, умеют ли плавать гремучие змеи. Беспочвенные домыслы о способностях гремучих змей – лейтмотив бессонных полуночных фантазий Лос-Анджелеса. Ближе к двум часам ночи в эфир прорвался мужчина «из-под Тарзаны», чтобы выразить свое несогласие. «Ночная Пташка, что звонила до меня, она, должно быть, имела в виду „Человека в сером фланелевом костюме“ или какую другую книгу, – сказал он, – потому что Хелен – одна из немногих, кто старается объяснить нам, что происходит на самом деле. Еще один такой – Хефнер, он тоже личность спорная, работает… скажем так, в другой области».
Какой-то старик, утверждающий, что однажды «лично» видел, как гремучая змея плыла по каналу Дельта-Мендота, призывал к «умеренной позиции» относительно Хелен Гёрли Браун. «Не стоит называть книгу порнографией, пока мы ее не читали, – заявил он, растянув слово „порнографией“. – Я считаю, нужно сперва в нее заглянуть. Дать ей шанс». Перезвонила та первая слушательница, взбаламутившая всех, и пообещала что обязательно заглянет в книгу. «А потом я ее сожгу», – добавила она.
– Хотите жечь книги? – добродушно рассмеялся в ответ диск-жокей.
– Жаль, что ведьм уже не жгут, – прошипела женщина.
3
Сейчас воскресенье, три часа пополудни, воздух загустел от жары и смога, и пыльные пальмы неожиданно приобрели таинственные и манящие очертания. Я играла с дочерью под струями разбрызгивателя, и теперь, не переодевшись, сажусь в машину и еду в «Ральфс маркет» на углу Сансет и Фуллер в старом бикини. Это не самая подходящая вещь для похода за покупками, но в «Ральфс маркет» на углу Сансет и Фуллер подобным костюмом никого не удивишь. И всё же крупная женщина в свободном хлопчатобумажном платье, прижавшись своей тележкой к моей у прилавка с мясом, громким, но сдавленным голосом произносит: «В таком виде – и по магазинам!» Люди отворачиваются, я изучаю упаковку бараньих ребрышек, а женщина снова повторяет свое замечание. Она ходит за мной по всему магазину, в отдел детского питания, молочных продуктов, мексиканских деликатесов, и толкает мою тележку при каждой возможности. Муж дергает ее за рукав. Я уже отхожу от кассы, как она в последний раз выкрикивает: «В таком виде – и по магазинам!»
4
У кого-то в Беверли-Хиллз вечеринка: розовая палатка, два оркестра, пара французских режиссеров-коммунистов в вечерних пиджаках от Кардена, чили и гамбургеры из «Чейзенс». За столом в одиночестве сидит супруга английского актера; она редко бывает в Калифорнии, хотя ее муж частенько здесь по работе. К столу подходит знакомый ей американец.
– Очень рад тебя видеть, – говорит он.
– Да ну.
– Ты здесь давно?
– Даже слишком.
Она берет новый напиток с подноса у проходящего мимо официанта и улыбается танцующему мужу.
Американец делает еще одну попытку. Он заговаривает о ее муже.
– Слышал, в этой картине он просто великолепен.
Женщина впервые переводит взгляд на американца. А затем наконец говорит, вежливо, но чеканя каждое слово: «А… еще… он… голубой».
5
Устная история Лос-Анджелеса пишется в барах, где играют пианисты. Таперы всегда играют «Лунную реку» и «Горную зелень», «Есть маленький отель» и «Нам не впервой». Посетители разговаривают, рассказывают друг другу о своих первых женах и последних мужьях. «Не теряй чувства юмора, – советуют они друг другу. – Это дорогого стоит». Строитель болтает с безработным сценаристом, который отмечает, в одиночестве, десятую годовщину свадьбы. Строитель сейчас работает в Монтесито. «У них там, – говорит он, – 135 миллионеров на квадратную милю».
– Разложение, – говорит сценарист.
– И это всё, что ты можешь сказать?
– Не пойми меня неправильно. Санта-Барбара – одно из самых… боже, да самое – самое прекрасное место в мире, но оно… разлагается. Они просто существуют на свои гнилые миллионы.
– Вот бы мне такого разложения.
– Нет, нет, – говорит писатель. – Я привык думать, что миллионерам не хватает… какой-то гибкости.
Захмелевший посетитель просит сыграть «Любимицу Сигма Хи», пианист говорит, что не знает такой песни. «И где ты только играть учился?» – спрашивает пьяный. «У меня два образования, – отвечает пианист. – Я преподаватель музыки». Я иду к телефонному автомату и звоню другу в Нью-Йорк. «Ты где?» – спрашивает он. «В Энсино, в баре с пианистом», – отвечаю я. «И зачем ты туда пошла?» «А почему бы и нет».
1965–1967
Со всем этим покончено
Сколько миль до Вавилона?
Дважды пять и шестьдесят.
А можно дойти при одной свече?
О да, и вернуться назад:
Если ноги легки, да шагать побойчей,
И туда и обратно дойдешь при свече.
Начало увидеть легко, конец – сложнее. Сейчас я с болезненной ясностью помню, с чего для меня начался Нью-Йорк, но не могу ухватить момент, когда он закончился, пробиться сквозь недоразумения, вторые попытки, загубленные устремления к той странице, на которой героиня уже не так оптимистична, как прежде. Мне было двадцать лет, когда я впервые увидела Нью-Йорк, стояло лето, я вышла из старого временного терминала аэропорта Айдлуайлд в новом платье, которое даже в старом терминале не казалось таким нарядным, каким виделось мне в Сакраменто, в воздухе витали нотки плесени, и какой-то внутренний голос, должно быть, взращенный фильмами о Нью-Йорке, которые я смотрела, песнями, которые слышала, и рассказами, которые читала, подсказывал мне, что жизнь уже не будет прежней. Так и вышло. Некоторое время спустя из каждого музыкального автомата в Ист-Сайде звучала песня «Но где та школьница, которой раньше я была», и иногда в поздний час я и сама об этом задумывалась. Теперь я знаю, что рано или поздно подобными вопросами задаются практически все, независимо от рода занятий, но в двадцать, двадцать один и даже двадцать три мы, что бы ни говорило нам об обратном, пребываем в блаженном заблуждении, что такого никогда ни с кем не случалось.
Разумеется, город мог бы быть и другой, будь обстоятельства, время и я другими; это мог бы быть Париж, Чикаго или даже Сан-Франциско, но я говорю о себе и, значит, о Нью-Йорке. В ту первую ночь я открыла окно автобуса, ехавшего из аэропорта, надеясь увидеть небоскребы на горизонте, но увидела только свалки Квинса и большие знаки, которые подсказывали, в какую сторону тоннель на Мидтаун, а затем стену летнего дождя (для меня, приехавшей с Запада, где летом не бывает дождей, даже это было в диковинку). Следующие три дня я провела в номере отеля под ледяным кондиционером, закутавшись в одеяло и пытаясь справиться с простудой и высокой температурой. Я не догадалась вызвать врача, потому что не знала, кому звонить, зато догадалась, что могла бы позвонить дежурному и попросить выключить кондиционер, но так и не позвонила, потому что не знала, сколько принято давать чаевых, – разве можно быть такой юной? Можно, скажу я вам. В эти три дня я только и могла, что разговаривать по телефону с парнем, за которого, как я уже тогда знала, не выйду замуж весной. Я сказала ему, что пробуду в Нью-Йорке всего полгода и что из моего окна виден Бруклинский мост. Позже выяснилось, что это был мост Трайборо, а в Нью-Йорке я осталась на восемь лет.
Оглядываясь назад, я думаю, что времена, когда я еще путалась в названиях нью-йоркских мостов, были счастливее тех, что пришли им на смену, может, дальше вы и сами это поймете. Я хочу рассказать вам, каково это – быть молодой в Нью-Йорке; как шесть месяцев превращаются в восемь лет с обманчивой легкостью кинематографического наплыва, ведь именно так мне и представляются все эти годы – чередой сентиментальных кадров, которые растворяются друг в друге, словно в старомодных комбинированных съемках: фонтаны около небоскреба Сигрэм – наплыв, – снежинки, двадцатилетняя я прохожу через вращающуюся дверь, а выхожу гораздо старше и на другой улице. Но особенно важно мне объяснить вам – а в процессе, надеюсь, и себе самой, – почему я больше там не живу. Часто можно услышать, что Нью-Йорк – город очень богатых и очень бедных. Гораздо реже говорят о том, что это место, по крайней мере, если вы приехали издалека, только для юных.
Помню, однажды холодным ясным декабрьским вечером я зазывала друга, который жаловался, что слишком надолго застрял в Нью-Йорке, на вечеринку. Наверняка, находчиво убеждала я его с высоты своих двадцати трех лет, там будут «новые лица». Он рассмеялся так, что буквально поперхнулся, и мне пришлось опустить стекло в такси и похлопать его по спине. «Новые лица! – проговорил он наконец, – даже не начинай». Оказывается, на последней вечеринке, куда он пошел в надежде на «новые лица», из пятнадцати гостей он уже когда-то спал с пятью женщинами и задолжал почти всем мужчинам. Тогда я тоже рассмеялась; падал первый снег, вдоль Парк-авеню, насколько хватало глаз, сверкали желтыми и белыми огнями высокие рождественские елки, на мне было новое платье, а истинную мораль этой истории мне предстояло понять еще нескоро.
Нескоро, потому что я попросту влюбилась в Нью-Йорк. Влюбилась не в поверхностном смысле слова, а так, как любишь первого, кто тебя касается, и как больше не любишь никого и никогда. Помню, как-то в сумерках я шла по 62-й улице, это была моя первая или вторая весна в Нью-Йорке – какое-то время они все походили друг на друга. Я опаздывала на встречу, но, выйдя на Лексингтон-авеню, купила персик и остановилась на углу, чтобы съесть его, думая о том, что выбралась с Запада и достигла миража. Я смаковала персик, ощущала, как потоки воздуха из метро обдувают ноги, чувствовала запахи сирени, мусора и дорогих духов и понимала, что рано или поздно придется за это платить: это место не для меня, я не отсюда, – но в двадцать с небольшим тебе кажется, что в будущем средств на твоем эмоциональном счету хватит, чтобы заплатить любую цену. Тогда я еще верила в возможности, у меня было характерное для Нью-Йорка чувство, что в любую минуту, в любой день и месяц может случиться нечто экстраординарное. В то время я зарабатывала всего 65–70 долларов в неделю («Просто сходи к Хэтти Карнеги», – без малейшей иронии советовали мне в журнале, в котором я тогда работала), и временами мне приходилось брать в долг продукты в «Блумингдейлс», но в письмах, которые я отправляла в Калифорнию, об этом не было ни слова. Я не говорила отцу, что мне нужны деньги, потому что тогда он бы их прислал и я уже не узнала бы, смогу ли справиться сама. В то время мне казалось, что зарабатывать на жизнь – это игра с произвольными, но довольно негибкими правилами. Если не считать зимних вечеров, скажем, в районе Семидесятых улиц, когда в половине седьмого было уже темно, с реки дул злой ветер, а я быстро шла к автобусу, заглядывая в светлые окна особняков, где повара готовят на чистых кухнях, и представляла себе, как женщины этажом выше зажигают свечи, а еще выше купаются красивые дети, – если не считать таких вечеров, я никогда не чувствовала себя бедной; я считала, что если мне понадобятся деньги, я всегда смогу их достать. Всегда смогу написать сразу в несколько изданий колонку для подростков под псевдонимом Дебби Линн, контрабандой провезти в Индию золото или стать девушкой по вызову за сто долларов, и ничто из этого не будет иметь значения.
Всё было обратимо, всё было возможно, стоило только протянуть руку. За каждым углом пряталось нечто увлекательное и до того мне неведомое, неизвестное. На какой-нибудь вечеринке я могла встретить человека, который называл себя «мистер Апелляция-к-эмоциям» и заведовал одноименным институтом. Или Тину Онассис Блэндфорд, или белого голодранца из Флориды, завсегдатая круга Саутгемптон – «Эль-Марокко» («У меня там связи, дорогая», – говорил он мне за тарелкой листовой капусты на своей просторной арендованной террасе), или вдову сельдерейного короля на Гарлемском рынке, или продавца пианино из Бонн-Терре, Миссури, или человека, который заработал и промотал два состояния в Мидленде, штат Техас. Я могла давать обещания себе и другим, и у меня была вся жизнь на то, чтобы их сдержать. Могла не спать всю ночь, могла совершать ошибки, и ничто из этого не считалось.
Дело в том, что в Нью-Йорке я занимала странное положение: мне никогда не приходило в голову, что там я живу настоящей жизнью. Мне вечно казалось, что я пробуду там еще пару месяцев, до Рождества, до Пасхи, до первого теплого дня. Из-за этого уютнее всего мне было в компании южан. Они, как и я, приехали в Нью-Йорк будто в бессрочный отпуск, не желая думать о будущем; временные изгнанники, знавшие время вылета всех рейсов в Новый Орлеан, Мемфис, Ричмонд или, в моем случае, в Калифорнию. Если у вас в ящике стола лежит расписание полетов, вы живете по несколько отличному календарю. Так, ближе к Рождеству было сложно. Другие могли спокойно уехать в Стоу, за границу или к матери в Коннектикут на праздники; те же, кто считал, что их дом не здесь, всё время бронировали и отменяли билеты, ждали непогоды, как последнего рейса из Лиссабона в 1940-м, и те из них, кто всё же остался, утешали друг друга апельсинами, копчеными устрицами в жестянках и прочими напоминаниями о детстве, собравшись вместе, как поселенцы в чужом краю.
Мы и были такими поселенцами. Не уверена, что уроженцы восточного побережья хорошо понимают, что такое Нью-Йорк, каким предстает Нью-Йорк выходцам с Запада или Юга. Для тех, кто родился и вырос на Востоке, особенно для тех, чей дядя подвизался на Уолл-стрит и кто по субботам отправлялся в магазин игрушек «ФАО Шварц» или примерял ботиночки в «Бест», а позже стоял в ожидании под Билтморскими часами и танцевал под Лестера Ланина, Нью-Йорк – это просто город, пускай особенный, но вполне подходящий для жизни. Но для тех, кто ни разу не слышал о Лестере Ланине, для кого «Центральный вокзал» означал субботнюю радиопередачу, а Уолл-стрит, Пятая авеню и Мэдисон-авеню были и не улицами вовсе, но абстракциями (деньги, мода, торгаши), Нью-Йорк никогда не был просто городом. Мы рисовали в воображении таинственный оазис, куда стекается вся любовь, деньги и власть этого мира, сияющую и хрупкую мечту. Помыслить о том, чтобы «жить» здесь, значило свести чудесное к земному; в волшебном роскошном Шанду не живут.
Мне было сложно понять молодых женщин, для которых Нью-Йорк был не эфемерным Эшторилом, а реальным городом, женщин, которые покупали тостеры, меняли кухонные шкафчики и строили планы на будущее. В Нью-Йорке я ни разу не покупала мебель. Около года я жила по чужим квартирам, потом поселилась в районе Девяностых улиц и обставила квартиру предметами, которые отдал мне друг, разъехавшийся с женой. А когда съезжала оттуда (в те времена всё рушилось, я всё бросала), то не забрала даже зимнюю одежду и карту Сакраменто, которая висела в спальне на стене и напоминала мне о том, кто я. После я переехала на 75-ю улицу, в монашескую четырехкомнатную квартиру, которая занимала весь этаж. Слово «монашеский» может сбить с толку; от него веет некой благородной аскезой. Пока я не вышла замуж и вместе с моим супругом не приехала кое-какая мебель, в этих четырех комнатах был лишь дешевый двуспальный матрас на пружинах, который я заказала по телефону в день переезда, и два французских садовых стула, которые одолжил мне друг. (Сейчас я с удивлением вспоминаю, что у всех моих друзей были любопытные и заведомо неудачные идеи для заработка. Кто-то закупал за границей садовые стулья, которые не слишком хорошо продавались в «Хаммахер Шлеммере», кто-то пытался торговать в Гарлеме выпрямителями для волос, кто-то писал от чужого имени разоблачительные статьи о «Корпорации убийц» для воскресных изданий. Пожалуй, никто из нас не принимал эти занятия всерьез, нас куда больше интересовала собственная, частная жизнь.)
Из всего обустройства в той квартире я разве что завесила окна полотнами искусственного шелка, когда мне в голову пришло, что на меня хорошо подействует золотистый свет; я не потрудилась как надо утяжелить шторы, и всё лето длинное золотистое полотно то и дело оказывалось по ту сторону окна, путалось и промокало под проливным полуденным дождем. Мне было двадцать восемь, когда я вдруг обнаружила, что не все обещания будут сдержаны, что некоторые события необратимы, что, в конце концов, ничего не пройдет бесследно, и отзовется каждое промедление, каждое отложенное дело, каждая ошибка, каждое слово, всё.
Ведь в этом было дело? В обещаниях? Теперь, когда Нью-Йорк возвращается головокружительными вспышками с нездоровым количеством подробностей, мне иногда хочется, чтобы память наконец подсунула мне искажения, которыми она славится. Долгое время в Нью-Йорке я пользовалась духами «Флёр де рокай», потом – «Лер дю там», и теперь малейшая нотка этих ароматов способна закоротить процессы в моей голове на целый день. Я не могу вдохнуть запах жасминового мыла Анри Бенделя или особой смеси приправ, с которыми варят крабов, не вернувшись в прошлое. В одном чешском местечке где-то на Восьмидесятых улицах, куда я когда-то ходила за продуктами, стояли бочки с крабами. Мы привыкли, что запахи будят воспоминания, но на меня подобное воздействие оказывают и другие вещи. Простыни в бело-голубую полоску. Вермут с черносмородиновым ликером. Выцветшие ночные сорочки, которые в 1959 или 1960 году были еще совсем новые, шифоновые шарфы, которые я купила примерно тогда же.
Я полагаю, что многие, кто в молодости жил в Нью-Йорке, прокручивают в голове одни и те же сцены. Помню, как часто сидела в чьей-нибудь квартире в пять утра с легкой головной болью. Один мой друг по ночам не мог заснуть и знал еще несколько человек с такой же проблемой; мы вместе смотрели, как светлеет небо, допивали последний стакан безо льда и брели домой по чистым мокрым улицам (ночью шел дождь? мы никогда его не видели), у некоторых такси еще горели фары, а улицы озарялись только красными и зелеными огнями фонарей. Бары «Уайт роуз» открывались рано; помню, как сидела в одном из них перед телевизором в ожидании запуска ракеты с человеком на борту, ожидание длилось так долго, что момент запуска я пропустила, разглядывая таракана на кафельном полу. Мне нравились поникшие ветви на Вашингтон-сквер на рассвете, плоская однотонная Вторая авеню, пожарные лестницы и зарешеченные витрины магазинов, странные и пустые.
Довольно сложно ругаться в половине седьмого утра после бессонной ночи, возможно, по этой причине мы и не спали; мне нравилось это время дня. В той квартире на Девяностых на окнах были ставни, так что я могла поспать несколько часов перед работой. В те времена я могла работать после двух-трех часов сна и большого стакана кофе из «Чок фул о’натс». Мне нравилось ходить на работу, нравился размеренный порядок подготовки очередного номера журнала, нравилось, как пропечатываются два, четыре цвета, черно-белые страницы, а затем появляется Продукт, не абстракция, а вещь, непринужденно поблескивающая глянцем, вещь, которую можно найти в газетном киоске и взвесить в руке. Мне нравилась каждая мелочь вычитки и согласования макета, нравилось работать допоздна, когда журнал отправлялся в печать, читать «Вэрайети» и ждать звонка из редакторской. Из окна своего кабинета я видела метеосводку на здании Общества взаимного страхования жизни «Нью-Йорк» и огни, которые попеременно складывались в слова «ТАЙМ» и «ЛАЙФ» – «время» и «жизнь» – над Рокфеллер-плазой; это доставляло мне ту же неясную радость, какую я испытывала, гуляя по городу розовато-лиловыми летними вечерами и глядя по сторонам: на супницы фирмы «Лоустофт» в окнах на 57-й улице, на нарядных людей, которые пытались поймать такси, на деревья, едва зазеленевшие в полную силу, на переливы света и воздуха – на всё, что только могли посулить деньги и лето.
Прошло несколько лет, но это ощущение чуда осталось со мной. Я начала ценить одиночество, ощущение, что никому не нужно сообщать, где я и чем занимаюсь. В прохладные дни я любила ходить пешком от Ист-Ривер до Гудзона и обратно, а в теплые – гулять по Гринвич-Виллидж. Подруга оставляла мне ключи от своей квартиры в Вест-Виллидж, когда уезжала из города, и временами я переселялась к ней, потому что телефон начинал меня раздражать (видите ли, в цветок уже тогда прокрался червь), а этот номер был не у многих. Помню, однажды за мной заехал кое-кто из тех, кто знал этот номер; у нас обоих было похмелье, я порезала палец, открывая ему пиво, и расплакалась, мы пошли в испанский ресторан и пили «Кровавую Мэри» с гаспачо, пока нам не стало лучше. Тогда я не испытывала вины за то, что трачу на это время, потому что впереди была целая жизнь.







