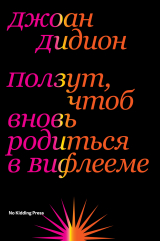
Текст книги "Ползут, чтоб вновь родиться в Вифлееме"
Автор книги: Джоан Дидион
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Так Роберт Пенн Уоррен описывал другую дорогу, но с тем же успехом он мог бы написать это и о шоссе 99, которое проходит через Долину; три сотни миль отделяют Бейкерсфилд от Сакраменто, и шоссе между ними тянется прямой линией, которая ни разу не скрывается из виду, когда летишь прямым рейсом из Лос-Анджелеса в Сакраменто. С непривычки пейзаж по обеим сторонам дороги кажется одинаковым в любой точке пути. Привычный же глаз различит, как хлопковые поля плавно сменяются плантациями томатов, а корпоративные владения – земли «Керн каунти ленд» и то, что осталось от предприятий ДиДжорджо, – частными, которые можно узнать по домику и рощице кустарниковых дубов на горизонте. Но это различие, по большому счету, не важно. Всё равно целый день движутся только солнце и оросители «Рейнбёрд» на полях.
Иногда на шоссе 99 между Бейкерсфилдом и Сакраменто появляется городок: Делано, Туларе, Фресно, Мадера, Мерст, Модесто, Стоктон. Некоторые из них разрослись, но все они похожи между собой: одно-, двух-, трехэтажные здания безыскусно расставлены так, что уютный магазинчик одежды соседствует с сетевым универмагом «У. Т. Грант», а напротив Банка Америки расположился мексиканский кинотеатр. Dos Películas, Bingo, Bingo, Bingo. За пределами центра (слово «центр» произносят чуть растягивая, с оклахомским акцентом, который распространился в последнее время в Долине) раскинулись кварталы старых каркасных домов: краска сходит, тротуары трескаются, редкие желтые витражные окна выходят на забегаловки «Фостерз фриз», экспресс-мойку для автомобилей или офис страховой компании – а дальше тянутся торговые центры, многочисленные типовые домики пастельных тонов в дощатой облицовке, и если такой дом видел на своем веку хотя бы один дождь, на его стенах расцветают легко узнаваемые признаки дешевой постройки. Для чужака, который едет по шоссе 99 в машине с кондиционером (и, скорее всего, торопится по делам, как и любой чужак, который едет по шоссе 99, ибо оно не ведет на Биг-Сур или в Сан-Симеон, не ведет в ту Калифорнию, за которой приезжают туристы), эти городки так безлики и бедны, что угнетают воображение. Они будто намекают, что вечера тут коротаются на заправке, а о коллективных самоубийствах сговариваются за бургером, не выходя из машины.
Но помните:
Вопрос: Чем Святая Земля похожа на долину Сакраменто?
Ответ: Видами и разнообразием даров земли.
Шоссе 99 действительно проходит через богатейший и наиболее развитый сельскохозяйственный регион в мире, через огромную теплицу под открытым небом, где растут урожаи на миллиарды долларов. Только вспомнив о богатстве Долины, начинаешь подозревать, что в монохромной простоте ее городков кроется какой-то неясный смысл, что она воплощает склад ума, который кому-то покажется странным. Жители Долины разделяют совершенное равнодушие к чужаку, который проезжает мимо в машине с кондиционером, они не замечают даже его физического присутствия, не говоря уж о его мыслях и желаниях. Ненарушимая обособленность – вот что связывает эти городки воедино. Однажды в Далласе я встретила женщину, очаровательную, привлекательную, привыкшую к гостеприимству и социальной гиперчувствительности Техаса, и она рассказала мне, что за четыре года, которые они с мужем по долгу его службы провели в Модесто, никто ни разу не пригласил ее зайти в дом. В Сакраменто это никого бы не удивило («Видимо, у нее не было там родственников», – сказали мне, когда я поделилась этой историей), ибо города в Долине понимают друг друга, их объединяет особый дух, понятный только здесь. Эти городки одинаково выглядят и одинаково мыслят. Я-то смогла бы отличить Модесто от Мерседа, но это потому, что я там бывала, ходила на танцы, к тому же в Модесто над главной улицей есть арка с надписью:
ВОДА – БОГАТСТВО
ДОВОЛЬСТВО – ЗДОРОВЬЕ
В Мерседе такой надписи нет.
Я говорила, что среди городков в Долине Сакраменто самый нетипичный. Так и есть – но только потому, что он крупнее и многообразнее, только потому, что в нем есть реки и законодательное собрание; истинный же характер его есть характер Долины, его достоинства и печали типичны для Долины. Летом в нем так же жарко; так жарко, что воздух дрожит и переливается, трава выгорает до белизны, а жалюзи на окнах целый день остаются закрыты; так жарко, что август каждый год приходит как стихийное бедствие; и местность здесь такая же плоская – настолько плоская, что наше семейное ранчо с едва заметным уклоном больше ста лет называли не иначе как «ранчо на холме». (В этом году о нем говорят как об участке под застройку, но это уже другая история.) Важнее всего то, что, несмотря на все вливания из внешнего мира, Сакраменто сохраняет характерную для здешних мест обособленность.
Чтобы прочувствовать эту обособленность, гостю достаточно купить две газеты, утреннюю «Юнион» и дневную «Пчела». «Юнион» – республиканское издание, весьма стесненное в средствах, «Пчела» – демократическое и влиятельное («ДОЛИНА ПЧЕЛ! – так озаглавили Макклэтчисы, владельцы издания во Фресно, Модесто и Сакраменто, свою рекламу в отраслевой прессе, – ВДАЛИ ОТ ЛЮБОГО МЕДИАВЛИЯНИЯ!»), но пишут в них очень похожие вещи, и тон редакционной колонки одинаково странный, чудесный и познавательный. В округе, где прочно и надолго укоренились демократы, «Юнион» по большей части тревожно рассуждает о возможности захвата Долины Обществом Джона Бёрча; «Пчела» же, до последней буквы верная завету своего основателя, ведет отчаянную борьбу против фантомов, которых на ее страницах до сих пор называют «властными группировками». Жив еще призрак Хайрама Джонсона, которому «Пчела» помогла стать губернатором в 1910 году. Жив призрак Роберта Лафоллета, которому в 1924 году «Пчела» преподнесла голоса избирателей Долины. В газетах Сакраменто есть нечто не вполне совместимое с местным образом жизни, нечто отчетливо неуместное. Инженеры аэрокосмической отрасли, как выясняется, читают «Сан-Франциско кроникл».
Однако газеты Сакраменто всего лишь отражают его своеобразие, судьбу Долины, навечно парализованной прошлым, которое больше не имеет значения. Сакраменто – город, выросший на фермерских хозяйствах, а затем к собственному изумлению открывший, что землю можно использовать гораздо более выгодно. (Торговая палата может предоставить отчеты о прибыли от сельского хозяйства, но не стоит над ними особенно размышлять; главное – это понимание, знание, что там, где некогда рос хмель, сейчас жилые кварталы Ларчмонт-Ривьеры, а на месте ранчо Уитни сейчас Сансет-сити, тридцать три тысячи домов и большой загородный клуб.) Теперь это город, где оборонная промышленность и ее вечно отсутствующая верхушка неожиданно стала превыше всего; город, в котором никогда еще не было столько людей и денег, но который потерял свой raison d’être. Это город, самые преданные жители которого чувствуют, что больше они здесь не нужны. Старые семьи до сих пор замечают только друг друга, но видятся уже не так часто, как раньше; они смыкают ряды, готовясь к долгой ночи, продают право пересекать их владения и живут на эти доходы. Их дети женятся друг на друге, по-прежнему играют в бридж, вместе выходят на рынок недвижимости. (Другого бизнеса в Сакраменто нет, реальна здесь только земля, и даже я, живя и работая в Нью-Йорке, решила, что должна записаться на заочный курс экономики землепользования в Калифорнийском университете.) Но поздно вечером, когда лед в бокалах уже растаял, непременно находится какой-нибудь Джулиан Инглиш, которому такой порядок не по нраву. Потому что там, на задворках города, расположились легионы инженеров аэрокосмической отрасли, которые говорят на особом снисходительном языке, поливают свои вьюнки и планируют надолго остаться в земле обетованной; они растят новое поколение коренных жителей Сакраменто и им наплевать, абсолютно наплевать на то, что их не приглашают в клуб «Саттер». Ты задумываешься об этом поздно вечером, когда весь лед растаял, и твое нутро холодеет от мысли, что клуб «Саттер» – совсем не то, что «Пасифик-Юнион» или Богемский клуб, а Сакраменто – лишь небольшой городок, а не Город с заглавной буквы. В таких метаниях маленькие городки и теряют свой характер.
Хочу рассказать вам историю из жизни Сакраменто. В нескольких милях от города располагается ранчо размером акров шесть или семь, у первого хозяина которого была единственная дочь. Она уехала за границу, вышла замуж за титулованную особу, а затем вернулась и вместе с супругом поселилась на ранчо. Отец построил для новой семьи большой дом с музыкальными комнатами, оранжереями и бальным залом. Зал был нужен, потому что семья часто устраивала приемы: гости из-за границы, гости из Сан-Франциско – празднества могли длиться неделями, приглашенные приезжали на специальных поездах. Супруги, конечно, давно умерли. Остался их сын, стареющий и одинокий. Он всё еще живет на ранчо, но не в огромном доме с оранжереями – этого дома больше нет. За долгие годы он постепенно сгорел: комната за комнатой, крыло за крылом. Сохранились лишь дымоходы, и в их тени на обожженной земле в трейлере живет одинокий наследник.
Эту историю знает мое поколение; сомневаюсь, что ее услышит следующее поколение – дети аэрокосмических инженеров. Кто им расскажет? Их бабушки живут в Скарсдейле, на другом краю континента, а двоюродных бабушек они вовсе не знают. «Старый» Сакраменто будет для них чем-то красочным, о чем они читали в журнале «Сансет». Они, надо думать, будут уверены, что до появления новой застройки ничего и не было, что на Эмбаркадеро, у реки, среди занятных магазинчиков и баров на месте бывших пожарных станций, до сих пор жив дух былого Сакраменто. Они никогда не узнают, что в дни уютной старины это место называлось Фронт-стрит (город, в конце концов, основали вовсе не испанцы) и служило пристанищем отщепенцам, миссионерам и наемным сборщикам урожая, что напивались здесь субботними вечерами: МИССИЯ БЛАГОЙ ЖИЗНИ ВО ХРИСТЕ, ИИСУС НАШ СПАСИТЕЛЬ, 25 ЦЕНТОВ/НОЧЬ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОЖАЕ. Следующее поколение утратит реальное прошлое, обретет вновь созданное и никогда не узнает, почему на окраине города на ранчо в шесть или семь акров стоит одинокий трейлер.
Однако, возможно, я слишком самонадеянно считаю, что эти новые люди что-то теряют. Возможно, если подумать, это история не о Сакраменто, а о том, что мы теряем, об обещаниях, которые нарушаем с возрастом. Возможно, я, сама того не зная, просто вжилась в роль Маргарет из старого стихотворения:
Ах, Маргарет, горюешь ты,
Что в роще падают листы?
Ах, Маргарет, такой закон —
Быть смертным человек рожден.
1965
Письмо из Рая, 21° 19’ северной широты, 157° 52’ западной долготы
Я слишком долго страдала от усталости, слишком часто нарывалась на ссоры, боялась мигрени, неудач и того, что дни становятся всё короче, и потому меня, строптивое тридцатиоднолетнее дитя, отправили на Гавайи, где не бывает зимы и неудач, а средний возраст – двадцать три года. Я могла бы стать новым человеком там, среди страховых агентов, приехавших в поощрительный отпуск, на который компании тратят по миллиону долларов в год, парамасонов-шрайнеров и разведенок из Сан-Франциско, расточительных секретарш и девушек в крошечных бикини, юношей в поисках идеальной волны, детей, освоивших азы экономики беспечности: один доллар сразу, по два с половиной в неделю потом, и вот у тебя уже собственная «Хонда» или доска для серфинга, а дальше можно и не платить; детей, которым никто не говорил, в отличие от меня, что светлым отрокам в кудрях, как и трубочистам, дóлжно обратиться в прах. Мне предстояло лежать под тем же солнцем, которое помогало Дорис Дьюк и Генри Кайзеру сохранять вечную надежду. Мне предстояло изображать из себя кого-то, кто потягивает ледяные дайкири и носит цветы в волосах, будто последних десяти лет просто не было. Я должна была своими глазами убедиться, что в конце пути не топь Уныния, а алмазные вершины.
И вот, недоверчивый визитер, я отправилась на Гавайи. Я не считаю, что истории, рассказанные очаровательными ручками гавайских танцовщиц, заслуживают тщательного изучения. Мне ни разу не довелось услышать ни единого слова на гавайском, включая «алоха» (и в особенности «алоха»), которое вполне точно отражало всё, что я имею сказать. Удивляться не хватает сил, а совесть не позволяет мне пересказывать вам скучные сценки с туристами со Среднего Запада в рубашках из сувенирных лавок или путешествующими вдовами в ярких платьях муу-муу и искусственных жемчугах, зарисовки о хула-шоу «Кодака», о воскресных вечеринках луау или о Школьной учительнице и Юном серфере. Теперь, когда вам стало понятно, что никаких теплых чувств к этому райскому месту, настоящему или искусственному, я не испытываю, мне будет сложно объяснить, чем оно меня тронуло, опечалило, взволновало, чем взбудоражило воображение и что останется в моей памяти, когда забудется запах пикаке и ананаса и шум ветра в кронах пальм.
Я выросла в Калифорнии и, возможно, поэтому Гавайи занимали значительное место в моих фантазиях. Ребенком я сидела на калифорнийском пляже и воображала, что, прищурившись, могу разглядеть острова – мерцание на фоне закатного солнца, мимолетный проблеск, едва заметный дефект картинки. В моих фантазиях была любопытная нестыковка: я не имела ни малейшего представления о том, как выглядят Гавайи на самом деле, в моем детском сознании существовали три далеких образа, между которыми не было никакой связи.
Первые Гавайи мне показали 7 декабря 1941 года в географическом атласе. Разноцветные булавки на карте означали, что идет война, что отцу придется уехать, что Рождество мы будем отмечать на чемоданах в снятом для этого номере недалеко от базы военно-воздушных сил и ничто никогда уже не будет как прежде. Затем, когда война кончилась, появились другие Гавайи: земля изобилия, которая смотрела на меня с фотографии в газете, где хорошо откормленные дилеры «Линкольн-Меркьюри» наслаждались бездельем у традиционного каноэ на пляже отеля «Роял» или спускались всей семьей с борта «Лерлайна». Это были Гавайи, где мои родственники постарше проводили зимние каникулы, учились кататься на серфборде (именно так это называли в те простые времена, и занимались этим исключительно на Гавайях), где крестные матери восстанавливали здоровье и благодушие и учили слова песни «Моя маленькая лачуга в Кеалакекуа на Гавайях». Не сосчитать, сколько ночей я провела без сна, слушая, как внизу поют эту песню, но точно знаю, что Гавайи, о которых в ней пелось, были совсем не те, что Гавайи 7 декабря 1941 года.
Кроме того, на фоне всегда присутствовали третьи Гавайи, место, которое было никак не связано ни с войной, ни с отдыхающими крестными. Только с прошлым, с потерей. Последним из моих прямых родственников на Гавайях жил мой прапрадедушка, который отправился туда молодым миссионером в 1842 году и, насколько мне дали понять, с тех пор жизнь на Островах, как называют Гавайи на Западном побережье, становится только хуже. Моя тетя вышла замуж за мужчину из семьи, которая поколениями жила на Островах, но и они больше не ездили туда даже в гости. «Со времен мистера Кайзера ни ногой», – говорили они, как будто постройка отеля «Гавайан виллидж» на осушенной земле в зоне прилива близ Форта-де-Рюсси одним поворотом строительного крана уничтожила их детство, детство их родителей, навсегда сгубила вишневый сад, где каждый вечер в легком мареве памяти накрывался стол на сорок восемь человек на случай, если кто-нибудь зайдет в гости; будто Генри Кайзер лично отправил их в Калифорнию доживать свои дни в изгнании среди одних лишь символов прошлого, курительных трубок и резных стульев, столового серебра на сорок восемь персон, бриллиантов, которые принадлежали королеве Лилиуокалани, и тяжелого постельного белья – напоминаний о долгих золотистых днях, канувших в лету.
Конечно, повзрослев, я поняла, что имя Генри Кайзера несет больше символического значения, чем реального веса, но и тогда я промахнулась, вообразив, что всему виной быстро растущее количество отелей и дешевые стодолларовые рейсы, что именно они нарушали старый порядок, обесценивали образ Гавайев из моего первого воспоминания – Гавайев, которые означали войну, нелепую историческую случайность, которой нет места ни в нежной идиллии, какой видится прошлое, ни в исступленных похвалах недорогому отдыху, какие, по-видимому, олицетворяют настоящее. Так у меня сложилось совершенно превратное представление о Гавайях, ведь если и есть в Гонолулу особое настроение, аура, которая придает огням лихорадочный блеск и окрашивает розовые катамараны пронзительной абсурдностью, которая будоражит воображение не в пример прочим райским местечкам, то это, вне всякого сомнения, аура войны.
Конечно, всё начинается с наших воспоминаний.
Гавайи – это наш Гибралтар, наше побережье Ла-Манша. Пилоты, чье зрение обострено круглогодичной ясностью тихоокеанской погоды, легко обеспечат наблюдение за радиусом вод, в центре которого расположены Гавайские острова. По мнению экспертов, боевая готовность Гавайев исключает возможность внезапного нападения со стороны Азии. Пока военно-морская база Перл-Харбор близ Гонолулу под нашим контролем, военные корабли и подводные лодки США могут спокойно выполнять миссии вне Тихого океана. Перл-Харбор – одна из величайших, если не величайшая морская крепость в мире. Она обеспечена обильными запасами топлива и продовольствия, снабжена отлично оборудованными госпиталями, в которых смогут залатать любые раны, нанесенные сталью. Это единственное надежное убежище для кораблей и людей на просторах Тихого океана, – писал Джон Вандеркук для «Вог» 1 января 1941 года.
Теперь, спустя двадцать пять лет, каждый день из бухты Кевало в Перл-Харбор выплывают ярко-розовые прогулочные яхты. Поначалу это кажется сомнительным развлечением: ясный день, но пассажиры будто соревнуются, у кого хуже туроператор и гостиничный номер и кому меньше повезло с едой в «Канлиз чаркойл бройлер». Вокруг яхты мальчишки ныряют за монетками; «Эй, мистер, – выкрикивают они. – Мелочишки не найдется?» Иногда какая-нибудь дама бросает купюру, а дерзкие коричневые руки ловят ее на лету, обманув, к неудовольствию женщины, все ее ожидания. Когда яхта покидает бухту, парнишки плывут обратно, набив деньгами щеки, дети капризничают и просятся на пляж, а женщины в свободных цветастых платьях и оставшихся с вечера гирляндах из цветов потягивают сок папайи и изучают буклет с заголовком: «Идеальный подарок: История 7 декабря в картинках».
Эта история, разумеется, всем знакома – даже детям, ведь они, конечно, видели Джона Уэйна и Джона Гарфилда в Перл-Харборе и провели не один дождливый день глядя на то, как Кирк Дуглас, Спенсер Трейси и Ван Джонсон вопрошают, почему не отвечает Хикэм, – так что гида никто толком не слушает. Там, где выбросилась на берег «Невада», теперь качается сахарный тростник. На острове Форд праздный отдыхающий загоняет шарик в лунку. Буфетчик разливает сок папайи. Сложно вызвать в памяти то, что мы надеялись здесь вспомнить.
А потом что-то происходит. Я плавала в Перл-Харбор на этой ярко-розовой яхте дважды, но так и не узнала того, что хотела узнать, а именно как реагируют на это место люди спустя четверть века. Я не узнала этого, потому что в какой-то момент расплакалась и перестала замечать людей вокруг. Я расплакалась там, где под толщей воды – не голубой, не бирюзовой, но темно-серой, как в любой гавани, – покоится линкор «Юта», и не могла остановиться, пока розовая яхта не миновала «Аризону», или, по крайней мере, то, что от «Аризоны» осталось: ржавую орудийную башню, что виднеется над серой водой, и развевающийся флаг – флот считает, что «Аризона» еще в строю, на борту корабля целая команда, 1102 человека из сорока девяти штатов. Я могу судить о том, как реагируют другие, только по чужим рассказам: говорят, что на подходе к «Аризоне» все затихают.
Пару дней назад некто всего на четыре года моложе меня сказал, что не понимает, чем меня так тронул затонувший корабль, и что самая неизгладимая трагедия, как он выразился, «нашего поколения», это не Перл-Харбор, а убийство Джона Кеннеди. Я только и смогла ответить, что мы из разных поколений, но промолчала о том, что мне хочется рассказать сейчас вам: в Гонолулу есть место еще более тихое, чем «Аризона» – Национальное мемориальное кладбище Тихого океана. Этим мальчикам, что похоронены в кратере потухшего вулкана под названием Панчбоул, кажется, всем лет по двадцать. Двадцать, девятнадцать, восемнадцать, а то и меньше. «Сэмюэль Фостер Хармон, – написано на одном из памятников. – Пенсильвания, рядовой 27-го отряда запаса, 5-я военно-морская дивизия, Вторая мировая война, 10 апреля 1928 – 25 марта 1945». Сэмюэль Фостер Хармон погиб в Иводзиме за две недели до своего семнадцатого дня рождения. Некоторые погибли 7 декабря, а некоторые уже после того, как «Энола Гей» сбросил бомбу на Хиросиму, некоторые полегли в день высадки на Окинаву, Иводзиму, Гуадалканал, а еще есть целый ряд могил тех, кто погиб, как мне сказали, на берегу острова, который мы уже и не помним. В просторном полом кратере над Гонолулу девятнадцать тысяч могил.
Я поднималась туда не раз. Если подойти к самому краю воронки, видно город. Я смотрела на Вайкики и бухту, на забитые дороги, но наверху было тихо – и достаточно высоко, чтобы тропическая влага легким туманом оседала на траву бóльшую часть дня. Однажды мне встретилась пара; они оставили три гирлянды из плюмерий на могиле солдата из Калифорнии, который погиб в 1945 году в девятнадцать лет. Когда женщина наконец возложила гирлянды на могилу, они уже начали увядать, потому что долгое время она просто стояла и теребила их в руках. Как правило, я могу мыслить о смерти в долгой перспективе, но тогда я задумалась о том, что помнят спустя двадцать один год о человеке, который погиб в девятнадцать. Больше я никого не видела в кратере, кроме людей, которые стригли траву и рыли новые могилы, – теперь сюда свозят тела из Вьетнама. Могилы, которые засыпали на прошлой, позапрошлой неделе и даже месяц назад, пока стоят без каменных памятников; над ними лишь пластиковые таблички с именами, забрызганные землей и тронутые туманом. Земля в этой части кратера твердая и утоптанная, но в вечном облаке влаги быстро растет трава.
До Хотел-стрит от кратера недалеко. Эта улица для Гонолулу – то же самое, что Маркет-стрит для Сан-Франциско: никогда не спящий центр портового города. Судно «Корал Си» пристало к берегу на прошлой неделе; оно привезло из Вьетнама 165 человек – отдохнуть и восстановиться – и еще три с половиной тысячи моряков завернули сюда по дороге на Окинаву, а затем во Вьетнам (все они были из восстановленной пятой военно-морской дивизии, в которой, как вы, возможно, помните, служил Сэмюэль Фостер Хармон). Кроме того, прибыло пополнение личного состава для Перла, Хикэма, лагеря Х. М. Смита, форта Шафтер, Форта-де-Рюсси, баз военно-воздушных сил Беллоуз и Канеохе и казарм Шофилд, и все они рано или поздно оказались на Хотел-стрит. Так происходило всегда. Военно-морской флот ликвидировал публичные дома в конце Второй мировой, но подобные улицы почти не меняются от войны к войне. Девушки с цветками гибискуса в волосах неспешно прогуливаются перед игровыми автоматами, японскими банями и массажными салонами. «Требуются массажистки, – гласят вывески. – Бодрящее новое чувство!» Предсказательницы подпиливают ногти за бумажными занавесками в цветах. Парнишки из дрэг-шоу «Мальчики будут девочками» стоят вдоль тротуара в блестящих вечерних платьях, курят и разглядывают моряков.
А моряки напиваются. Кажется, и здесь им всем лет по двадцать – двадцать, девятнадцать, восемнадцать, и все они пьяны, потому что наконец выбрались из родного Де-Мойна, но пока не добрались до места службы в Дананге. Они заглядывают в заведения, где можно заплатить девушке, чтобы с ней потанцевать, и в стриптиз-клубы с фотографиями Лили Сент-Сир и Темпест Сторм в витринах (первая танцевала в Калифорнии, а вторая – в Балтиморе, но это неважно, субботним вечером в Гонолулу все танцовщицы выглядят одинаково), ищут в карманах четвертаки, чтобы посмотреть Фильм-о-котором-все-говорят в подсобке магазина, где продают «Саншайн», «Нюд» и все эти бульварные романы с закованными в цепи девушками на обложках. Они ламинируют фотокарточки. Они записывают собственные голоса («Привет, родная, я сегодня в Гонолулу») и разговаривают с девушками, в волосах у которых цветки гибискуса.
Но по большей части они понемногу напиваются, толкутся на тротуарах, стараются не попадаться местному вооруженному патрулю и подбивают друг друга сделать татуировку. С показной удалью срывают с себя рубашки за полквартала до салона татуировок Лу Норманда, а потом сидят с напускной невозмутимостью, пока игла выводит на теле изображение сердца или якоря, а у тех, кто особенно пьян или смел, распятого Христа с красными стигматами. Их друзья толпятся снаружи стеклянной кабинки, наблюдают, как краснеет кожа приятеля, и всё это время из кантри-энд-вестерн-бара по всей Хотел-стрит разносится «Король дорог». Песни меняются, парнишки приезжают и уезжают, но тату-салон Лу Норманда стоит на том же месте вот уже тридцать лет.
Пожалуй, неудивительно, что над местами знаменитых поражений, могилами семнадцатилетних солдат и центральной улицей портового города разносится эхо войны. Но оно звучит не только там. Война вплетена в саму ткань гавайской жизни, накрепко вшита в местные настроения и экономику, она определяет не только память о прошлом, но и видение будущего. Все разговоры в Гонолулу рано или поздно обращаются к теме войны. Сидя у себя в саду в Макики-Хайтс среди цветов соландры и звездчатого жасмина, собеседники бросают взгляд на Перл-Харбор, выпивают и рассказывают о дне, когда всё началось. По радио, вспоминают они, раздался голос Уэбли Эдвардса, повторяющий: «Воздушная тревога, ищите убежище, это не учебная тревога». Ничего примечательного в этих словах нет, но память о них примечательна. Вспоминают, как люди уезжали к холмам, парковались на склоне и смотрели на взрывы – так же поступают в наши дни в ожидании цунами. Вспоминают, как в школьных классах разбили госпиталь и как детей постарше отправляли охранять склады незаряженного оружия. Они смеются над тем, как пытались уехать в тумане по шоссе Пали в девять вечера, когда по команде всё погрузилось во тьму, как жены тащили в отделение Союза христианских женщин толстые книги и большие носовые платки и показывали девушкам с отдаленных островов, как смастерить койку для раненого; вспоминают, что тогда на весь район Вайкики приходилось лишь три отеля, «Роял» для моряков, «Халекулани» для прессы и «Моана». Они умудряются произвести впечатление, что последний раз бывали в Вайкики в 1945-м, может, в 1946-м. «Наверное, „Роял“ вообще не изменился», – говорил мне один житель Гонолулу, от дома которого до отеля минут восемь ходьбы. «Халекулани, – говорил другой так, будто это название только что всплыло у него в памяти и он даже не уверен, что отель всё еще существует, – вот где можно было весело выпить». Тогда все мои собеседники были моложе, и молодость их наполняет те годы сиянием.
А потом, если им причитается доля от продажи Гавайев – а на Островах осталось мало людей, которые отказываются считать, что эта доля им причитается, – они уверяют, что Гавайи ждет блистательное будущее. И хотя экономика Гавайев завязана в первую очередь на военной отрасли, во вторую – на туристической, а в третью – на субсидиях на выращивание сахарного тростника (классический пример ложной экономии), будущее Гавайев полно радужных перспектив, потому что Острова – это транспортный узел Тихого океана, и чаще этой фразы в Гонолулу можно услышать только словосочетание «наш чудесный дух алоха». Местные жители подчеркивают, что Гавайи – транспортный узел Тихого океана не только для туристов, но и для – тут они замолкают, поднимают бокал, внимательно его изучают и говорят: «Ну а если вдруг ситуация повернется в другую сторону, для этого здесь место тоже отличное». Наверное, нигде в США о возможной войне не говорят с такой невозмутимостью.
Конечно, легко предположить, почему это так: одну войну Гавайи уже пережили, а Гонолулу даже сейчас находится в военной зоне, насыщен военной лексикой и горячо предан военному делу. Но на самом деле причина кроется глубже. К войне здесь относятся на редкость двусмысленно: большинство жителей островов, пусть неосознанно, полагают, что война – это насилие во благо, орудие социального прогресса. И, конечно, именно Вторая мировая, переломившая хребет сахарному феодализму, открыла двери для обновления экономики и расшевелила застоявшийся социальный порядок, навсегда разрушила славный, но суровый колониальный мирок, в котором кучка семей заправляла всеми делами штата и решала, где закупать, как экспортировать, кого допускать на рынок, как далеко им можно зайти и когда пора их выдворить.
У большинства из нас есть какой-то образ предвоенных Гавайев. Мы слышали о Большой пятерке, имеем общее представление о том, что несколько семей заполучили значительную часть средств и власти на Гавайях и долгое время держали всё в своих руках. Реальность гавайской власти была одновременно и менее, и более очевидна, чем мы можем себе представить. Акулы Большой пятерки – Си Брюэр, Тео Дэвис, «Американ фэкторс», «Касл Кук» и Александр Болдуин – начинали как посредники между плантаторами и клиентами; по существу же именно они и управляли плантациями. За годы семьи Большой пятерки и несколько других – таких, как Диллингемы, которые вели свой род от выброшенного на берег моряка, построившего первую на Гавайях железную дорогу, – заключали между собой браки, сидели друг у друга в правлении, захватывали перевозки, страховое дело и финансы и, наконец, составили благодушную олигархию, столь отличную от материковой.
Почти полвека этот замкнутый директорат распространял свое влияние на все сферы гавайской жизни, и власть его проявлялась незамедлительно и лично. «Американ фэкторс», например, до сих пор владеет крупнейшим на Гавайях универмагом «Либерти хаус». В 1941 году «Сирс, Робак и K°» тайно, через посредников выкупила землю под магазин на окраине Гонолулу. Открыть его получилось лишь тогда, когда глава компании, Роберт Вуд, заявил, что готов купить собственное судно для транспортировки товара. До того оставался открытым вопрос, согласится ли транспортная компания «Мэтсон навигейшн» под управлением «Касл Кук» и Александра Болдуина перевозить товары для тех, кто так дерзко пытался соперничать с предприятиями Большой пятерки.








