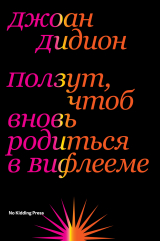
Текст книги "Ползут, чтоб вновь родиться в Вифлееме"
Автор книги: Джоан Дидион
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
Конечно, активисты – не те, чье мышление давно закоснело, а те, кто разделял творчески-анархический подход к революции, – давно разглядели то, что не смогла увидеть пресса: мы стали свидетелями чего-то очень важного. Мы стали свидетелями того, как кучка жалких необразованных детей отчаянно пыталась создать сообщество в социальном вакууме. Раз увидев этих детей, мы уже не могли закрывать глаза на этот вакуум, не могли больше притворяться, что распад связей в обществе обратим. Это не был привычный бунт поколений. Где-то между 1945 и 1967 годом мы забыли объяснить детям правила игры, в которую нам выпало играть. Быть может, мы и сами перестали верить в эти правила, а может, нам попросту не хватило мужества. Возможно, некому было завести разговор. Эти дети выросли вне заботливой сети двоюродных братьев и сестер, тетушек и бабушек, семейных врачей и добрых соседей, которые передают из поколения в поколение общественные ценности. Эти дети бесконечно переезжали: «Сан-Хосе, Чула-Виста, и вот я здесь». Они не столько бунтуют против общества, сколько ничего о нем не знают и способны лишь выдавать обратно некоторые из наиболее громких его контроверз: Вьетнам, пищевая пленка, таблетки для похудения, атомная бомба.
Они выдают ровно то, что им предлагают. Потому что не верят в слова; слова, как учит Честер Андерсон, – это удел серой массы, а мысль, которой нужны слова, – корыстный выпендреж; их лексикон состоит из банальностей, подсказанных обществом. Я, так уж вышло, до сих пор полагаю, что способность самостоятельно мыслить зависит от владения языком, и не испытываю никакого оптимизма, когда вижу детей, которые, имея в виду, что их родители разошлись, говорят, что они из «неполной семьи». Им шестнадцать, пятнадцать, четырнадцать лет, они всё младше, целая армия детей, которые ждут, что им подарят слова.
Питер Берг знает много слов.
– Питер Берг здесь? – спрашиваю я.
– Может быть.
– Вы Питер Берг?
– Да.
Причина, по которой со мной он своими словами делиться не спешит, в том, что три из известных ему слов – «вредительство от журналистики». Питер Берг носит золотую серьгу и, пожалуй, это единственный человек в Хейт-Эшбери, которому золотая серьга придает смутно зловещий вид. Он состоит в Мимической труппе Сан-Франциско, члены которой основали Фронт освобождения художников для тех, кто «стремится сочетать творческие порывы с участием в общественно-политическом процессе». Из этой труппы в 1966 году, во время беспорядков в Хантерс-Пойнте, и выросли «Диггеры». Тогда казалось, что раздавать еду и устраивать на улицах кукольные представления, в которых высмеивалась Национальная гвардия, – благое дело. Вместе с Артуром Лишем Питер Берг составляет теневое руководство «Диггеров», и именно он сначала сформулировал, а затем и запустил в прессу весть о том, что летом 1967 года Сан-Франциско наводнят двести тысяч нищих подростков. Наш единственный разговор с Питером Бергом был о том, что он считает меня лично ответственной за подписи к кубинским фотографиям Анри Картье-Брессона в журнале «Лайф», но мне нравится наблюдать за ним, когда он занят своими делами в Парке.
Дженис Джоплин поет с Big Brother and the Holding Company в парке Пэнхендл, почти все вокруг под кайфом, приятная погода, воскресенье, время – где-то от трех до шести, и, как говорят активисты, обычно именно в эти три часа в Хейт-Эшбери что-то случается. И, конечно же, Питер Берг тут как тут. Он с женой, еще шестью или семью людьми, Связным Честера Андерсона, и, что странно, они в блэкфейсе.
Я говорю об этом Максу и Шэрон.
– Уличный театр, – объясняет мне Шэрон. – Должно быть улетно.
Мимы подходят ближе, и странности продолжаются. Во-первых, они бьют людей по голове игрушечными пластиковыми дубинками, а во-вторых, на спинах у них надписи: «СКОЛЬКО РАЗ ВАС НАСИЛОВАЛИ, ВОЛОСАТИКИ?», «КТО УКРАЛ МУЗЫКУ ЧАКА БЕРРИ?» и тому подобное. Они раздают листовки «Коммуникационной компании», которые гласят:
этим летом тысячи не-белых и не-благополучных скитальцев спросят почему вы отказались от того что им недоступно как вы с этим живете и почему ты с длинными волосами не педик они хотят присвоить хейт-стрит любой ценой, ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЛИ, К АВГУСТУ ХЕЙТ-СТРИТ ПРЕВРАТИТСЯ В КЛАДБИЩЕ.
Макс читает листовку и встает. «Как-то стремновато», – говорит он, и они с Шэрон уходят.
Мне приходится остаться, потому что я ищу Отто. Я иду туда, где мимы встали кольцом вокруг черного парня. На все вопросы Питер Берг отвечает, что это уличный театр, и, полагаю, представление началось: сейчас они тычут в черного парня дубинками. Тычут, скалятся, раскачиваются на носках и ждут.
– Вы меня раздражаете, – говорит парень. – Я начинаю злиться.
Вокруг собрались еще несколько черных ребят. Они читают надписи на спинах и наблюдают.
– Только начинаешь злиться? – спрашивает кто-то из пришедших. – Тебе не кажется, что уже пора бы?
– Приятель, музыку Чака Берри никто не крал, – говорит черный парень, изучавший надписи на спинах. – Музыка Чака Берри для всех.
– Да? – говорит девушка в блэкфейсе. – А все – это кто?
– Ну, – мнется он. – Все. Кто в Америке.
– В Америке! – взвизгивает девушка в блэкфейсе. – Посмотрите только, он еще об Америке рассуждает!
– Послушай меня, – беспомощно говорит он. – Погоди.
– А что эта Америка для тебя сделала? – усмехается девушка в блэкфейсе. – Белые подростки могут всё лето болтаться в Парке и слушать музыку, которую украли, потому что их богатенькие родители шлют им деньги. А тебе кто деньги шлет?
– Послушай, – говорит черный парень, повышая голос. – Если вы хотите устроить тут заварушку, то не стоит…
– Давай, головешка, расскажи нам, что стоит, а что не стоит, – перебивает его девушка.
Младший из блэкфейс-труппы, серьезный высокий парень лет девятнадцати-двадцати, мнется позади. Протягиваю ему яблоко и спрашиваю, что происходит. «Я с ними недавно, только начал вникать, но, понимаете, район захватывают капиталисты, и Питер… впрочем, спросите его лично».
Питера я спрашивать не стала. Спектакль продолжался еще некоторое время. Но в то воскресенье, между тремя и шестью часами, все были слишком обдолбаны, погода была слишком хорошая, а банды Хантерс-Пойнта, которые обычно приходили между тремя и шестью часами по воскресеньям, заявились в субботу, и никакой заварушки не произошло. Пока я ждала Отто, я спросила у совсем юной девушки, с которой была немного знакома, что она об этом думает. «Это вроде называется уличный театр», – ответила девушка. Я поинтересовалась, не видит ли она в этом политического подтекста. Моя семнадцатилетняя знакомая крепко задумалась и вспомнила пару слов, услышанных где-то. «Может, это как-то связано с Джоном Бёрчем», – предположила она.
Наконец нахожу Отто, и он говорит: «У меня дома такое – тебе крышу снесет». Мы приходим к нему: на полу в гостиной маленькая девочка в бушлате рассматривает комиксы. Она то и дело сосредоточенно облизывает губы, и единственное, что кажется в ней странным, это белая помада.
– Ей пять, – говорит Отто. – И она под кислотой.
Пятилетнюю девочку зовут Сьюзен, и она говорит, что ходит в детский сад. Она живет с матерью и еще несколькими людьми, только что переболела корью, хочет на Рождество велосипед и очень любит кока-колу, мороженое, Марти из группы Jefferson Airplane, Боба из Grateful Dead и походы на пляж. Она вспоминает, как давным-давно была на пляже, и жалеет, что не взяла ведерко. Уже год мать дает ей кислоту и пейот. Сьюзен называет это «ловить глюки».
Я пытаюсь спросить, есть ли в ее садике дети, которые тоже ловят глюки, но сбиваюсь на ключевых словах.
– Она спрашивает, другие дети в твоей группе тоже под кайфом бывают, глюки ловят? – говорит одна из подруг матери. Она и привела сюда девочку.
– Только Салли и Энн, – говорит Сьюзен.
– А как же Лия? – подсказывает подруга матери.
– Лия, – говорит Сьюзен, – в мой садик не ходит.
Утром, пока все спали, трехлетний Майкл, сын Сью-Энн, устроил пожар. Дон успел потушить огонь, и почти ничего не пострадало. Мальчик же обжег руку, и, наверное, по этой причине Сью-Энн разволновалась, когда увидела, как он жует электрический шнур. «Поджаришься в дым!» – закричала она. Дома были только Дон, один из товарищей Сью-Энн по макробиотике и какой-то случайный знакомый, который был здесь проездом по пути в коммуну у хребта Санта-Лусия, и никто не заметил, как Сью-Энн кричит на Майкла: все слишком увлеченно искали на кухне завалившийся за прожженную половицу отменный марокканский гашиш.
1967
II. Личное
О том, зачем я веду блокнот
«„Та женщина, Эстель, – написано на листе, – отчасти из-за нее мы с Джорджем Шарпом сейчас не вместе“. Грязное крепдешиновое платье на пуговицах, бар при отеле, железнодорожная станция Уилмингтон, 9:45, август, понедельник, утро».
Это запись в моем блокноте, следовательно, она что-то для меня значит. Долго всматриваюсь в нее. Сначала у меня возникает лишь общее представление о том, что я делала каким-то августовским утром, в понедельник, в баре отеля напротив станции Пенсильвания-роуд в Уилмингтоне, штат Делавер (ждала поезда? опоздала? это был 1960-й? или 1961-й? как я вообще оказалась в Уилмингтоне?), но я точно помню: я там была. Женщина в грязном крепдешиновом платье на пуговицах спустилась из номера за пивом, а бармен уже не в первый раз слышал, почему они с Джорджем Шарпом сейчас не вместе. «Ага, – сказал он, продолжая мыть пол. – Вы рассказывали». У другого конца стойки сидит девушка. Она демонстративно разговаривает не с мужчиной, который сидит рядом, а с кошкой, греющейся в треугольнике солнечного света у приоткрытой двери. На девушке клетчатое шелковое платье, строчка на подоле слегка разошлась.
Вот что там происходило: девушка приезжала на Восточное побережье, а теперь возвращается в город, мужчина, который сидит рядом, остается; ее ждут лишь липкие летние тротуары и междугородние телефонные разговоры в три часа ночи, от которых ей будет не сомкнуть глаз, пока таблетки наконец не погрузят ее в сон на всё утро, очередное парное августовское утро на исходе лета (1960-го? 1961-го?). Прямо с поезда в Нью-Йорке ей нужно будет бежать на обед, и неплохо бы ей иметь булавку, чтобы подколоть подол шелкового платья в клетку. Вообще ей бы хотелось забыть и про обед, и про подол и просто сидеть в этом прохладном баре, где пахнет чистящим средством и солодом, и подружиться с женщиной в крепдешиновом платье на пуговицах. Ей что-то стало жалко себя, и она хочет сравнить свои обстоятельства с печалями Эстель. Вот в чем там было дело.
Зачем я это записала? Чтобы не забыть, очевидно, но что именно я пыталась запомнить? Что из этого действительно произошло? Реально ли хоть что-то из этого? Зачем я вообще веду блокнот? Очень легко обмануться, отвечая на эти вопросы. Побуждение делать записи по сути компульсивно, его невозможно объяснить тому, кто его не разделяет, а выгода его случайна и вторична, в том смысле в каком любое компульсивное поведение пытается оправдать себя. Полагаю, проявляется эта склонность, если она есть, уже в колыбели. Меня тянуло записывать что-нибудь с пяти лет, однако я сомневаюсь, что моя дочь вообще когда-нибудь станет этим заниматься: это удивительно блаженный и открытый миру ребенок, который счастлив тем, что дает ему жизнь, не боится засыпать и смело просыпается. Те же, кто ведет личные блокноты, – это люди особой породы, одинокие, склонные навязчиво упорядочивать мир вокруг себя, тревожные пессимисты, вся жизнь которых с самого рождения омрачена вечным предчувствием потери.
Мой первый блокнот – откидной с красной обложкой – подарила мне мать, предположив, и вполне разумно, что я перестану ныть и научусь развлекать саму себя, записывая свои мысли. Снова этот блокнот я увидела несколько лет назад. Первая запись – рассказ о женщине, которая была уверена, что замерзает насмерть арктической ночью, но, когда рассвело, оказалась в пустыне Сахара, где ей суждено было умереть от жары еще до полудня. Понятия не имею, откуда в пятилетней головке взялся такой ироничный и экзотический сюжет, но в нем очевидно пристрастие к крайностям, которое осталось со мной до взрослых лет. Будь у меня еще и склонность к аналитическому мышлению, я бы сочла эту историю более правдоподобной, чем всё, что я когда-либо рассказывала о вечеринках в честь дня рождения Дональда Джонсона или о том, как моя двоюродная сестра Бренда засыпала в аквариум наполнитель для кошачьего туалета.
Итак, мои записи никогда не были достоверной хроникой событий или мыслей, чем не являются и сейчас. Будь это так, это было бы следствием совсем иного побуждения, желания зафиксировать реальность – и иногда мне жаль, что мне оно совсем не свойственно. У меня никогда не получалось вести дневник; весь спектр моего отношения к повседневной жизни умещается между крайним безразличием и неприкаянной отрешенностью, и всякий раз, когда я пыталась тщательно записать события дня, меня одолевала такая скука, что результат можно было назвать в лучшем случае туманным. Что значат все эти «ходила в магазин», «печатала», «обедала с Э.», «в унынии»? В какой магазин? Что именно печатала? Кто такая Э.? Кто был в унынии, Э. или я? И кому какое дело?
Собственно говоря, с подобными бессмысленными записями я покончила раз и навсегда; место их заняло то, что обычно называют ложью. «Всё было не так», – часто говорят мои родственники, когда я рассказываю о событиях, при которых мы присутствовали вместе. «Это была не твоя вечеринка, и нашли мы вовсе не черную вдову, всё было совсем не так!» Весьма вероятно, что они правы: мне не только с трудом удается отделить то, что действительно произошло, от того, что лишь могло бы произойти, но и кажется неубедительным, что для моих целей это различие имеет хоть какое-то значение. Наверняка в тот день, когда отец вернулся домой из Детройта в 1945 году, я не ела никакого вареного краба, но эта деталь, вышивкой по канве дня, добавила описанию правдоподобия. Мне тогда было десять, и я бы вряд ли запомнила, что ела в тот день. И даже если краб был, вряд ли события вращались вокруг него. Но именно благодаря этому вымышленному крабу я словно наяву вижу тот день, знакомый, как заигранное до дыр видео из семейного архива: приносящий дары отец, ребенок в слезах – привычная сцена, в которой смешались любовь и чувство вины. Ну или мне так казалось. Аналогичным образом в том августе в Вермонте наверняка не было снега, ветер не кружил в ночи снежные хлопья, и, вероятно, никто кроме меня не чувствовал, как твердеет под ногами земля, как уже умерло лето, хоть мы и притворялись, что нам тепло, – но такое у меня было чувство, и, как знать, возможно, снег вполне мог бы и пойти. Или действительно шел.
Такое у меня было чувство: эта характеристика гораздо точнее отражает суть моих записей в блокноте. Порой я обманываю себя, изобретая причины, по которым веду блокноты, представляя, будто в том, чтобы сохранять свои наблюдения, есть некая добродетель бережливости. Присмотрись, заметь, запиши, говорю я себе, и однажды утром, когда мир покажется пустым и блеклым и мне останется лишь притворяться, что я занимаюсь тем, чем должна, то есть пишу; однажды утром, оказавшись на мели, я открою блокнот и найду там всё – забытый счет, на котором накопились проценты, оплаченный обратный билет в большой мир: диалоги, случайно подслушанные в отелях, лифтах, шляпном гардеробе в «Павильоне» (один мужчина среднего возраста показывает другому номерок и говорит: «Я под этим номером в футбольной команде играл»); портреты Беттины Аптекер, Бенджамина Зонненберга и Тедди Штауффера («мистера Акапулько»); внимательные заметки о теннисистах-любителях, неудавшихся моделях и греческих наследницах судоходных компаний, одна из которых преподала мне ценный урок (я могла бы почерпнуть то же самое из Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, но, наверное, каждому нужна собственная встреча с богачом). Перед интервью, когда я наконец добралась до ее щедро уставленной орхидеями гостиной сквозь парализованный метелью Нью-Йорк, она спросила, идет ли на улице снег.
Иными словами, я воображаю, что мои записи – о других. Хотя это, конечно, не так. То, что один человек сказал другому у гардероба в «Павильоне», не имеет ко мне никакого отношения; подозреваю даже, что его фраза – «Я под этим номером в футбольной команде играл» – никак не затронула моего воображения, скорее, просто напомнила о том, что я когда-то читала. Наверное, «Рывок на восемьдесят ярдов». Да и женщина в крепдешиновом платье на пуговицах в баре Уилмингтона совершенно меня не заботит. Меня, конечно, всегда интересует девушка в клетчатом шелковом платье, которую я в блокноте даже не упомянула. Запомнить, каково было быть мной, – смысл всегда в этом.
Нелегко в этом признаваться. Нам с детства внушают, что другие – кто угодно, все – по определению интереснее, чем мы; нас приучают быть скромнее и не высовываться. («Ты – самый незначительный человек среди присутствующих, не забывай об этом», – говорила гувернантка Джессике Митфорд накануне каждого мероприятия; я записала ее слова себе в блокнот, потому что подобный голос лишь недавно перестал звучать в моей голове всякий раз, когда мне нужно появиться на людях.) Только детям и старикам позволено пересказывать за завтраком сны, распространяться о себе, перебивать беседу рассказом о пикнике на пляже, любимых платьях в цветочек и радужной форели в заливе близ Колорадо-Спрингс. От остальных ожидается – и недаром, – что они изобразят недюжинный интерес к чужим любимым платьям и форели.
Так мы и поступаем. Но записные книжки выдают нас, потому что с каким бы тщанием мы ни записывали, что видим вокруг, общий знаменатель всего, что мы видим, – это всегда, очевидно, бесстыдно неумолимое «я». Речь не о тех записях, которые заведомо предназначены для широкой публики и в которых тщеславие цементирует ряд изящных умопостроений; нет, речь о чем-то более интимном, об обрывках мыслей, таких коротких, что им не найти применения, о неясной и хаотичной россыпи слов, которые имеют смысл только для тех, кто их породил.
Иногда те, кто их породил, и сами с трудом отыскивают в них смысл. Например, мне вроде бы незачем всю жизнь помнить о том, что за 1964 год в Нью-Йорке осело 720 тонн сажи на квадратную милю, но в блокноте есть такая запись с пометкой «факт». Мне нет никакой нужды держать в памяти, что Амброз Бирс любил менять заглавную «Л» в имени Лиланда Стэнфорда на значок фунта стерлингов или что «умные женщины на Кубе почти всегда ходят в черном» – модный совет, который мне вряд ли пригодится. Не кажется ли вам, что польза от этих заметок в лучшем случае невелика?
Записка, приколотая к пиджаку в китайском стиле, выставленному в полуподвальном музее окружного суда Иньо в калифорнийском городе Индепенденс: «Этот пиджак в китайском стиле часто был на миссис Минни Брукс, когда она читала лекции о своей коллекции чайников».
Перед отелем «Беверли-Уилшир» из машины выходит рыжеволосая женщина в шиншилловой накидке, с сумкой от Луи Виттона, на бирке надписи:
МИССИС ЛУ ФОКС
ОТЕЛЬ «САХАРА»
ВЕГАС
Хорошо, пожалуй, чуть больше, чем невелика. Пускай я никогда не была знакома с миссис Минни Брукс и приехала в округ Иньо уже тридцати лет от роду, она и ее пиджак в китайском стиле возвращают меня в детство: я росла в точно таком мире, в домах, захламленных индийскими поделками, кусочками золотой руды, серой амбры и сувенирами, которые моя тетя, Мерси Фарнсворт, привозила с Востока. Миссис Лу Фокс, напротив, вестница мира чуждого, в котором все мы живем сейчас, – но разве плохо напомнить себе об этом? Разве не может миссис Минни Брукс напомнить мне о том, кто я? Разве не может миссис Лу Фокс напомнить мне о том, кем я не являюсь?
Бывает, однако, что вычленить смысл оказывается сложнее. О чем именно я думала, когда записывала, что отец одного моего знакомого до биржевого краха платил за освещение своего жилья на берегу Гудзона 650 долларов в месяц? Зачем мне нужна была фраза Джимми Хоффы «У меня есть недостатки, но склонность ошибаться не входит в их число»? Пусть мне и любопытно, где делают прически девушки, путешествующие с Синдикатом, когда приезжают на Запад, но смогу ли я когда-нибудь воспользоваться этой информацией? Не лучше ли рассказать об этом Джону О’Харе и забыть? Что делает в моем блокноте рецепт квашеной капусты? Что за сорока ведет этот блокнот? «Он родился в ночь, когда „Титаник“ пошел ко дну». Отличная фраза, и я даже припоминаю, кто ее произнес, но разве она не из тех, что лучше звучат в реальной жизни, чем из уст какого угодно вымышленного персонажа?
Но, как и прежде, я имею в виду всё то же: я вовсе не обязана использовать где-то эту фразу – мне важно вспомнить женщину, которая ее произнесла, и день, когда я ее услышала. Мы сидели на террасе ее дома у моря, допивали вино, оставшееся с обеда, и ловили скудные лучи зимнего калифорнийского солнца. Женщина, муж которой родился в ночь, когда «Титаник» пошел ко дну, хотела сдать дом в аренду и вернуться к детям в Париж. Помню, я тогда сказала, вот бы я могла позволить себе снимать дом за тысячу долларов в месяц. «Со временем сможете, – ответила она лениво. – Со временем всё приходит». На солнечной террасе легко верилось в «со временем», но слабое послеполуденное похмелье не заставило себя ждать, по дороге к супермаркету я переехала черную змею, а потом подслушала, как кассирша рассказывает мужчине передо мной, почему она наконец разводится, и меня охватил необъяснимый страх. «Он не оставил мне выбора – говорила она снова и снова, пробивая чек, – у него с ней семимесячный ребенок, у меня нет выбора». Мне бы хотелось думать, что мой ужас относится к уделу человеческому, но боялась я, конечно, за себя. Я хотела детей, но у меня их не было. Я хотела дом за тысячу долларов в месяц. И еще у меня было похмелье.
Всё возвращается. Возможно, нелегко усмотреть ценность в том, чтобы вновь погружаться в то настроение, но я ее вижу; мне кажется благоразумным поддерживать мир с теми, кем мы когда-то были, не важно, симпатичны они нам или нет. Иначе они заявляются без предупреждения в четыре утра, отчаянно барабанят в двери разума и требуют отчета о том, кто их покинул, кто предал и кто будет за это платить. Мы слишком быстро забываем то, что, казалось, никогда не сможем забыть. Мы одинаково быстро забываем любовь и предательство, что кричали и о чем шептали, кем были. Я практически утратила связь с некоторыми из тех, кем была когда-то; одна из этих людей, семнадцатилетняя девушка, не представляет угрозы, хотя было бы любопытно вновь испытать, каково это – сидеть на речной дамбе, пить водку с апельсиновым соком и слушать «Как высоко луна» в исполнении Леса Пола и Мэри Форд по радио в автомагнитоле, удваивающей каждый звук. (Я, как видите, еще помню обстоятельства, но уже не могу себя в них поместить, не могу даже придумать подходящий случаю диалог.) Другая – двадцатитрехлетняя – беспокоит меня больше. Она всегда доставляла неприятности и, подозреваю, ворвется в мои мысли, когда я меньше всего этого хочу, в слишком длинной юбке, патологически застенчивая, вечно уязвленная, полная упреков, обид и историй, которые у меня нет желания слышать вновь; ее ранимость и невежество меня одновременно печалят и злят, и тем этот призрак более навязчив, чем дольше его держат в изгнании.
Не лишним было бы в таком случае оставаться на связи, и, вероятно, затем и нужны записные книжки. Мы сами в ответе за то, чтобы исписанные страницы не теряли для нас смысл: вы не поймете, что написано в моем блокноте, я не пойму ваши записи. «Ну и как дела на рынке виски?» Для вас это ничего не значит, не так ли? А для меня это блондинка в купальнике от Пуччи, расположившаяся с парой толстых мужчин у бассейна в отеле «Беверли-Хиллз». Подходит еще один, и они некоторое время молча смотрят друг на друга. «Ну и как дела на рынке виски?» – наконец говорит один из сидящих вместо приветствия, блондинка поднимается и, выгнув стопу, окунает ее в воду, не сводя взгляда с кабинки, где говорит по телефону Франциско Пиньятари по прозвищу Бэби. Вот и всё, что за этим стоит. Добавлю только, что несколько лет спустя я встретила эту блондинку в Нью-Йорке, по-калифорнийски загорелую, в объемной норковой шубе. Она выходила из универмага «Сакс» на Пятой авеню и на суровом ветру показалась мне постаревшей и бесповоротно усталой, и даже шуба ее была скроена не так, как было модно в тот год, и не так, как того, возможно, хотела бы она сама. И вот почему это имеет значение: после той встречи мне долго не хотелось смотреться в зеркало; листая газеты, я видела только смерти, раковых больных, еще не старых мужчин и женщин с инфарктом, и самоубийц. Я перестала ездить со станции Лексингтон-авеню, потому что заметила, что все те незнакомцы, которых я встречала годами: мужчина с собакой-поводырем, старая дева, которая изо дня в день читала объявления в газете, толстушка, которая всегда выходила со мной на Центральном вокзале, – стали выглядеть старше, чем прежде.
Всё возвращается. Даже рецепт квашеной капусты воскрешает в памяти что-то важное. Впервые я готовила ее на острове Файр, шел дождь, мы выпили много бурбона, поели капусты и легли спать в десять, я слушала шум дождя и Атлантического океана и чувствовала себя в безопасности. Вчера я снова приготовила квашеную капусту, но в этот раз чувства безопасности она мне не принесла. Но это, как говорится, совсем другая история.
1966







