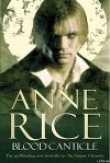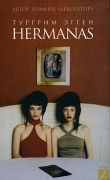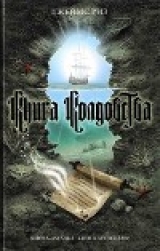
Текст книги "Книга колдовства"
Автор книги: Джеймс Риз
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 35 страниц)
Площадь Плаза-де-Армас находилась перед главным фасадом Губернаторского дворца, который днем раньше по какой-то причине ускользнул от моего внимания. Площадь была полна народу. Здесь собрались и сливки общества, и представители самых распространенных на острове профессий – моряки и солдаты. И к тем и к другим я испытывала совершенное равнодушие. Ах, моя слепота! Я не обратила должного внимания ни на различия их одежд, ни на их гордыню, ни на их… глупость.
Оркестр играл сносно, но в его музыке слышалась военная дисциплина – ведь все исполнители были солдатами. Их главный начальник и командир, сам генерал-капитан, то есть губернатор, с довольным видом сидел на высоком крыльце своего дворца. Он начинал хлопать первым, и толпа подхватывала его аплодисменты. Случись ему задремать этим теплым вечером, уже переходившим в ночь, все собравшиеся на Плаза-де-Армас тут же прилегли бы, кто на траву, а кто на брусчатку. Так уж здесь заведено: народ, словно стадо, боится хлыста и жаждет повиновения. Наблюдать это не слишком приятно, и я стала смотреть на веероподобные листья пальм, мерно покачивавшиеся в такт дуновениям ветра. Порой их ритм совпадал с музыкой и казалось, будто пальмы танцуют вальс.
У нас, ведьм, есть свои развлечения – почему бы нам их не иметь, когда в жизни чего-то недостает, а сердце похоже на несостоятельного должника? Мы вполне можем себе позволить что-нибудь эдакое. В общем, было уже почти девять, когда я наконец очутилась на Калье-дель-Эмпедрадо, devant la cathédrale. [48]48
Рядом с собором (фр.).
[Закрыть]
Солнце уже опустилось до горизонта и вот-вот должно было скрыться за ним, камни зданий и мостовой вокруг собора, брусчатка, ступени лестниц и все прочее отдавали свой жар мерцающими волнами. Поэтому мысль, побудившая меня войти в храм, была такой: интересно, откуда внутренняя поверхность каменных стен получает столько холода? Какая бы жара ни царила на улице, внутри каменных построек всегда холодно, очень холодно. Только позднее, глубокой ночью, в них понемногу теплеет, когда дневное тепло проникает во внутренние слои каменной кладки. Камни всегда отстают на половину суток от солнца, сохраняют ночную прохладу после полудня, чем пользуются богомольцы – они устремляются под священные своды, чтобы спастись там от усиливающегося зноя. Но каким бы ни был воздух в этих зданиях, прохладным или теплым, он всегда – да, всегда – неподвижен. Можно сказать, он мертвенно-неподвижен и перенасыщен парящей в нем пылью вечности, а также верой. Ведь вера тоже сгущается и наполняет такие места: в них скапливаются все молитвы, когда-либо вознесенные прихожанами. Слова, уже стихшие и вознесшиеся ввысь, поддерживают арочные своды собора, а затем, как струи дождя, устремляются вниз и осеняют верующих, незримо и неслышно. Такие соборы, как этот, в Гаване, загромождены застывшими молитвами.
Внутри собора царили прохлада и тишина, как в гробнице. Это казалось весьма уместным: ведь здесь лежал сам великий Колумб. Рядом с местами для хора, под большим горельефом, за благодарственной надписью от Испании, покоился прах первооткрывателя – во всяком случае, так гласит легенда. Однако не верь легендам, ведьма, – многие гробницы пусты. Это мне хорошо известно.
Вскоре я привыкла к полумраку и холоду и впервые обрадовалась тому, что мои груди перетянуты под мужской одеждой: в тропическом климате это часто заставляло меня потеть, что вызывало зуд, порой нестерпимый, однако сейчас это хоть немного согревало. И только тогда, когда я начала согреваться, а мои глаза смутно различили очертания теней и света, в равных долях состоявшего из лучей солнца, луны и церковных свечей (этот свет проникал сквозь огромные цветные витражи, отчего тени тоже становились красочными, как в моей комнате в «Отель де Луз»), – только тогда я отважилась сказать себе правду: «Его здесь нет».
Его там не было. Конечно, я имею в виду не Колумба – меня совсем не волновали бренные останки этого конкистадора, где бы они ни находились, – а моего Каликсто.
Я не знала, где мне его искать. Понятно, что юноша не вернулся на «Афей», но если он попросился на ночлег к кому-то из своих гаванских родственников, я никогда не найду его. Этот город слишком многолюден, чтобы узреть в нем кого-либо посредством ясновидения и заклинаний. Было бы совершенно бесполезно блуждать по улицам в бесплодной надежде найти одного-единственного дорогого человека в этом людском море. Поэтому я прокралась в глубь собора. Именно «прокралась», ибо в священных местах я чувствую себя неуютно. Мне казалось, что сейчас безопаснее допустить, будто в храме присутствует неупокоившийся мертвец. Я стояла, прислушивалась, пыталась что-то разобрать и… ничего. Если в этом месте и обитали какие-либо души, помимо души Колумба, они вели себя мирно, как, впрочем, подавляющее большинство мертвых. Они повинуются общему почти для всех закону, который часто высекают на могильном камне: «Requieskat in расе». [49]49
Покойся с миром (лат.).
[Закрыть]Действительно, мертвые в этом соборе вели себя тихо, покоились с миром; однако живые, к моему удивлению, вели себя куда менее сдержанно. Их оказалось довольно много – на удивление много, если принять во внимание поздний час.
Не могу припомнить, какой тогда выдался день недели или число, и не собираюсь наводить справки. Нынешняя моя рука, взятая взаймы, в последние полчаса так сильно закоченела, что теперь едва ползает по страницам рукописи, подобно медлительному крабу; управлять ею становится все труднее, чем и объясняется мой жуткий почерк. В соборе было много народу, и я предположила, что месса или какая-то иная церковная служба закончилась совсем недавно. Кроме того, я обратила внимание, что свечи еще не догорели до конца и запах ладана по-прежнему витает в воздухе. Я даже разглядела в темноте сероватые завитки дыма кадильницы, похожие на поднявшуюся в воздух золу: видимо, кто-то недавно кадил в алтаре. Церковный календарь перегружен именами святых, и я решила, что менее часа назад здесь возносили хвалы и молитвы одному из них, пока я рассматривала вальсирующие на Плаза-де-Армас пальмы. Прихожане еще сидели на скамьях, расставленных на больших белых и черных мраморных плитах пола, как на шахматной доске. Скамьи располагались не рядами, а врозь, как шахматные фигурки, а замершие на них люди могли стать пешками в игре, забавляющей Бога. Помнится, именно это больше всего удивило меня: то, что стройных рядов в соборе не было и в помине, хотя скульптуры, реликварии и прочие предметы католического культа были представлены в изобилии.
Одетая в мужское платье, я присоединилась к небольшой группе мужчин, стоящих у задней стены собора, неподалеку от входа, и вдруг обнаружила, причем совершенно внезапно, что, коснувшись prie-dieu [50]50
Дословно: пред Богом (фр.), низкая молитвенная скамеечка с высокой «спинкой» спереди.
[Закрыть]коленями, ощущаю под ними и под локтями мягкую обивку, призванную облегчать мучения кающихся грешников хотя бы на этом свете. Рядом со мной находилось паникадило, в котором горели свечи в красных стеклянных стаканчиках, причем каждый огонек означал какую-нибудь просьбу, обращенную к Богу. Исходящий от них розоватый свет и помог мне понять, где я нахожусь.
Воспитанная в монастыре, я порой искала утешения под церковными сводами, и мою боль облегчали не бестелесные образы, утешавшие верующих, но основополагающие элементы храма: камни изваяний, пламя свечей, высящихся маленькими столбиками, как приведенные в церковь дети, мягкие цвета фресок и тому подобные вещи. Именно такое утешение требовалось мне в тот вечер. Под сводами собора была одна неупокоенная душа, ищущая покоя, – моя.
«Его здесь нет». Я произносила эти слова снова и снова, и они казались мне «молитвой наоборот». Эта жалостная сцена длилась до тех пор, пока я не увидела кое-что совсем близко, рядом с нечетким кругом розоватого света, отбрасываемого свечами. Там, где начинались красноватые тени, стояла фигура – кажется, статуя, – вид которой вернул меня в прошлое со всеми его бедами, освободив от нынешней боли.
Если в христианстве и есть святой, в котором соединились церковь и Ремесло, это Себастьян. Тот самый, в кого выпускали стрелы из лука, с глубоко запавшими страдающими глазами, с полуулыбкой на устах, красноречиво свидетельствующей и о боли, и о готовности ее превозмочь. Он обладал осязаемой и совершенной плотью, хотя и унизанной стрелами, что мастерски передавали то кистью, то резцом Рафаэль, Рондинелли, [51]51
Николо Рондинелли (ок. 1468 – ок. 1520) – итальянский художник эпохи Возрождения.
[Закрыть]Рени [52]52
Гвидо Рени (1575–1642) – живописец болонской школы.
[Закрыть]или Рубенс. Они изображали его совсем юным и слишком красивым, а ведь установлено, что исторический Себастьян ко времени своего мученичества уже состарился и был обезображен возрастом, однако искусство (что хорошо понимали священники и художники эпохи Возрождения) обязано доставлять удовольствие зрителям, если желает преуспевать, привлекать на свою сторону и обращать в свою веру.
Я изучала все, связанное со святым Себастьяном, с тех самых пор, как увидела его на гобелене в самой дальней и очень темной галерее монастырской школы, откуда мне в свое время пришлось бежать. Возможно, этот гобелен никогда не повесили бы даже в том углу, если б не его цена – стоимость, выраженная в франках. Он был помещен в самом безлюдном месте монастыря, чтобы не попадаться на глаза ученицам. Не дай бог, они бы увидели почти полностью обнаженного мужчину, до еще какого! Конечно же, я – всегда привычная к темноте, если не к миру теней, – нашла тот гобелен и стала регулярно навещать святого, ибо – тут я должна попросить у тебя прощения, моя неведомая сестра, за излишнюю сентиментальность моей юности, – ибо я ощущала себя столь же гонимой и страдающей. Меня тоже пронзали – пусть не стрелы, но жестокосердие, презрение и клевета, присущие многим монахиням и монастырским воспитанницам. Затем настал долгожданный день, когда я встретила свою собственную святую, свою защитницу и покровительницу, звавшуюся Себастьяной д'Азур. Тогда у меня отпала нужда искать утешения у святого Себастьяна. Тем более ей удалось показать мне, что на соседнем гобелене истекает кровью другой святой – не ее тезка, но святой Франциск, коленопреклоненно принимающий стигматы от пяти ран Христовых. Да, он истекал кровью, хотя, по сути, являлся не чем иным, как простой окрашенной шерстью, искусно превращенной в ковер, и это невероятное зрелище подготовило меня к миру теней, а также к тому, чтобы воспринять истину, которую мне нужно было тогда усвоить (и которую, как я полагаю, подтверждает мое нынешнее бытие): существует непознаваемое.
Не припомню, кто именно изваял святого Себастьяна из того собора. Но это не важно, ибо каждый Себастьян из виденных мною – на картинках или в реальности – на время становился моим. Так же произошло и в Гаване. Хотя на сей раз меня привлекли не знакомый облик святого и не изваяние.
Этот Себастьян вобрал в себя, в свою мраморную плоть, столько света обетных свечей, что и сам стал светиться розовым, стал одушевленным, живым. Каменный святой высотою в шесть или семь футов стоял в неглубокой нише. Он изогнулся, чтобы принять в свою плоть кованые железные стрелы: одна пробила верхнюю часть правой руки, пригвоздив ее к боку, другая угодила в гладкий и плоский живот, пройдя сквозь мышцы, третья и четвертая вонзились в правое бедро и в икру, причем если в первом случае наконечник, очевидно, наткнулся на кость, то во втором стрела прошила мускул насквозь, и покрывающая его золотая фольга символизировала кровь. Виднелись и другие стрелы. Конечно, мне доводилось встречать и более страждущих Себастьянов – у кого-то стрела проткнула шею, у кого-то прошла снизу вверх, пронзив и нижнюю челюсть, и щеку… Не у Тинторетто ли стрела поразила мученика прямо в лоб, чуть выше широко раскрытых глаз? Однако Себастьян из Гаваны выглядел особенно привлекательным. Даже если принять во внимание мое тогдашнее состояние, не подлежало сомнению, что передо мной предстало самое вдохновенное изображение Себастьяна. Святой терпел жестокие муки и при этом понимал – да, понимал, – что все еще жив лишь благодаря воле Божьей, хотя его поразили стрелы бывших товарищей, солдат преторианской гвардии, выполнявших приказ Диоклетиана, правителя Римской империи четвертого столетия и гонителя христиан.
Преторианцы (так гласит легенда) оставили Себастьяна привязанным к дереву и ушли, сочтя его мертвым, что вполне понятно, если принять во внимание, как основательно они опустошили свои колчаны. Однако утром они обнаружили своего недавнего сотоварища не только живым, но и, по всей видимости, не слишком страдающим из-за пронзивших его тело стрел. Тогда император, уже приговоривший Себастьяна к смерти за приобщение к христианству представителей видных римских родов, осудил святого на смерть еще раз. Теперь обошлись без стрел: святого предполагалось убить ударом по голове, нанесенным втихую, ночью на Палатинском холме, чтобы никакое выступление христианских сектантов не помогло ему, уже однажды победившему смерть. Hélas, повторить это не удалось: череп треснул, стрелы вытащили, а тело утопили в клоаке.
Но может статься, Себастьян умер не совсем. Пожалуй, он мог задержаться в мире теней – призрачном зазеркалье, которому имя «мечта». Говорят, что он той же ночью явился вдове другого замученного римлянина. Ее звали Ирина. Святой рассказал, где следует искать изувеченное тело, и Ирина действительно нашла его, выловив из месива испражнений и зловонных помоев, а затем пронесла по Аппиевой дороге и тайно погребла рядом с останками святых Петра и Павла, где паломники поклоняются ему до наших дней.
В общем, я стояла на коленях у изваяния, скорбя и размышляя о том, каким образом статуя сумела так много мне поведать. Однако, несмотря на мою смерть и бессмертие, тело девчушки Мисси дает знать о себе и о том, что у меня нет времени на лишние подробности. Достаточно рассказать, что я ощущала себя неприкаянной, подавленной и обреченной до конца дней своих влачить одинокое существование, не зная любви. Мне не хотелось быть тем, кем я была прежде, – любвеобильной ведьмой, связанной с мертвецами, потерявшей все, чего жаждала и к чему стремилась. Все это воплотилось для меня в Каликсто, навеки утраченном. Так мне тогда казалось.
Помимо привычной грусти, а также смятения, вызванного притягательной властью каменного святого, я испытывала только одно чувство: злость. Не на себя. И не на Каликсто – наверное, он долго ждал меня в условленном месте, а теперь мне предстояло его искать, применяя все ухищрения и колдовские уловки. Может, я злилась на Себастьяну? Возможно, поскольку она снова вверила меня заботам кого-то из своих знакомых, как было в Нью-Йорке, в случае с Герцогиней. Или я злилась на К.? Да, именно К. стал главным объектом моего гнева. Как посмел он так со мною обращаться? Конечно, этот К., которому я заранее не доверяла, имел какие-то ответы на мучившие меня вопросы. Ведь я спешила на Кубу ради этих ответов, будто следовала за полетом тех сотворенных из света пичуг.
Да, я испытала гнев. Я надеялась, что тот день станет днем изреченной правды и озаренной светом души, что ложь будет отторгнута и низвергнута. Но когда долгожданный день подошел к концу, я стояла на коленях в соборе одна, без Каликсто, бесконечно одинокая, вновь полная желания найти злокозненного монаха, исчадие зла, обитателя царства теней, стража тайн. Лучше бы я о них вообще никогда не слыхала.
Сделав один только шаг, я вышла из круга света и опять окунулась в ночь, а затем углубилась в лабиринт освещенных луной улочек, благоухавших, насколько мне помнится, мочою и пачулевым маслом. Я пошла обратно, на поиски моей комнаты в доме сеньоры Альми, чтобы за запертой дверью размышлять, строить планы и использовать все возможности, какие только может доставить мне мое Ремесло, и заполучить их обоих – Каликсто и К.
Только из той самой комнаты, с того самого подоконника, откуда я смотрела на К., стоявшего на высоком башнеобразном престоле прошлой ночью, я могла определить, где нахожусь, и отыскать путь к нему. Выйдя из собора на площадь, я попыталась найти нужное место на плане города. Безуспешно. Мне надо было увидать странную башню, а может быть, самого К. на ее вершине, чтобы направиться к ней и к нему. Мне очень хотелось знать, будут ли мне явлены путеводные знаки. Может быть, я увижу в небе светлых, словно созданных из самого света, птиц, подобных путеводным звездам, изгоняющим печаль? Я посмотрю на них, но только через щелку между плотно закрытыми ставнями, чтобы колибри снова не ворвались ко мне с их жалящими разъяренными клювами. Воспоминания о веществе, которое они в меня впрыснули, не способствовали укрощению моего гнева.
Войдя в гостиницу, я успела сделать лишь три-четыре шага, когда услыхала голос хозяйки.
– Сеньор, – произнесла та, оставаясь невидимой.
Я продолжала идти в сторону лестницы, словно не слышала ее, но хозяйка вновь позвала меня, уже громче:
– Сеньор!
Слово прозвучало так, словно она была обижена, и я замерла, занеся ногу над первой ступенькой. Я надеялась, что эта поза выражает мое нежелание вступать в разговор. Оглядевшись по сторонам, я не заметила никаких признаков присутствия говорившей. И тут слово «сеньор» прозвучало в третий раз – вместе с именем, которым я назвалась тридцать шесть часов назад. Но все же… где она? Вестибюль был вдвое меньше моей комнаты наверху. За исключением множества пальм в кадках и разных цветущих растений, в нем почти ничего… Ах, вон она! Я наконец увидала, где она сидит. Ее выдал браслет на полном запястье, блеснувший в небольшом зеркале на дальней стене. Так и есть: слишком тучная, чтобы лишний раз вставать, сеньора Альми примостилась за облицованной бамбуком стойкой, однако ничто не ускользало от ее бдительного взора благодаря хитроумной системе незаметных зеркал. С их помощью она могла наблюдать за всем, что происходило вокруг.
– Oui, madame, [53]53
Да, сударыня (фр.).
[Закрыть]– отозвалась я, обернувшись.
На ее стойку был водружен небольшой железный треугольничек, в который явно никому и никогда не приходилось звонить – такой внимательной была сеньора Альми.
– Oui? – повторила я, надеясь с помощью французского языка предотвратить поток слов, уже готовый излиться из уст хозяйки гостиницы.
Но хитрая сеньора Альми обратила это себе на пользу: тут же ответила на очень беглом французском, что меня ожидает доставленный пакет. Она немедля передала сверток через стойку, по-прежнему сидя в кресле, а я приняла его, кивнула и пробормотала «merci». [54]54
Спасибо (фр.).
[Закрыть]Конечно, почему бы оборотистой hôtelière, обитающей в центре старой Гаваны, не говорить по-французски? Ведь я сама видела в гавани, что здесь собрались флаги со всех концов света. Несомненно, хозяйка неплохо знала еще с десяток языков.
– Eh bien, – проговорила я, указывая на ярлычок, прикрепленный к свертку белошвейкой. – Le petit cadeau pour ma soeur. [55]55
Маленький подарок для моей сестрицы (фр.).
[Закрыть]
На что сеньора ответствовала улыбкою, показавшейся мне снисходительно-понимающей. Положительно, следовало поостеречься этой сеньоры Альми.
Вскоре я уже взлетела по лестнице на верхний этаж, закрыла и заперла двери и ставни, после чего положила на кровать и развернула платье, сшитое из болана. Подергала швы и убедилась, что они прошиты на совесть. Обрадовавшись, что у меня теперь есть платье, я замечталась самым легкомысленным образом: воображала, как хорошо платье станет сидеть на моей «сестрице», хотя вырисовывалась довольно большая проблема. Нужно было придумать, каким образом мне, то есть моей сестрице, пробраться мимо бдительной сеньоры Альми, которая наверняка если и дремлет, то лишь вполглаза, на своем потайном посту. Ничего, я ведь ведьма. Что-нибудь придумаю.
Белошвейка проявила недюжинное умение, она поворачивала ткань то так, то эдак, соединяла детали, и в результате получился прекрасный туалет, настоящий ансамбль. Сине-голубые полоски каскадами ниспадали с плеч так, что лиф платья оказывался как бы перпендикулярным по отношению к юбке. Это могло показаться нарочитым, однако нет, ничего подобного, все выглядело совершенно естественно.
– Блестяще! – сказала я вслух себе самой.
Кроме того, она дополнила гарнитур чем-то вроде жакетки – или, может быть, пелерины, – и полоски на ней очень хорошо подходили к тем, другим, что на юбке. Кроме того, в некоторых местах, у декольте и на пуфах, она пришила темно-синие кружева.
– Да, все отлично.
Если бы я шила сама, то пустила бы все полоски вертикально, и платье напоминало бы матрац. Я успела забыть, сколько заплатила белошвейке за ее талант и потраченное время, но какова ни была сумма, платье того стоило. Ах, я сгорала от нетерпения, так мне хотелось поскорее надеть это великолепное платье! Я слишком долго ходила в мужской одежде и теперь жаждала перемен. Кроме того, мне представлялось разумным переодеться для маскировки: если кто-то действительно за мной следит… Что ж, они встретят на улице не Генри, а Геркулину.
Я нашла кувшин, наполненный свежей водой, подошла к стоящей рядом с ним большой чаше для умывания, разделась и смыла с себя пот, которым пропиталась во время плавания на «Афее», и пыль улиц Гаваны. А после переоделась – во все новое. Когда же выяснилось, что купленные дамские туфли жмут в подъеме, я заменила их на свои старые стоптанные башмаки. Главное, чтобы было удобно, а кто заметит, что у меня на ногах, под таким широким платьем? Кстати, если я действительно хочу найти Бру, не помешало бы выйти на прогулку.
Одевшись, я присела на край кровати. Хотелось надеяться, что сеньора Альми сейчас занята делами, иначе как мне прошмыгнуть мимо нее? Едва я подумала об этом, как тут же услышала не то шелест, не то шуршание или шипение. Звук раздался от свечи, которую я недавно зажгла и поставила перед зеркалом на комоде: мотылек, опаливший крылышки, трепетал на широкой чашке подсвечника. Мне вспомнилось что-то вроде поговорки: мотылька тянет к огню, как кота к сметане. Дело обычное, и я сначала не придала этому никакого значения. Но ведь шелест был очень громким? Пожалуй, он больше походил на шипение, чем на треск крылышек мотылька, залетевшего в огонь, – словно факел потушили, обмакнув пламя в воду. Но вот же, мотылек лежит прямо предо мной, корчится и бьется.
Постойте-ка… Я встала и подошла к комоду, чтобы лучше рассмотреть насекомое. Я пристально посмотрела на него и увидела, как под моим взглядом мотылек… исцеляется. Отметины от огня стали светлеть, крылышки превратились из кремовых в золотистые, а через несколько секунд совсем побелели. Нет, они стали не белыми, а совсем светлыми, то есть светящимися! Да, теперь мотылек отличался той же самой необычной светоносностью, что и мои недавние гостьи, птички-колибри, хотя это сравнение пришло мне в голову значительно позже. А в тот момент я просто положила мотылька на подушечку своего пальца. Какими бы светоносными ни казались его крылышки, они не были прозрачными: свет не проходил сквозь них – они его излучали. А затем, с тишайшим, как дуновение воздуха, свистом, мотылек вспорхнул, полетел вверх, закружился по комнате, образуя маленькие вихри, и я более уже не могла ни видеть его, ни ощущать.
Как же глупа я была! Увы, я понимаю это теперь, а тогда почти не обратила внимания на воскрешение мотылька и быстро переключилась на созерцание самой себя в зеркале, доставлявшее мне несказанное удовольствие. Я припоминаю – хотя гордиться тут нечем, – как нашла в ящиках комода завалявшиеся шпильки и на скорую руку соорудила прическу. Не стану скромничать: с помощью ленточки, которой белошвейка перевязала пакет, мне удалось создать на голове нечто, смотревшееся весьма недурно. Затем мое внимание вновь привлек возродившийся мотылек, присевший на внутреннюю поверхность ставен того самого окна, где прошлой ночью появились колибри. С тех пор я не открывала ставни, лишив себя дуновений освежающего ветерка. Однако теперь я все-таки отважилась открыть окно, не опасаясь того, что пресловутый К. сможет меня увидеть. Мне захотелось выпустить мотылька – в силу некоего помрачения рассудка я никак не связывала его со вчерашней стаей колибри. Скорей всего, решила я, это какой-то особый кубинский вид насекомых. Здешние ночи наверняка полны подобных диковин. И это было воистину так.
Когда я протянула руку, чтобы открыть защелку и распахнуть окно, внезапно – я не успела даже коснуться металлической защелки – сквозь щели рассохшихся филенок, подобно тому как пальцы неведомого душителя охватывают вдруг ваше горло, с улицы в комнату просочились девяносто девять новых мотыльков, сиянием и размерами неотличимых от их сотого собрата. Того самого. (Квевердо Бру любил выводить своих тварей сотнями.) Они облепили окно так густо, что ставни показались сделанными из света. Я в панике толкнула ставни и прикоснулась к мотылькам руками, отчего мои руки оказались покрыты светом, словно пылью или пыльцой их крылышек. Не это ли вещество проникало в ранки, оставленные клювиками колибри? Не повредит ли оно мне? Нет, это что-то другое.
Когда ставни распахнулись, с громким стуком ударившись о стену гостиницы, изрядное количество мотыльков не удержалось и упорхнуло в ночь. Ни один не влетел ко мне в комнату, зато множество месило крыльями воздух над подоконником – они ждали. Мне же оставалось лишь наблюдать за ними – правда, в основном искоса, украдкой, чему мешали мои синие очки. Я всматривалась в источаемый мотыльками свет и через какое-то время заметила, что они усаживаются на другой стороне улицы, на пологой крыше дома напротив, выложенной сланцевой плиткой. Они походили на алмазную крошку или ярко светящиеся дождевые капельки, замершие в падении либо застывшие, стекая по плиткам кровли к ее краю. Они ждали – меня. Пока я стояла, не веря глазам своим и созерцая мерцающий скат, я заметила, что и стены того дома тоже потихоньку начинают светиться. Именно это вернуло меня к реальности: я долго жила на темных пространствах Флориды и знала, как выглядят настоящие светляки. Порой они слетаются большими стаями, но не такими огромными, как сейчас, и свечение их никогда не бывает столь устойчивым и постоянным, хотя они действительно способны кое-как осветить темную комнату, свободно летающие или собранные в бумажную клетку наподобие фонаря. Однажды на корабле мне довелось видеть, как один из матросов читал письмо при свете светляка, держа мошку за крылышко и водя ею над строчками. Я вовремя вспомнила об этом и наконец испугалась при виде сотни светляков, сплошным покрывалом усеявших стену дома напротив гостиницы. Весь этот дом был объят светом.
Вскоре мотыльки со светляками освоились в темной ночи и стали подлетать к моему подоконнику. Видимо, они хотели передать мне то, что я уже знала сама: в запасе у К. имелось множество летающих тварей, чтобы послать их ко мне в качестве приглашения на встречу с ним.
Понятия не имею, видела ли сеньора Альми, как я улизнула ночью из ее гостиницы. По правде сказать, я позабыла о ней и быстро выскочила на улицу, опасаясь, что светоносные проводники могут покинуть меня. (Лучше предстать перед К. лицом к лицу, сразиться с ним и поскорее покончить с этой проблемой.) Даже если сеньора Альми заметила меня – точнее, мою «сестру», – она не подала виду. Это неудивительно: если хозяйка гостиницы сует нос в дела постояльцев, мешая им предаваться удовольствиям, она рискует быстро прогореть. Я быстро добежала до угла Калье-Луз и Калье-Сан-Игнасио, чтобы догнать там и более не упускать из виду моих незваных гостей, светоносных созданий, устремившихся на северо-северо-запад к тому человеку – монаху, прозывавшемуся Квевердо Бру. И каким бы робким и боязливым ни казался порою мой шаг, я шла, ибо не могла не идти. Если я спотыкалась, то черпала новые силы в своем гневе, и шаги моих ног в стоптанных башмаках обретали решительность и уверенность.
Enfin, кто же он был, этот К.? Ясно, что он являлся таким же «простым монахом», как я – «обыкновенной ведьмой», одаренной женским и мужским естеством зараз. Я не знала, принадлежит ли К. миру теней, но уже имела несомненные доказательства его магической силы. Разве можно было в том усомниться, когда он у меня на глазах повелевал странными светящимися созданиями?
Если бы в прошлые годы мне довелось увидеть таких странных существ, я бы решила, что ими повелевает одна из сестер. Поэтому мне очень хотелось узнать, не является ли Квевердо Бру ведьмаком – то есть ведьмой, в отношении коей природа совершила ошибку, – или колдуном, для которого светоносные твари служат чем-то вроде таинственных духов-хранителей: такие духи иногда вселяются в животных, заставляя их оберегать того, кто им вверен.
В отличие от беспокойных колибри мотыльки и светляки направляли мой путь. Иногда они собирались в рой на углу, давая знать, куда поворачивать. На трепещущих крылышках мотыльков отражался лунный свет, а светляки сверкали яркими вспышками. Это странное зрелище было очень красивым – выражение «путеводный свет» обрело свой истинный смысл. Неужели все это могли видеть другие люди? Затрудняюсь сказать. Когда на одной из темных и безлюдных боковых улочек появлялись прохожие, рой мотыльков рассеивался, а огни светляков затухали. Потом они снова зажигались, как звезды, и я следовала за ними.
Я прибыла в Гавану весной, но в кубинской столице сезоны так мало отличаются друг от друга, что порой трудно сказать, какое время года на дворе. Так было и той ночью: пошел дождь, и улицы превратились в потоки воды.
Я перебегала от одной дверной ниши к другой, а когда ливень усилился, укрылась на каком-то крыльце. Когда же дождь поутих, я криками «кыш, кыш!» вспугнула стаю светляков, заставила подняться в воздух и лететь побыстрее. Если кто-то случайно увидел это, ему наверняка почудилось, что из кончиков пальцев у меня вылетают искры – так близко летели передо мной светлячки. И они сделали свое дело.
Вскоре я обнаружила, что стою перед огромной дверью. Мотыльки исчезли неведомо куда, но светляки обрамляли дверной проем очень эффектно. Я стояла в нише рядом с резным косяком, пока на улице лились струи дождя, и понимала, что в такую дверь запросто не постучишь.
Притолока находилась на высоте, раза в два превосходившей мой рост, а если распахнуть сразу обе ее створки, в дверной проем прошли бы целая баржа или адмиральский катер [56]56
Небольшое судно, всегда готовое перевезти высокое лицо на корабль или на берег.
[Закрыть]с поднятыми парусами. Створки были черны, словно деготь, и в одной из них была прорезана маленькая дверца. Стоило как следует на нее навалиться, и она подалась со стоном, а я вошла внутрь. Еще оказалось, что дверь не только черна как смоль, но и вымазана чем-то вроде дегтя. Когда малая дверца открылась, косой луч лунного света упал на нее и высветил на черных досках сотни, тысячи крылатых тварей, прилипших к ней и… шевелившихся, как живые. Хуже того: когда несколько светляков залетели в открытую дверь, они к ней прилипли и стали меркнуть.