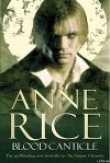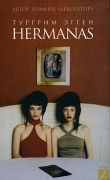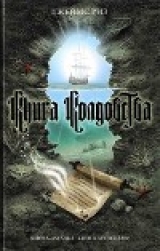
Текст книги "Книга колдовства"
Автор книги: Джеймс Риз
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц)
Итак, суть алхимии состоит в стремлении к совершенству, проявления которого столь многообразны. Одним из них является золото, но также…
Лучше предоставлю слово самому Квевердо Бру.
– Стремится ли к совершенству сама природа? – задал он очередной вопрос, чтобы тут же, якобы в поисках ответа, приступить к объяснениям. – От этого в алхимии зависит очень многое. Ежели природа не имеет подобной склонности, никакой алхимик не заставит ее способствовать достижению желанной цели, коим является совершенство. Но она, – продолжал рассуждать Бру, – ищет совершенства, и это неоспоримо. Любая руда, оставленная дозревать в чреве земли, в глубинах ее лона превратилась бы в золото через сотни, а возможно, и через тысячи столетий. Алхимик пришпоривает время, ускоряя естественные процессы. В руках адепта столетие превращается в минуту, как сказал мудрый Тритемиус. [79]79
Иоанн Гейденберг (1462–1516) – аббат и оккультист, прозванный Тритемиусом по месту, где он родился, – городу Триттенгейму на реке Мозель в Германии.
[Закрыть]Это достижение ничуть не уступает подвигу того древнего бога-кузнеца, который впервые выплавил металл из руды, выковал из него орудия труда, а для этого наперед высек из кремня искру, дабы возжечь огонь, и стал господином огня, тем ускорив процесс, начатый в недрах матери-земли. Кстати, человек подстегнул природу, когда впервые обжег горшки, слепленные из грязи из-под ее кожи. Разве не так?
– Так, – согласилась я, хотя еще не пришла к однозначному выводу относительно этой «теории совершенства», на которой основывались его рассуждения и к которой он все время возвращался.
– Наша цель проста, – заявил он. – Мы стараемся ускорить природные процессы. Мы стремимся убыстрить движение всего и вся к совершенству.
Я поняла, что он имеет в виду не орудия труда и не обожженные горшки.
– Всего и вся? – переспросила я.
Он сделал паузу и откинулся на спинку дивана, поскольку во время своей речи всем телом подался вперед, как страстный проповедник, обращающий прозелита в свою веру.
– Ты искушаешь меня. Ты хочешь, чтобы я завел речь о бессмертии, – сказал он с лукавой улыбкой, просиявшей в свете оплывших, почти догоревших свечей.
– Ты сам этого хочешь, – возразила я. – И все твои собратья, похоже, чувствуют искушение, но не искушение вести речь о бессмертии, а искушение самим добыть его. Если ваша цель – не золото, а корысть – слишком слабый стимул, чтобы так напрягать силы на протяжении нескольких тысячелетий, то что вами движет? Рядом с другими металлами золото занимает то же место, какое рядом с человеком занимают… Кто же? Есть единственный ответ, одно слово: бессмертные.
Но Бру не отважился произнести его. Он предпочел окольный путь:
– Совершенные. Отыскавшие философский камень. И познавшие Бога.
– И как ваше совершенство может проявиться в вас, если не сделает вас бессмертными? Разве бессмертие не является для человека мерилом, подобным золоту? Не простого человека, но алхимика.
Похоже, мне опять удалось загнать его в угол, распутав хитросплетения его доводов, потому что он прибег к грубой лести.
– Ах, ведьма, Себастьяна так нахваливала тебя, – пропел он. – Теперь я вижу, что не зря. Истинная правда, ты и проницательна, и умна, и…
– И не услышала бы сейчас такого количества комплиментов, когда б не платье, в котором я сижу перед сеньором алхимиком, – подхватила я. – Так что не стоит слишком рьяно выражать мне свое восхищение, лучше потрудиться закончить поскорей объяснения. Уже ночь на исходе, а у хозяйки гостиницы такой длинный нос, что мне хотелось бы прошмыгнуть в свой номер до того, как наступит рассвет.
– Ты останешься здесь, – произнес Бру так сухо и однозначно, что меня взяла оторопь.
С трудом подавив смешок, я спросила:
– Да неужели?
– Именно так, – парировал он. – Мне нужно…
И он умолк, словно не мог подобрать слов.
– Нужно – что?
Ответа не последовало. После паузы он заговорил:
– Разве тебе не требуется свое жилье, пока ты в Гаване? Дом, где тебя никто не станет беспокоить? Я ведь заметил: ты не любишь, когда тебе докучают. И разве у тебя хватит денег, чтобы обеспечить себе желанное одиночество на постоялом дворе, где полно незнакомцев? Там придется дорого заплатить за уединение.
У меня и вправду было не слишком много денег. Когда я уезжала из своего дома во Флориде, я не думала, что покидаю его навсегда. Но пребывание в Гаване, прежде представлявшееся мне кратким и временным, теперь, когда мне предстояло заняться поисками Каликсто и как-то прояснить ситуацию, связанную с Себастьяной и остальными внезапно открывшимися обстоятельствами, грозило затянуться на неопределенно долгое время. Однако готова ли я ночевать в доме, где вышагивают нахальные павлины, нагло лезущие куда не положено, а вместо луны по ночам светятся летучие мыши? Я по-прежнему не понимала, чего хочет от меня Бру, и вновь спросила его об этом, только другими словами:
– Ну а тебе, тебе-то что нужно? Или в этом доме открыта гостиница для проезжих ведьм?
При этом я попыталась представить себе, что Герцогиня здесь, посреди этого… великолепия. Нет, едва ли такое возможно. Разве что в этом доме скрываются какие-то невообразимые тайны (и ведь так и оказалось).
Удивительно, но Бру ответил прямо.
– Мне нужна ты, – сказал он. Конечно, не как любовник, заламывающий руки от страсти, и не как делец, внушающий: «Я пригожусь тебе, ты пригодишься мне, так давай объединим наши усилия». Нет, он действительно нуждался во мне. Слова прозвучали просто и искренне. Ах, если бы то, что за ними стояло, оказалось таким же простым и ясным! Однако все было не так.
– Да, – повторил Бру, – ты мне нужна. Ибо я ищу нечто большее, чем золото. Мне нужен успех, позволяющий возвыситься…
– Ну да, понятно, возвыситься до следующего состояния. Я помню. Но чем я… Какова моя роль?
– Видишь ли, я вступил в соперничество с природой и стремлюсь ускорить ее процессы, хотя на самом деле не хочу ни золота, ни даже бессмертия. Нет…
Тут он запнулся, не зная, стоит ли продолжать, что было неудивительно: теперь наконец он действительно собирался открыть мне нечто важное. Enfin, Бру прошептал:
– Я хочу обрести власть над самим временем.
– Иначе говоря, то же бессмертие, – продолжала упорствовать я, недовольная его уклончивостью и нежеланием признать очевидное.
Я продолжала стоять на своем, и его нетерпение, похлестываемое моим упрямством, все возрастало.
– Нет!
Это слово раскололо тишину, как недавний гром. Над моей головой захлопали крылья неведомых тварей. Бру снова наклонился вперед, сдвинулся на самый край дивана и сидел, переплетя пальцы рук и широко раскрыв глаза. Казалось, откинутый капюшон его бурнуса колышется, как у кобры, изготовившейся к атаке.
– Я знал настоящий успех, – произнес он нараспев. – Золото мне получить не удалось, но я изготовлял драгоценности. Я приблизился к тому, чтобы обрести камень. И мне удалось… приблизить живые существа к совершенству.
Бру бросил взгляд на белые, как свет, крылышки, все еще порхавшие под потолком шатра. Они представляли всю его армию странных тварей, которые, как мне теперь было известно, были душами умерших существ. Но как ему удалось их оживить?
– Да, – проговорил алхимик, заметив, что я смотрю на крылышки. – Это я… вдохнул в них душу.
Интересно, подумалось мне, сколько еще способов не произносить слово «бессмертие» он сумеет найти?
Вот кто был бы счастлив, если бы встретил Сладкую Мари. Чего бы они только не придумали вместе! Они бы вместе, как двухголовый Дис, [80]80
Дис – Плутон, бог царства мертвых, или Люцифер в средневековой традиции.
[Закрыть]правили бы потусторонним миром или сражались бы до конца, пока из них триумфально не уничтожил бы другого. Эта мысль заставила меня задрожать.
– Чтобы получить власть над временем, – удивилась я, – тебе нужна я? Как это?
Я заинтересовалась, хотя должна была бы испугаться.
– Да, – ответил Бру. – Да, мне нужна ты, потому что все в мире двойственно. Этому нас учит Изумрудная Скрижаль.
Собиралась ли я снова выслушивать поучения, написанные на лбу у павшего Люцифера? Черт возьми, нет! Квевердо Бру нуждался во мне, а я нуждалась в том, чтобы поскорее убраться из его дома. Я твердо решила подняться и уйти, покинуть этого лжеца и вернуться обратно в гостиницу вместе с рассветным солнцем. Никакого другого дьявольского света. А там я упакую свои вещи, расплачусь со склонной к шпионству сеньорой и укроюсь где-нибудь еще. Но алхимик продолжил свою речь, и я вдруг расслышала в его словах некий смысл. Это заставило меня остановиться.
– Все в мире двойственно, все удваивается. Посмотри: сейчас ткань этого навеса освещает свет луны, которая передает небеса солнцу. А море? Оно отражает небо. Каждая вещь имеет своего близнеца, все, что внизу, есть и наверху, земное соответствует небесному. Это Hieros gamos, священный брак. Принцип двойственности, превращения луны в солнце, неба в море, меркурия в серу. Так должно быть, чтобы Великое делание совершилось и истинный камень был получен.
– Истинный камень?
– Да. Истинный камень. Я успешно получал его малые формы, но сам камень, истинный камень – живое существо, его можно получить лишь путем священного брака, когда две высочайшие основы соединяются воедино. Я долго искал такое существо. Ребус. Ребус – так древние называли его.
– Понимаю, – ответила я. Его настойчивость меня напугала: глаза Бру горели, когда он говорил о золоте, камнях и прочих драгоценностях. – А если отбросить небо, море и все прочее, что есть эти две высочайшие основы?
– Две высочайшие основы – это мужское и женское начала.
Меня пробрала дрожь – озноб посреди жаркой тропической ночи.
– Ребус – это герметический андрогин, – продолжил он. – Ребус – это ты.
Я резко поднялась с мягкого дивана, и моя нога оказалась совсем рядом со змеей. Или Уроборос сам подполз ко мне? Так или иначе, питон – как один длинный, гибкий белый мускул – обвился вокруг моей правой ноги. Я замерла, скованная змеиными кольцами и слишком много вдруг осознавшая.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
…Тот, кто не знает основ, заключенных в нем самом, весьма далек от философии как науки, ибо не владеет истинной книгою, на учении коей он смог бы обосновать свои намерения. Но если он и взаправду знает основы, сокрытые в его естестве, и притом не ведает ничего иного, он все равно ведает путь, коим следуют принципы Искусства.
Гиоргиус Аурах де Аргентина. Prettiosissimum donum Dei(Драгоценнейший дар Бога). XV век

Когда мы умираем, мы забываем все страхи. Они как бы тускнеют. А поскольку страхи подпитывают нас, пока мы живем, с уходом страха прожитая жизнь тоже блекнет и выцветает. Вспомнить и описать ушедший страх, каким бы тот ни был – навязчивым ужасом или легкой тревогой, – трудно. Во всяком случае, это нелегко сделать настоящим покойникам. Все равно как пытаться повесить опавшую листву обратно на ветки. Так и я: хорошо помню тяжесть белого удава, обвившегося вокруг моей ноги, но тогдашний страх давно улетучился. Мне приходится напрягать память, чтобы вспомнить о том давнем страхе и рассказать о нем. Мы, мертвые, более четко видим тени, чем предметы, которые их отбрасывают. Но я должна продолжать, не мешкая, пока не потускнели остальные воспоминания, подобно тому как костенеет записывающая их чужая рука.
Змеи на ощупь скользкие и холодные, это я хорошо помню. Удав Уроборос оказался еще и увесистым, как мешок, набитый песком, или словно ему в рот залили воду и ее в нем стало не меньше, чем в ином утопленнике. Но в отличие от мешка с песком и выловленного из реки трупа удав находился в непрестанном движении, словно один бесконечно длинный, прекрасно натренированный мускул. Когда он пополз, поднимаясь по моей ноге все выше и выше, подтянулся к моему колену, потом двинулся дальше, я почувствовала, как он извивается, огибая ее, и его раздвоенный язык трепещет, постегивая меня по коже, словно змей стремился к средоточию моего пола. Он все туже охватывал ногу, так что она затекла и онемела. Я могла видеть, как стиснуты пальцы моей ноги под ветхой кожей сапога, но не могла их почувствовать. Когда же я не смогла больше этого выносить… Что ж, тогда я и произнесла те слова, которых добивался от меня Бру:
– Хорошо, я останусь. – Или что-то вроде этого.
После этого алхимик сказал:
– Право, мне очень жаль, – причем обращался к змее.
Однако на самом деле К. не ощущал никакой жалости. Ни капли. Но после того как он заговорил, я почувствовала, как тело удава обмякло. Возможно, Бру шепнул ему какое-то заклинание или подал некий знак, не могу точно сказать. И то ли потому, что я пообещала остаться, то ли по приказу Бру, а может быть, по собственному побуждению Уроборос свалился с моей ноги, после чего снова свернулся в клубок. Кровь опять прилила к голени и к ступне, и в них словно впилось множество иголок, превратив мой шнурованный сапог в орудие пытки, известное как «железная дева»: стальной гроб с острыми шипами внутри, куда помещали пытаемого. Я потопала ногой по ковру. Странное дело: по мере того как чувствительность возвращалась, каблук все ближе придвигался к белой, как свет, плоти удава, словно желал к ней прикоснуться. Но змея опять пришла в движение и перетекла в сторону блюдца с молоком.
Только принуждение могло заставить меня произнести это «остаюсь». Я все время помнила, чем может обернуться для меня такое сдавливание – пострадать от кровотечения ведьмам написано на роду. К тому же я не могла не сознавать, что совершаю обман, давая такое обещание. Но я все-таки осталась. Почему? А куда мне было деваться? Кроме того, мы, ведьмы, вечно сторонимся общества и стремимся уйти под защиту теней, какие бы там ни ожидали бездны.
А Квевердо Бру и его обиталище находились в такой глубокой тени, что большего желать не приходилось. Для меня было лучше иметь дело с ним, чем с всегда подглядывающей и подслушивающей сеньорою Альми. Лучше это странное убежище, чем «Отель-де-Луз»; во всяком случае, тогда я рассудила именно так. Я догадалась, что в жилах хозяйки гостиницы течет кровь инквизиторов, несомненно бывших ее предками.
Я подумала, что в доме Бру буду в большей безопасности, несмотря на змею. Разве Бру не признался, что нуждается во мне – в своем герметическом андрогине, в своем Ребусе? Если он не причинит мне вреда и не заставит страдать, ладно, пускай, я соглашусь жить в его доме, под защитой теней, предпочтя их большому свету. Придется вести себя осторожно, и я стану воплощением осторожности.
Более того: Бру обещал предоставить меня самой себе, не ограничивая моей свободы, и сдержал слово. Правда, он совсем не помогал мне в поисках Каликсто и Себастьяны, но ничем и не мешал. Да, он действительно предоставил меня самой себе. Позже я спрашивала себя: как можно было всерьез доверять человеку, который вечно себе на уме и почти всегда молчит?
Мне было дозволено обойти весь дом алхимика, от входа до шатров на крыше. Двери у Квевердо Бру не запирались – даже те, что выходили на улицу. Порой я представляла себе, что сталось бы с моей прежней хозяйкой, во что превратилась бы ее намертво приклеенная к лицу улыбка, когда бы шутки ради кто-нибудь предложил ей подсмотреть, что происходит за черными как деготь дверьми дома алхимика, а тем более приотворить их и увидеть то, что за ними находится. Нет, тут моей фантазии не хватало. А за воротами дома Бру любопытствующего ожидало вот что.
За porte cochère, [81]81
Ворота (фр.).
[Закрыть]темными вне зависимости от времени суток, он увидел бы дворик с фонтаном, тот самый, где мне довелось повстречать несущих стражу опаловых павлинов. Больше в ту ночь я почти ничего не разглядела, мне помешали темнота и страх, но при дневном свете я все изучила в подробностях.
Фасад справа, три его этажа с балконами и балюстрадами, оживляющими однообразие оштукатуренных стен, оплели виноградные лозы. Их было несколько видов, все с темными листьями. Росли они густо, плети давно перебрались с балясин на подоконники. Побеги проникали даже в щели рассохшихся ставней, увивали железные рамы с давно выпавшими стеклами, а листья при дневном освещении по оттенку напоминали корицу, а по форме – небольшие трезубцы. Пока я жила под кровом Квевердо Бру, я ни разу не заметила, чтобы какая-нибудь плеть засохла. Правда, они и не цвели. Зато я однажды увидела, как они ожили. Вот как это произошло.
Из-за вечной своей неловкости я, направляясь к себе в комнату на четвертом этаже, проходила через двор и споткнулась обо что-то – то ли о камень брусчатки, шатающийся, словно зуб у старой карги, то ли об угол садовой кадки. В тот же миг я увидела, как виноградные листья затрепетали, издавая странные звуки, после чего пришли в движение и стали образовывать расходящиеся кругами волны, подобные тем, что появляются в остающихся после отлива лужах, если бросить туда камешек. А затем лозы вдруг «отхлынули» от стены, точно вал, разбившийся о берег.
Еще там обитали сотни, нет, тысячи птиц: и большие, и маленькие, но все до одной ослепительно белые. Представьте, каким сиянием наполнялись даже самые темные закоулки двора, когда с перевившихся лоз вспархивала целая стая! Конечно, тон задавали колибри, но были и другие: например, вороны, метавшиеся из стороны в сторону над домом, только не черные, как положено, а белоснежные. Это порождало эффект, которому позавидовал бы даже такой великий мастер светотени, как Рембрандт.
Впервые завидев тех воронов, я упала на колени и закрыла руками голову, ибо не сомневалась, что они нападут на меня, как колибри в гостинице. Но нет, волна света отступила, откатилась назад. Я ощущала, как они хлопают крыльями, слышала шелест перьев, но сами птицы не издавали ни звука. Они не подавали голоса, не каркали. Вскоре крылатая братия вернулась на свои насиженные места среди лоз, и я увидела, как ветки раздвинулись, принимая ворон, а потом поглотили стаю, надежно ее укрыв. Осталось лишь тусклое немеркнущее свечение – так ночью светятся окна небольшой комнаты, где горит слишком низко стоящая свеча. Потом все листья поникли, и воцарилась тишина. Именно в тот момент я почувствовала на руках то, что сначала приняла за обычную испарину. К моему замешательству, «испарина» оказалась птичьим пометом – золотым мелкозернистым гуано. Я смыла его под струей, вытекающей из чаши фонтана. Я рассказала о диковинах, которыми изобиловал дом Бру, лишь для того, чтобы читающий эти строки понял: этот поток, дождем обрушившийся на меня, и все, что осталось на моих волосах и одежде, буквально пропитавшейся странною влагой, вовсе не было золотым в том смысле, в каком, например, называют золотым восход солнца. Нет. Это жидкое золотое гуано не просто сияло золотистым блеском – оно и было истинным золотом в виде золотых хлопьев, в том числе крупных, способных закрыть ноготь мизинца. Оно сильно напоминало субстанцию, впрыснутую мне под кожу птичками колибри, хотя от этого вещества у меня ничего не болело. Теперь оно обволакивало кожу, а не проникало под нее. С той поры я стала вести себя осторожнее. А когда ситуация повторилась, я побереглась и сумела вовремя укрыться от ливня драгоценных испражнений. Гуано не заставило себя ждать и, сверкая, пролилось рядом со мной настоящим золотым дождем. О, как странно, как жутко было видеть, как птицы мечутся во тьме единой белою массой, словно знамя, сотканное из света, плещется на ветру. Когда они угомонились, двор засиял в лунном свете подобно сверкающему на солнце дну калифорнийских ручьев, усеянных золотым песком. Но клянусь, я ни разу не задумалась о том, сколько все это стоит, и не порывалась собирать помет. Все происходящее казалось мне слишком непонятным и потусторонним. Кроме того, жадность стояла в самом конце длинного списка моих многочисленных недостатков, и то, что богатство в конечном итоге пришло ко мне, скорее всего, произошло исключительно по воле случая. Однако… не надо забегать вперед. Всему свое время.
На стене с правой стороны двора (надеюсь, вы не забыли, что вход на assoltaire находился в его дальнем левом углу) лозы образовали нечто вроде портика. В узком пространстве между их сплошным темным ковром, сырым и липким от испражнений, и собственно домом на балконах стояли горшки с розами. Как они выживали, не могу вам сказать, ибо там было слишком темно. (Несомненно, им помогало обилие удобрений.) Я очень обрадовалась розам, хотя они тоже были белыми и не добавляли в палитру двора, где господствовали черный, белый и мириады промежуточных оттенков серого, никакой новой краски. Я решила вытащить несколько горшков на солнце посередине двора. Однако уже на следующее утро листья роз опали, обратившись в золу, словно испепеленные лучами дневного светила. А может быть, и ночного. Хорошо помню, как я ждала, что Бру хотя бы намекнет на то, что случилось. Без сомнений, я помешала ему провести какой-то эксперимент. Но он не проронил ни слова, хотя позже я обнаружила, что горшки возвращены на прежние места. Вернулись и розы, еще пышнее прежних: они словно преобразились. Любоваться ими – хотя возрожденные розы во многом утратили для меня привлекательность – отныне пришлось под тенистою сенью скрывающего фасад живого покрывала, источавшего испражнения. Merci bien, mais non! [82]82
Здесь: нет уж, спасибо! (фр.).
[Закрыть]Я отдала предпочтение кактусам.
А они были повсюду. Росли они прекрасно, вне зависимости от того, падал на них свет или нет. (Конечно, они тоже были белыми.) Один кактус, стоявший на дворе в красивом кашпо, отделанном камнем, был толстым, как бочонок, да еще с острыми иглами длиною в шесть дюймов каждая, разбросанными по его бороздчатым складкам. Однажды я наблюдала у кактуса настоящую битву, затеянную целым полчищем колибри, причем невероятно жестокую: огромная туча пташек сновала вокруг кактуса, то резко взмывая вверх, то быстро опускаясь вниз в отчаянном стремлении получить то, чего я не могла разглядеть. Очевидно, их привлекало некое лакомство. Может быть, роса, блестевшая на шипах? Или они отщипывали на завтрак кусочки тугой плоти кактуса? Не знаю; но если вам кажется, что я слишком увлеклась описаниями и мое повествование замедлило ход, вот вам прелюбопытнейшая подробность.
Я разглядела, что одна из этих светоносных пичуг осталась на кактусе, наколотая на колючку. Днем я могла бы этого не заметить, поскольку птаха практически сливалась с дневным светом. Однако ночью птичка забилась, чтобы освободиться, и тут же напоролась на еще один шип, и это было хорошо видно, так как колибри светилась, и очень ярко. Возможно, вы сочтете мой рассказ жестоким, однако учтите: мне не за что было любить этих тварей, заманивших меня сюда, и ничто не мешало мне наблюдать за мучениями бедняжки с неделю, если не больше. Но вовсе не чувство мести и не бессердечие влекли меня каждый вечер к горшку с кактусом. Мне просто хотелось узнать, долго ли проживет это создание, пронзенное насквозь, без питья и пищи. Вид птички все больше озадачивал меня, и в конце концов мне пришлось все-таки освободить ее, стащив палочкой с шипов. Бедняжка упала на камни, еще хранившие дневное тепло; я видела, как она лежит на них, неподвижная, однако уже через минуту, не больше, цвет ее перьев восстановился – вернее сказать, свечение стало прежним. Умирала ли она? Едва ли. Или она была сродни тем пронзенным шпагой дуэлянтам, которые умирают, лишь когда из их тела вытащат клинок? Нет. Пичужка часто махала крылышками и поднималась все выше, пока не юркнула за живую завесу из лоз, хотя по всем законам природы ей полагалось умереть много дней тому назад.
Но в мире Квевердо Бру законы природы не считались законами. Они считались гипотезами, подлежащими проверке, или доктринами, которые надо подтвердить или опровергнуть. Вот так он доказал, что привычные представления о смерти ошибочны. Или, как выражался сам Бру, он нашел путь к совершенству – по крайней мере, в царстве флоры и фауны.
Как все-таки меня угораздило остаться у Квевердо Бру в этой его Синуэссе? [83]83
Синуэсса – римская колония, основанная в 296–295 гг. до н. э. на берегу моря неподалеку от Неаполя.
[Закрыть]Так я назвала его дом, напоминавший мне иное место с тем же названием, описанное римским поэтом Овидием, – «приют белоснежных голубок». Alors…
Когда монахини монастыря, где я выросла, извергли меня из своей среды и с презрением выбросили, как никчемную вещь, сочтя непригодной и для жизни Христовой невесты, и для обычной доли жены смертного мужа, они заточили меня в библиотеке и сами не понимали, как мудро поступили. В ее стенах я нашла приют и поистине восстала из пепла, моя жизнь началась заново. С того дня и до самой смерти я всегда чувствовала себя как дома рядом с книгами. Так было во Враньем Доле [84]84
Враний Дол – поместье Себастьяны д'Азур, описанное в романе «Книга теней», первой книге данной трилогии.
[Закрыть]у Себастьяны, в Киприан-хаусе у Герцогини – и в Гаване. Мне приглянулся кабинет Бру, где было сумрачно, потому что ставни на окнах почти никогда не открывали. Полутьму нарушал лишь приглушенный свет лампы, освещавший длинные полки с многими тысячами книг. Некоторые из них были такими старыми, что вполне могли оказаться вынесенными из Александрийской библиотеки еще до того, как она сгорела веков пятнадцать тому назад, когда Юлий Цезарь поджег египетский флот, а огонь перекинулся с кораблей на берег и уничтожил это хранилище древних знаний.
Библиотека Бру находилась в большом помещении с множеством полок. Там я садилась на стопки книг, разложив штудируемые тома на «столе», представлявшем собой штабель из книг еще больших размеров. В библиотеке царили темнота, холод и безмолвие, словно в крипте, и мне было сказано, что все так и должно в ней оставаться, поэтому читать приходилось при свете лампы или свечи. Я ни разу не отважилась открыть окно, чтобы луч солнца лег на книги и окрасил их в свой цвет либо ворвавшийся ветерок сдул с них слой пыли, накопившейся за много столетий. (Такой послушной я была, заметьте, не из-за страха перед Бру, а из-за любви к его книгам.) Мне помнится характерный земляной запах библиотеки – некий летучий состав, смесь пыли и застоявшегося воздуха. Многие, очень многие часы я провела в этой библиотеке, лишь иногда отваживаясь унести толстый том к себе комнату, расположенную прямо над книгохранилищем, такую же темную и безотрадную. Сколько времени я провела среди книг? Не знаю, ибо все часы в доме Квевердо Бру были остановлены. По его словам, это был обычай его родины: гости не должны никуда торопиться в приютившем их доме. На самом деле мне следовало бежать из этого дома, но я медлила, с головою зарывшись в книги.
Порой я отрывалась от чтения и позволяла своим глазам со зрачками в форме жабьей лапки сосредоточить взгляд на потолке, украшенном росписями с теми же сюжетами, что были найдены при раскопках в Помпеях. Росписи выцвели от времени и местами облупились. Судя по всему, их заказал прежний хозяин, а эта зала служила библиотекой очень давно, еще до Бру, ибо наверху теснилось множество наряженных в тоги философов, а по углам жались музы. Над дверью красовалась помещенная в овал надпись: «Ora, lege, relege, laborat et inventis», что означало: «Молись, читай, перечитывай, трудись – и найдешь». Этим я и занималась (за исключением, конечно, молитв), а когда уставала от груза книг и тяжести содержащихся в них знаний, то бросала подушку на паркет и ложилась на спину. Глядя вверх, я терялась среди пейзажа, на заднем плане которого всегда неясно маячил Везувий, и мои мысли неизменно устремлялись к Себастьяне. В ее «Книге теней» я прочла описания того, как этот вулкан превратил громадное скопление зданий в один немыслимый погребальный костер. Она видела раскопки, когда прибыла в Италию в качестве знаменитой художницы, с рекомендательными письмами к неаполитанской королеве от ее сестры Марии-Антуанетты, покровительницы Себастьяны. Да, она уехала на юг, желая идти по жизни своей дорогой, своей собственной стезей, а я через много лет по ее воле отправилась в заморские странствия, чтобы проделать то же самое. Воспоминания о моей сестре и спасительнице только расстраивали меня – «Где-то она теперь, что с ней?» – и я возвращалась в мир книг, собранных Бру: выписывала что-то в свою тетрадь, ибо переписывание есть усвоение вдвойне, а знания были для меня той стихией, в которой я продолжала плавать, ожидая… Чего? Приезда Себастьяны? Возвращения Каликсто? Да, конечно, того и другого, а также и начала осуществления планов Бру, задуманных для меня, его долгожданного Ребуса, и скрывавшихся под маской гостеприимства.