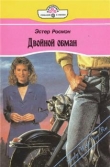Текст книги "Дочь"
Автор книги: Джессика Дюрлахер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
– Я, кто же еще. Да Господи, я ее еще и не спрашивал.
– Я и не знал, что у него есть подружка, – сказал папа, обращаясь к своим наушникам. – Впервые слышу об этом.
Он казался покорным и одновременно рассерженным. Я чувствовал себя виноватым оттого, что придумал все это. Почему нельзя, чтобы все шло нормально, без обид и обвинений?
Я слышал, как он бормочет: «Он ведет себя, черт побери, так, словно это каникулы… – и потом: – Почему бы тебе на самом деле не поехать в Израиль одному со своей новой подружкой?»
Мама беспомощно посмотрела на меня. Она уже израсходовала сегодня весь свой арсенал, и ей нечего было сказать.
– Господи, опять все сначала, – прошептала она, наклоняясь и включая пылесос.
Мне показалось, что наступает конец света.
Наушники снова прикрывали папины уши, «бош» снова взвыл, и мама, наклонившись, полезла специальной узкой щеткой под диван.
Папа взмахивал правой рукой в такт музыке. Он был уже далеко.
– До чего же в этом доме все нахальные! – прокричал он, погружаясь в музыку, вечную защитницу от всех невзгод и маминых пылесосных атак.
18
Часом позже, когда я уже сидел у себя на чердаке, так и не заказав билетов, он позвонил. Я успел прикончить бутылку вина и был жутко зол. В конце концов, я давно уже не ребенок. Я просто обалдел, когда он позвонил. Он не звонил никогда.
– Привет, Макс. – Казалось, он куда-то торопится. Я ничего не ответил. – Мама сказала, что я должен тебе позвонить…
– Занятно.
– Я купил билеты. Хочу вылететь сегодня, похороны завтра в три, у нас, у идн [5]5
Идн – евреи ( идиш).
[Закрыть], это делают как можно быстрее.
Семейное словечко иднозначало попытку примирения. Я помолчал, потом пробормотал:
– О’кей, папа, держись.
– Макс, я и тебе заказал билет. Как ты думаешь…
– Зачем я тебе? Я, ничего не понимающий наглец?
– Ладно, Макс, не заедайся. Я был бы очень рад, если бы ты поехал со мной.
Голос его звучал слегка просительно и еще – взволнованно и обеспокоенно; это давало мне шанс добиться своего.
Сабина так хорошо скрыла свое разочарование, продемонстрировала такое понимание папиной позиции, что я еще сильнее на него разозлился.
– Ты всегда ведешь себя так, словно все делается против твоей воли, словно все специально поступаю тебе наперекор, – сказал я.
– Ну, началось. – Голос его звучал устало. – Разве я не сказал, что рад, что ты завел девушку?
– Обалдеть можно. А зачем тебе понадобилось говорить, что мама велела тебе позвонить?
Мне слышны были его тяжелые вздохи. Кажется, он решил, что слишком долго играл роль покладистого отца, потому что вдруг заорал:
– Ну что ж, я поеду один на похороны своей единственной сестры! Поеду один, как всегда! Вам, черт побери, на меня наплевать! – Он замолк, но ненадолго. Он торопился. – Совсем ошалели, – продолжал он немного тише, – вся эта хрень, которой все вы занимаетесь, сперва мама, теперь ты. Это, черт побери, позор! С меня довольно!
Я молчал. Еще немного, думал я, еще совсем чуть-чуть. Но я все-таки чувствовал себя виноватым – и боялся, что он положит трубку.
– Теперь ты хочешь, чтобы я с тобой поехал? – прорычал я.
– Конечно, я хочу, чтобы ты летел со мной!
Мы замолчали надолго, минуты на две. Потом я сказал:
– Пока.
– Пока, – откликнулся он недовольным голосом.
Мы договорились встретиться в аэропорту.
19
Он обнял меня, как маленького, расцеловал в обе щеки. Потом схватил за руку и повел к стойке регистрации. Перед нами было два человека, и он сквозь зубы, негромко говорил о них гадости. Я видел, что он нервничает; левую руку он сжал в кулак так, что косточки побелели, потом разжал и снова сжал.
Когда подошла наша очередь, он не сказал, а прорычал свое имя девушке за стойкой. Мы должны были показать свои паспорта, и папе пришлось лезть в сумочку, которую он, ради пущей сохранности, носил на шее, спрятав под одежду.
Разумеется, он занялся этим, тоже из соображений безопасности, в последнюю секунду. Сперва ему надо было снять куртку, потом вытащить одну руку из рукава рубашки. Я слушал его обычные тяжелые вздохи, когда он пытался выпутаться из рукава и из ремней сумочки. Было пролито море пота, произнесено множество проклятий, и наконец, раздевшись до майки, он смог выудить паспорт и отдать его девушке. Л-И-П-Ш-И-Ц – нервно повторял папа по буквам, пока девушка искала наши билеты. Она никак не могла найти их и стала звонить начальству.
– Все просто чудесно, – пробормотал папа сквозь зубы. Он даже сплюнул. – Очень мило, такое теперь всегда случается. Потеряли. Черт побери!
Он злобно уставился на едва видный над стойкой затылок девушки. Время от времени он сердито взмахивал рукой.
Все это тянулось минут десять. Я старался не смотреть в его сторону.
Потом девушка повернулась к нему:
– Может быть, вы заказывали билеты сегодня?
– Да, только что! Пару часов назад! Мы летим на похороны! Мы должны успеть на по-хо-ро-ны. – Последние слова он просто пролаял. Теперь даже я забеспокоился.
– Ой, надо было мне сразу сказать! Одну минуточку! Я должна посмотреть в другой коробке. Извините.
Она сразу нашла наши бумаги в другой коробке и начала куда-то звонить.
Папа оглянулся, лицо его было сморщено, глаза возведены к небу. Потом повернулся вокруг своей оси, демонстративно глядя на часы. Он тихонько говорил сам с собой, притоптывая ногой. Меня он, казалось, не видел.
Девушка положила трубку, быстро взглянула на нас и начала заносить наши данные в компьютер.
– Это кто-то из вашей семьи? – спросила она сочувственно.
Папа сдержанно кивнул.
Она не посмела спросить еще что-то.
– Какой ужас, – сказала она.
Папа снова кивнул, коротко, по-военному, и застыл, словно лишние движения или лишние слова были бы предательством Юдит. Это я понял сразу, все странности, которые он обнаружил в последние полчаса, были связаны с мыслями о Юдит.
20
В самолете папа заплакал. Мы сидели впереди, в окружении хасидов, и когда я, иронически усмехнувшись, обернулся к папе, потому что знал, как неловко он чувствует себя среди ортодоксов, то увидел, что по лицу его катятся слезы.
Сотрудникам «Эль Аль» было безразлично, зачем мы летим: холодно и методично они обыскали наши сумки в поисках оружия, бомб и наркотиков. То, что мой отец – еврей, похоже, не заинтересовало службу безопасности, по крайней мере, нисколько ее не успокоило, а то, что тетю Юдит должны похоронить на Масличной горе, кажется, послужило еще одним поводом для подозрений. Папа, сломленный долгим ожиданием, вел себя во время всех этих формальностей прекрасно.
Теперь он смотрел прямо перед собой, и слезы текли по его лицу. Он громко всхлипывал, и вдруг я почувствовал, что мне хочется забраться к нему на колени, хотя вовсе не был уверен, что в далеком детстве он брал меня на руки.
Хасиды переговаривались на иврите и делали вид, что ничего не замечают. А может быть, они говорили о нем?
Пересилив себя, я взял его за руку. Я был смущен. Как мог я знать, что ему пришлось пережить? У него была сухая, сильная рука, а мои ладони стали влажными из-за тщательно скрываемого страха перед полетом. Меня поразило то, что мой жест был почти отцовским, а его рука оказалась не такой нежной и детской, как я ожидал. Я не знал, что делать, но папа мягко сжал мою руку и отпустил ее. Он повернулся ко мне и улыбнулся виновато и успокаивающе. Это, видимо, должно было означать, что я – его сын, а он – мой отец, – открытие, которое меня, можно сказать, потрясло.
– Знаешь, Макс, без тебя я бы с этим не справился, – сказал он. – Просто не смог бы. Все возвращается, весь этот ужас возвращается.
21
– Понимаешь, я тебе не обо всем рассказал. – Он смотрел прямо перед собой. – Ты ведь знаешь об этом? – Он говорил, словно уже несколько часов рассказывал мне истории.
– Откуда мне знать о чем-то, если ты мне никогда ничего не рассказывал? Господи, почему ты не можешь раз в жизни взять и что-то нормально рассказать?
– Я думал, может быть, ты это чувствовал. Ты ведь знаешь, что меня не было дома, когда они пришли?
Я не знал, правильно ли я его понял.
– Когда кто пришел?
– Я хотел сказать, в сорок втором. – Папа поджал губы.
– Ох, Господи, конечно. – На миг я почувствовал знакомую, растущую усталость, но любопытство ее пересилило.
Когда папа с семьей бежали из Германии, они на время, пока искали дом, поселились у друзей. Я думал, он имел в виду это. Дом они найти не успели, потому что в сорок втором были арестованы.
– Это все я знаю. Чего же ты мне не рассказал?
– Когда они пришли, меня не было дома.
– Не было дома? Почему же тебя все-таки схватили?
Папа молчал долго, а я тем временем думал о Сабине, вспоминал, как горели ее огромные черные глаза, когда она рассказывала, как прятался ее отец. Так подробно, словно знала об этом все. И о стечении обстоятельств, благодаря которым появилось на свет ее прелестное тело. Я никогда не мог до конца поверить в единство тела и души, живущей в нем, кроме случая Сабины. Тело Сабины было для меня в большей степени ею, чем ее душа. Как ни странно это звучит. Во всяком случае, ее тело дополняло душу, делало Сабину цельным существом, неделимым целым. Она была моей. Она была создана для меня. Возвышенные слова, которые она выбирала, ее забота о морали, ее одержимость, ее чувство юмора – и чудесное презрение к собственной наготе, абсолютно не гармонировавшее со всем остальным.
Впервые отсутствие Сабины отозвалось во мне болью, и только она могла утолить эту боль, этот новый голод. Я должен оберегать ее. Эта мысль вернула меня к папе, который терпеливо ждал новых вопросов.
– Так где ты был? – спросил я.
Я изо всех сил старался не смотреть ему в лицо. Только так я мог его слушать. Стоило мне увидеть это лицо с застывшим вопросительным выражением, увидеть усталость, боль и напряжение в его глазах за стеклами очков, и я не мог больше воспринимать то, что он рассказывал. Я замирал от жалости и бессильной ярости.
– У соседей. У них был рояль. Из-за этого рояля я от них не вылезал. Они всегда разрешали мне играть, очень милые люди. – Я кивнул. – Юдит не любила, когда я там бывал. Она не понимала этого, она совсем не любила музыку и не могла играть ни на одном инструменте.
Папа замолк на секунду, может быть, для усиления драматического эффекта. Это сработало, я почувствовал, как под рубашкой весь покрылся гусиной кожей. Наконец-то я узнаю один из секретов, которые от меня так долго скрывали.
– Юдит пришла, чтобы забрать меня домой, когда услыхала, что в деревню въехала полиция. Она попросила меня немедленно вернуться. Она не сказала зачем. Вошла через заднюю дверь и забрала меня. Потом она говорила, что хотела быть вместе со мной, боялась оставить меня одного.
Медленно, с трудом доходил до меня смысл его рассказа.
– Она так всю жизнь и прожила с этим грузом прошлого, бедняжка!
– Значит, если бы она не пришла…
– Раньше ли, позже, меня все равно нашли бы. Они выловили всех евреев, потому что в деревне было полно предателей. И я благодарен ей зато, что мы в конце концов оказались там вместе. Без нее я бы не выжил, ты это знаешь.
– Как это можно знать? Почему ты всегда об этом говоришь? Как будто ты слабак какой-то. Что она такое могла, чего ты не можешь?
– Ты ведь немного знаешь Юдит? Она была чертовски хитра. Как добыть еды, как узнать, что замышляют боши, – она всегда все знала намного раньше, чем остальные. А ее рассказы… Ты знаешь, что она была как танк?
– Господь всемогущий, она просто была обязана! Ты что, не понимаешь? На ней лежала чудовищная вина! Почему ты мне никогда об этом не рассказывал?
– Только, пожалуйста, не говори маме, ладно?
– Ты хочешь сказать, что она об этом не знает? Что ты никогда ей об этом не рассказывал? – Папа выглядел обеспокоенным. – Ты рассказывал ей об этом или нет?
– Я уже не помню. По-моему, я ей когда-то рассказывал. Она, во всяком случае, должна была об этом слышать. Все это произошло так давно. И не забудь: Юдит была тогда очень, очень молодой!
Неповторимая папина логика.
– Каким образом? Кто рассказал ей об этом? Ты? Ты хотя бы это помнишь?
Папа сердито посмотрел на меня:
– А теперь заткнись. То, что мамы здесь нет, говорит само за себя.
Я просто обалдел от неожиданной силы в папином голосе. Кто не с нами, тот против нас.Это делало его почти чужим, особенно из-за горьких намеков на мамино отсутствие. Мне это показалось предательством, хотя я знал, что брак моих родителей нерушим, как крепость.
Наверное, мне действовали на нервы шум самолета, жалобы и песни пассажиров. Мне хотелось оказаться дома, на диване, хотя там нас ожидал привычный рев пылесоса.
– Господи, мама любит тебя.
Папа заставил меня замолчать, отрицательно покачав головой:
– Если бы она меня любила, она была бы здесь.
– Может быть, она дает тебе возможность пережить свое горе без нее. Может быть, она просто отошла в сторону. Ради тебя.
Я говорил, сам не понимая, что говорю. Как всегда, ничего не понимая.
– Что за бессмыслица! – крикнул папа. – Как будто я этого хотел! Она должна была быть здесь!
– Может быть, она считала свое присутствие на поминовении Юдит, а тем более на Масличной горе ложным. Ты ведь знаешь, как серьезно мама относится к точному исполнению обрядов. – Я начал понемногу понимать маму, пока говорил. – Кстати, Юдит действительно была так сильно настроена против мамы?
– Чудовищно ревновала. Тина такая красивая, мягкая, светловолосая. Кроме того, у нее в прошлом не было никаких потрясений. Юдит, как ни странно, плохо разбиралась в людях. Она считала, что надо говорить людям то, что думаешь, и все само собой наладится. Что Тина все должна понять. Но сколько раз им на самом деле удалось поговорить за все эти годы? Да еще Тинина манера интерпретировать как flux de bouche [6]6
Оплевывание ( фр.)
[Закрыть](кажется, это так называется?) все, что говорила Юдит, – хотя Юдит, на самом деле, никогда так далеко не заходила. Я точно это знаю. Она подчеркивала Тинины слабости, это совсем другое… Но Тина из-за этого начинала волноваться. Юдит говорила то, что Тина и сама знала, но боялась высказать вслух. Тина чувствовала себя виноватой из-за своей непричастности, из-за того, что никогда не смогла бы нас до конца понять, – из-за подобных глупостей.
– Знаешь, что меня огорчает? – спросил я.
– Что?
– Что ты всего этого сегодня не сказал маме.
– Чего не сказал?
– Что ты, например, рад, что она не сидела в лагере. Что вы вместе.
– Твоя мать не могла найти лучшего момента для объявления независимости! Почему я должен всегда за всех думать?
– Всегда! Ты, папа, всегда самый умный. Это и правда здорово. – Я расхохотался, на мгновение забыв о том, где мы были и о чем говорили.
Папа немедленно нырнул обратно в свою раковину.
– Я это не первый раз слышу. Не пора ли прекратить? – но тут же сам продолжил: – Я говорил ей это сто раз! Что за человек Юдит, как она разговаривает.
Он вдруг уставился в пространство перед собой широко открытыми глазами. Потом хлопнул себя ладонями по лицу. Этот жест, эти руки. Я находил его чрезмерную ранимость отвратительной и пугающей. Сильные, маленькие руки. Я никогда не представлял их в сочетании с его лицом, словно руки и лицо принадлежали разным людям. Соединившись, они превратили его в абсолютно незнакомого мне человека, в маленького мальчика, которому помогала сестра. Который должен был работать на каменоломне и питаться тем, что Юдит стащит для него с кухни.
– Я говорил ей об этом сто раз, – прорыдал он. – И о том, как я рад, что мы вместе, тоже. – Он по-детски тер глаза кулаками. – Извини, Макс.
– Пап, молчи. Вот салфетка. Если честно, я ни разу не заметил, чтобы ты что-то объяснял маме.
– Она не желала принимать в этом участия. Я не мог ее заставить. Не хотел ничего делать против ее воли.
– Господи, пап.
Когда мы приземлились в аэропорту Бен-Гурио-на, глаза наши были красны от слез, но сухи.
22
Утром в наш номер заглянуло солнце Иерусалима. Мне от этого почему-то стало неуютно. Мне вообще было неуютно: из-за опухших глаз папы, с напряженным лицом натягивавшего носки, из-за «не мешало бы тебе поторопиться», которое он прорычал вместо «доброго утра». Из-за этого света, наконец. Я только теперь понял, что он нестерпимо ярок, потому что папа раздернул шторы. Вот что меня разбудило: резкий звук раздвигаемых штор.
Я был в Иерусалиме, мы собирались на похороны тети Юдит.
Папа выглядел более мрачным, чем всегда. Его скорбь перешла в ярость; впрочем, его ярость всегда имела что-то общее со скорбью.
Такое начало дня лишило меня возможности хоть на миг забыть, зачем мы сюда приехали.
Я соскочил с постели и оделся со всей возможной скоростью. На нас были черные костюмы, и перед тем, как выйти из номера, папа сунул что-то мне в карман. Небольшую шелковистую тряпочку, которую я сперва принял за носовой платок, но, вытащив ее, обнаружил, что это – кипа.
От этого его жеста и от мысли, что я, за всю жизнь посетивший синагогу от силы пять раз, должен буду надеть кипу, мне снова стало неуютно: я осознал наконец, насколько серьезен ожидающий нас ритуал.
Я вспомнил о страхе мамы перед самолетами – и наконец понял ее чувства в полной мере. Только мой страх свалиться на землю с оглушительной высоты касался религии предков, о которой я не желал ничего знать. Никакой бар-мицвыв тринадцать лет! Я одиноко парил в свободном пространстве, ничем не защищенный мешок дерьма, лишенный души.
– Я должен сразу это надеть? – пробормотал я. Шелковый кружок лежал на моей ладони.
Папа покачал головой:
– Сейчас не надо. Потом. Но тогда уж обязательно.
То, что он позаботился о кипе, сразу сделало его гораздо большим евреем, чем я, пришельцем из другого мира.
Но если я – хороший сын, то должен следовать за отцом, а значит, и сам принадлежу к тому миру, подумал я и ощутил глубокий покой. Сын следует за отцом. Отец следует ритуалам предков.
Я понял, что собственная воля мне здесь не понадобится, и потащился за папой, готовый делать все, что необходимо для молитвы: погрузиться в то, от чего я так долго уклонялся.
Ритуалы, дисциплина, ограничения.
Но я замешкался на лестнице и позволил целой толпе американцев обогнать себя, а когда оказался наконец в вестибюле, папы там не было. Я забеспокоился и уже шел к стойке портье, чтобы спросить, не видел ли его кто-нибудь, когда услыхал рев, показавшийся мне знакомым. Шум доносился от входных дверей, и там я его увидел. Своего отца.
Держа в руке свернутую газету и бешено размахивая ею, папа во весь голос поносил солдата, державшего его рюкзак и собиравшегося проверить содержимое. Я понял: папа выходил за газетой и теперь хотел вернуться.
Появился второй солдат и встал рядом со своим коллегой. Я выбежал наружу и присоединился к отцу.
– Папа, это Израиль, ничего особенного! Покажи им свой рюкзак! Они хотят знать, нет ли у тебя оружия, чтобы убивать евреев. И мы пойдем. Да посмотри же на меня, это я!
– Я такой же еврей, как и они! – ревел отец. – Не для того я пережил Освенцим! Что я, не могу выйти из своего отеля или войти в него?
– Господь всемогущий! Эти ребята всех обыскивают!
Я попытался увести папу внутрь, но солдаты выглядели не на шутку сердитыми и опасными со своими «узи». Вдобавок, они держали папу за руки и этим приводили его в еще большее бешенство.
Я показал им наши паспорта и наши сумки.
Я объяснил солдатам, мальчишкам моего возраста, что папа не в себе. Я продемонстрировал им вполне невинное содержимое его рюкзака: кипа, Тора, бумажник, паспорт, два путеводителя по Израилю, фотографии (Юдит, я сам в шестилетнем возрасте, мама, Лана), три пузырька с лекарствами, игрушечную машинку, пару перчаток, солнечные очки, яблоко, три пакетика М&М и коробочку сверкающих камушков. Они едва взглянули на все это и отпустили папу.
Он выглядел успокоившимся. Кивнул юным солдатам, не поглядев на них, и извинился. Они отвернулись.
Израиль.
Я понял, что апофеоз еврейского взаимопонимания и тепла, которого я подсознательно ожидал, – скорее дурацкая иллюзия. Шоа [7]7
Шоа – Катастрофа ( иврит).
[Закрыть]ощущалась здесь таким же давним и далеким событием, как и у нас, в Голландии. Может быть, даже более далеким. Для энергичного израильтянина задержание возможного врага означает предотвращение попытки Endlösung [8]8
Endlösung – окончательное решение (еврейского вопроса) ( нем.).
[Закрыть]или отступления [9]9
Имеется в виду отступление с «территорий», подконтрольных Израилю арабских земель.
[Закрыть], о котором никто в Израиле, особенно молодежь, не хочет даже думать.
23
Снаружи солнечный свет обрушился на нас с немыслимой силой. Было невыносимо жарко. Папе пришлось сесть. Сперва на корточки, а потом прямо на землю. Он снова стал бледен, как всегда.
– Я больше не могу, – плакал он. – Я просто не могу. Почему Юдит захотелось сюда? Дерьмовая страна, дерьмовые евреи: они меня не считают за своего. Я не доберусь до Масличной горы, мне это не под силу. Я просто помру по дороге.
Папа был самый бешеный человек из всех, кого я знал, но в таком состоянии я его прежде не видел. Раз на французский границе он нахамил таможеннику, но обычно при контактах с людьми в форме казался скорее напуганным. А в экстремальных обстоятельствах всегда становился энергичным и сильным.
Я изо всех сил пытался не поддаться растущей панике. От моих ранних религиозных чувств уже почти ничего не осталось, но я был уверен, что
Юдит должна быть похоронена в полном соответствии с еврейским законом. А до начала церемонии оставалось не так много времени.
Надо было найти такси, чтобы доехать до кладбища.
– Пап, вставай, ты себе никогда не простишь, если опоздаешь, ты и сам это знаешь. Пошли.
Я попытался поднять его, но мне не хватило сил. Он сидел, наклонясь вперед, и громко, открыто рыдал. Прохожие останавливались и спрашивали, не надо ли помочь.
– Нет! – орал я.
В Израиле все орут.
– Пап, успокойся. Возьмем такси и поедем. Подумай о Бенно.
– И мамы с нами нет, – рыдал он. – Макс, поезжай туда прямо сейчас. Я пока прилягу. Я буду счастлив, если ты поедешь сразу. А я приеду чуть позже. Пожалуйста, Макс!
Я представил себе, как он сходит с ума от одиночества в нашем номере, и мне стало нехорошо. Срочно нужна была помощь, но кто мог нам помочь? Бенно? Он тоже был не в себе. И я не знал, в каком отеле он остановился.
Мамино отсутствие представлялось мне теперь непростительным актом агрессии, почти преступлением, более того: ошибкой. Папе, как всегда, удалось представить абсурдными чувства и поступки окружающих. Особенно тех, кто имел наглость рассердиться на него. Обычно мы успевали осознать свою ошибку, но папа никому не позволял забыть, как он страдает от полученных по нашей милости болезненных ран.
Как может мама спокойно сидеть дома, когда папа так несчастен?
Я сидел возле папы на залитом солнцем тротуаре и путано пытался убедить его, что нам пора ехать на Масличную гору, когда рядом прозвучал знакомый голос:
– Макс? Что вы здесь делаете? Симон, ты зачем сел на землю?
Мы, папа и я, разом подняли головы.
Первое, что я увидел, были незагорелые стройные ноги, обутые в золотистые сандалии, которые я узнал, а подняв глаза выше, увидел всю ее, одетую в тонкое, темно-фиолетовое платье.
Сабина.
Я едва не рехнулся от счастья, увидев здесь ее, ее ноги, ее волосы, ее огромные глаза, такие новые, и знакомые, и прекрасные, – в этой стране, где мы должны были чувствовать себя дома, но где пока что были бездомными. И захотел одного: обхватить ее колени, зарыться в них лицом и остаться так навеки.
А рядом с Сабиной стояла мама.
Конечно, она выглядела по-новому, потому что была рядом с Сабиной и потому что на ней было незнакомое мне белое платье. Их появление выглядело таким естественным, что сперва я даже не пытался понять, откуда они взялись.
Обе имели вид шалуний, довольных удачной шуткой, сюрпризом, который они нам только что устроили. И тут мама заплакала:
– О Боже, Сим, что с тобой случилось?
– Эй, – отозвался папа тихонько, счастливый тем, что оказался в центре внимания.
Он засмеялся тихим, усталым смехом больного, к которому в последний момент кто-то пришел. Сабину он сперва не заметил, словно страдание ограничило его возможности. Его смех привел всех в движение. Он начал подниматься, мама протянула ему руки, чтобы помочь.
И папа позволил ей это, к моему изумлению. Теперь мама заплакала так сильно, что около нас снова стали останавливаться прохожие.
Папа похлопал ее по спине. И она сразу показалась мне очень маленькой. Невидящим взглядом смотрел он поверх ее плеча вдаль. Вместе они казались крепостью, отгородившейся от всего мира, связанной неведомыми даже мне обетами.
24
Я все еще не смел прямо взглянуть на Сабину. Она тоже молчала, ничего не ждала, была такой, как всегда.
– Зачем ты сюда приехала, глупая? – спросил я, глядя в землю.
– Потому что ты тут, – ответила она.
Не поднимая глаз, мы шли навстречу друг другу, пока не столкнулись лбами. Мы все еще не могли поднять глаз, носы наши соприкасались, и глаза принимали странные, психоделические формы; мы обнялись, и это оказалось прекрасным выходом из положения.
Ее тело в легком платье, мягкое и теплое, как воздух вокруг, показалось мне более стройным и сильным, чем раньше. И вдруг я понял, что она – моя единственная девушка – как я раньше этого не замечал? – и едва не заплакал. Я знал, что она это знает, и радовался этому.
Раньше я не смог бы обниматься с девушкой на глазах родителей, но теперь был рад, что появился кто-то, в чьих объятьях можно спрятаться.
И это была Сабина.
25
Родители так и стояли, обнявшись. Папа успокаивал маму, и она всхлипывала уже тише. Они медленно разжали руки, чтобы посмотреть друг на друга, вспомнить, кто они такие, и снова начать привычно ссориться, возвращаясь к началу начал, к тому, чем должна была стать их любовь, основы которой были восстановлены навсегда.
Папа поднял голову, окинул нас долгим взглядом и изумленно, с радостным удовлетворением, проговорил:
– Ну и семейка!
Все еще немного напряженно и с трудом, но уже обретя присутствие духа, он подошел к нам.
– Так, – произнес он церемонно, но я знал, что это от застенчивости, – вы и есть подружка Макса?
– Да, но не говорите мне «вы». Только – «ты», и меня зовут Сабина.
Папа смущенно усмехнулся.
– Мои самые глубокие соболезнования, – продолжала она, и это его тронуло. Она протянула руки, и он обнял ее, слегка театрально, почти по-отцовски, и поцеловал в одну, потом в другую щеку, а тем временем мама рассказывала, как они познакомились в самолете, потому что обе читали одну и ту же книгу Филипа Рота. Прохожие стояли вокруг, пораженные этой сценой, а мы сели в такси и поехали на похороны тети Юдит.
26
Папа, в своей черной с серебром кипе, которую он надевал на Хануку, беззвучно читал кадиш. Кто-то накинул ему на плечи белый талес, а я стоял рядом с Сабиной, обливаясь потом вместо слез. Я не мог плакать, горло у меня пересохло, словно его набили волосами. Мне страшно было видеть папу таким, погруженным в еврейство, словно возвратившимся к началу времен, беззащитным на этой каменистой горе, рядом с крошечным телом сестры, обернутым в белые пелены, в которых оно, как и положено по закону, без гроба, будет опущено в темную дыру.
Мы бросили по горсти земли в могилу – песок, перемешанный с камнями, – и те камешки, которые папа привез с собой, показались лишними. Но когда он выложил их в ряд у изголовья могилы, это выглядело гораздо красивее, чем швырять вниз землю, и было наполнено истинной нежностью.
Папа выглядел заново рожденным, кипа и талес покрывали его голову, когда он подошел к нам с Сабиной и сказал:
– Теперь вы должны жить изо всех сил, обещайте мне это, ладно?
И мы поглядели друг на друга, и я почувствовал в себе силу, большую, чем когда-либо, и Сабина взяла мою влажную ладонь, и, должно быть от жары, мне почудилось, что это – день нашей свадьбы и хупа растянута над нашими головами прямо здесь, на Масличной горе. И я не мог себе представить, чтобы тетя Юдит обиделась на меня за это, – я знал, что душа ее плывет рядом со мною, не касаясь других, и не чувствовал себя виноватым.
27
Трудно поверить, но и семнадцать лет спустя я не могу забыть то чувство пьянящего счастья, которым разрешилась эта мучительно начавшаяся поездка.
Наверное, раньше я не верил, что счастье может быть реальностью, и скорей смирился бы с тем, что мой брак окажется похож на несчастливый союз родителей, чем стал бы мотаться по всему свету в поисках счастья среди чужих.
Это новое, осененное отцовским благословением счастье было для меня спасением. И уже после возвращения из Иерусалима у меня довольно долго случались неожиданные приступы религиозности, но они мне не мешали. Впервые я ни в чем не сомневался. Я был слишком влюблен, чтобы говорить об этом или позволить чему-то измениться.
В противоположность подъему, который испытывал я, Сабина казалась поглощенной вопросами морали, что входило в тайное противоречие с телом: под кожей ее словно вспыхнул костер. Даже если мы едва касались друг друга кончиками пальцев, меня било током, который мгновенно сковывал все тело. Это не было желанием, это было нечто гораздо большее и совершенно невероятное. Чистая метафизика, как я тогда думал. Чудо Господне.
Мы проводили моих родителей в аэропорт, и поезд на Иерусалим провез нас сквозь цепь библейских пейзажей, меж семи холмов, которые предваряли сказочный город. Я сидел, вытянув ноги вдоль скамьи, опершись спиною о подлокотник, а Сабина угнездилась между моих ног, пристроив свои белые ступни между моими, и мы вместе смотрели в окно. Ее темно-рыжие волосы касались моего подбородка, запах корицы шел от нее, я обнимал ее веснушчатые запястья, ее шею, тело, колени, непереносимо совершенные, невероятно невинные.
В Иерусалиме невозможно было подолгу целоваться на улице, и нам приходилось среди дня возвращаться в отель, где мы и оставались, пока на город не опускался вечер. Тогда мы шли к Стене Плача, и там наши грешные желания становились почти благочестивыми, так я, по крайней мере, считал, хотя однажды какой-то хасид плюнул на Сабину, на ее прекрасные обнаженные руки.
Впервые в жизни я был близок с кем-то и не мог насытиться близостью.
28
Мы лежали на поверхности Мертвого моря. Сабина весь день была мечтательна и задумчива. Говорят, здешняя соль полезна для кожи, обжигает и высушивает ее, одновременно смазывая.
Мы прожили целую неделю в Иерусалиме, а потом поехали на автобусе в Эйн-Геди [10]10
Эйн-Геди – национальный парк в Израиле, на западном берегу Мертвого моря.
[Закрыть]– самое жаркое и низкое место мира.
Такое же низкое и жаркое, как мы, сказала Сабина.
Все вокруг было раскалено и сверкало – в точности как нам обещали. Мы без приключений прогулялись вдоль ущелья. И теперь отдыхали в море. Уровень его понизился, и несколько лужиц, оставшихся с влажных времен, выглядели теперь как сухой, сверкающий лед.
Море был мертвым, неподвижным, как стол, и лежать на нем было странно, почти страшно, несмотря на то что все вокруг делали то же самое.
– Знаешь, я сперва жутко на тебя сердилась, – сказала вдруг Сабина. – Ты был настоящим занудой.