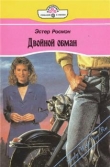Текст книги "Дочь"
Автор книги: Джессика Дюрлахер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
Ночью она погладила меня по волосам, но я притворился спящим. А потом заснул по-настоящему, впервые за эту неделю, – но утром не сказал ей об этом.
10
Наши отношения, особенно вначале, были странными. Семь месяцев прошло, пока мы по-настоящему полюбили друг друга, и любовь эта продолжалась почти целый год. Пока не исчезла.
Сперва мы видались нечасто, словно прежде, чем перейти к естественным, регулярным отношениям, необходимо было дать некий серьезный обет. (Именно этого я и боялся.)
Кроме того, был тот, другой Макс. Если честно, я игнорировал факт его существования. Для проформы я притворялся, что блюду его интересы – не раз, при помощи разных хитростей, я убеждался в постоянстве Сабины, – и вдобавок позволял себе полагаться на благотворные перемены. Казалось, она не слишком встревожена возникшей дилеммой, из чего я скоро сделал вывод, что другого Макса можно не принимать во внимание.
Она звонила часто. Наскоро пересказывала какую-то смешную историю или по нескольку раз спрашивала моего мнения по тому или иному вопросу. Но любила держать меня на известном расстоянии, сохраняя полную независимость. Она была непредсказуема, но ощущение опасности не уменьшало мой энтузиазм, я не мог заставить себя смирить нетерпение, не идти ей навстречу.
За кого она меня принимала?
Когда я звонил ей, у меня всегда был готов план действий. Кино, или обед вдвоем, или театр. Некая цель. Нам не удавалось встречаться чаще чем раз в три недели.
Ясно: «другой» Макс служил удобной отговоркой.
Удивительна была чистота, с которой она шла мне навстречу, и это давало мне время собраться с силами, чтобы видеться с ней, а потом – чтобы прийти в себя. Почти двадцать дней ушло только на то, чтобы убедить себя в романтических чувствах и в том, что я действительно хочу ее видеть. Что я смогу это перенести.
Она оказалась для меня слишком открытой, слишком любопытной, почти неуправляемой. О своей работе в музее Анны Франк она говорила так, словно это была некая миссия. Называла музей: Дом. Всякую историю о своем отце, всякий вопрос о моем начинался с рассказа о том, что случилось у нее на службе.
Я изо всех сил старался сдерживать Сабину, обходить ее вопросы, вести легкую беседу. Я не хотел знать о ней столько, сколько она хотела узнать обо мне.
Ведь мы друзья, повторяла она. От непоколебимой серьезности, с которой она это говорила, мне становилось неловко. Ее чрезмерное внимание ко мне и позерство угрожали моей независимости.
И все равно я продолжал ей звонить. Отчего-то я знал, что она принадлежит мне. Под ее серьезностью, озабоченностью проблемами добра и зла, интересом к своему и моему отцу, который я находил навязчивой идеей, лежало бескрайнее море чувств. Она могла, как ребенок, взорваться безумным, заразительным хохотом, ничего не оставлявшим от ее серьезности. Могла смеяться над собой: мне вспоминается море самопородий. Она обожала детские шалости. Она иронизировала в мой адрес, анализировала меня, издевалась надо мной. Если честно, мы были не друзьями, но буйными насмешниками. Я обожал поддразнивать ее, и она с удовольствием позволяла мне это.
Ее серьезность делала меня острым и точным, ее патетика – трезвым и сильным, а смех служил нам обоим защитой от всего этого.
11
Предательство. Это слово вошло в мою плоть и кровь. Оно грозно выглядывало отовсюду. В нем одном было слишком много слов. А когда их слишком много, в словах можно потонуть, можно раствориться. Я охранял свои тайны, я боялся пораниться и молчал.
Сабина же болтала беспрерывно. Когда она была рядом, я тонул в бурном потоке слов и чувствовал такую опасность, что забывал страх. Она учила меня наивности, и я, сопротивляясь изо всех сил, делался мудрее.
В плохие минуты я становился циничен. Чего ни сделаешь, чтобы защититься. Я не мог жить ради сострадания. Поиски исключительных людей вводили меня в состояние дискомфорта. А я искал комфорта. Я лелеял свою гордость. А она нет. Она просто говорила.
– Мой папа герой, ты знаешь? – говорила она. – Он пережил лагерь, спасал людей. Сам он мне не рассказывал, я узнала от мамы. Он об этом говорить не может. Война? И папа сразу замолкает. Я его спрашиваю, а отвечает мама – шепотом об этом рассказывает. Он слишком, слишком много всего пережил.
Мне приходилось сдерживаться. Что на это ответишь? Молчание – золото. От человека, травмированного лагерем, нельзя ожидать участия в спорах. Лучше молчать, чем навлечь на себя подозрение в том, что гордишься своими страданиями.
– Иногда мне кажется невыносимым, что я, скорее всего, никогда не узнаю, смогла бы я стать таким же героем, как он.
Я только плечами пожимал, я был поражен. Страх? Стыд? Гордость? Бог знает. Ничто не казалось мне более чуждым, чем героизм. Как узнать, был ли ее отец действительно героем? Может быть, таким же, как мой? Или как тетя Юдит? Что сделало его героем? И что, я должен теперь вступать в спор из-за какой-то дурацкой чести?
Похороненное прошлое делает жизнь спокойнее, особенно когда мало о нем знаешь. Эта тема заставляла меня цепенеть, делала сонным и вызывала злость. Я понимал, что не представляю, как говорить об этом, если мой папа на самом деле не был героем.
12
Великая история отца сжигала ее. Я понимал это, но делал вид, что ничего не замечаю.
Как-то вечером мы обедали в итальянском ресторане, что всегда согревало душу, сидели друг против друга, как положено. Но от первого же глотка вина она опьянела. И я понял, что она нашла удобный случай рассказать мне свою историю – здесь и сейчас. Она собиралась выложить все разом мне, до зубов вооруженному моей собственной, вернее, заемной историей. Прошлым моей семьи.
– Жила-была девочка, – начала она. – Ее звали Лиза. Лиза Штерн. – Лиза Штерн пряталась в том же доме, где скрывались отец Сабины и его родители. В доме ван Флиитов, во Фрисландии. – Представь себе, я узнала об этом от мамы.
– Она не… Нет, она не может быть твоей матерью… – перебил я, не подумав: любопытство было сильнее меня.
Она покачала головой.
– Нет, Лиза была просто его подружкой. Его великой любовью, – шепотом добавила она.
Я усмехнулся про себя: простейшая романтика мертвого прошлого. Но почему это так злило меня?
Сабина, казалось, ничего не замечала.
– Отец дружил с Миннэ, сыном ван Флиитов, с самого своего приезда к ним, с сорок второго года. Миннэ был почти ровесником отца, учился в школе и, когда мог, приносил домой свои школьные тетрадки, чтобы и отец мог хоть как-то учиться. Мама говорила, что он был красивый мальчик, но не такой умный, как отец, так что скоро ситуация поменялась на противоположную, и отец начал помогать Миннэ.
Примерно через три месяца в их доме поселилась Лиза. От этого на чердаке не стало свободнее. Зато добавился еще один «студент». Лиза была годом старше них, но начала прятаться на год раньше отца и с радостью вернулась к учебе. Теперь они занимались втроем. Сперва все шло как вначале, отец объяснял Миннэ и Лизе уроки, но месяца через два Миннэ это надоело, и он сказал отцу, что будет сам заниматься с Лизой, которая сильно отставала от них обоих. А ему помощь больше не нужна.
Я думаю, что сложности возникли не сразу; отец был доволен – у него появилось свободное время для занятий. Они с Лизой были вместе целыми днями и сперва часто ссорились. Понятно почему: места не хватало, а отец постоянно сидел и читал. Он читал все, что находил в доме, особенно книги о Средневековье, которые собирал Миннэ.
Шло время, и отец заметил, что Миннэ прячет от него учебники. Вот когда начались проблемы. Он спросил Миннэ, где книги, но больше ничего не хотел говорить. Он понимал, что это – трюк, чтобы сохранить Лизу для себя одного.
Именно Лиза заметила, как отец страдает от Миннэ, и, хотя тоже испытывала раздражение от тесноты, решилась ему помочь. Она пыталась поговорить с Миннэ, но сразу заметила, какой Миннэ упертый, и поняла, что он боится потерять ее из-за отца.
Лиза в ту пору была без памяти влюблена в отца и продолжала с ним заниматься, пока Миннэ был в школе или со своими родителями. Она начала писать стихи, посвященные отцу. И мой отец-интроверт растаял – по крайней мере, я так думаю. Они стали друзьями, а через некоторое время даже больше, чем друзьями, и Миннэ заметил это. Я думаю, он застукал их как-то раз в кладовке, потому что там не было другого места, чтобы спрятаться от старших, а может быть, в туалете, не знаю. Важно, что, когда Миннэ их застал, они сидели обнявшись, и он так разозлился, так страдал, что решил отомстить.
Я хотел что-то спросить, но не смог прервать ее. Сабина продолжала рассказ:
– Ну вот, Лизу и отца отправили в лагерь. Их убежище было раскрыто через неделю после того, как Миннэ застукал их в кладовке. Конечно, все случилось из-за Миннэ. Может быть, он пожаловался школьному учителю, которому не стоило доверять.
Я молчал.
– Представляешь, какое бессилие и ревность надо испытывать, если тебе кажется, что только таким способом можно отомстить? – Глаза Сабины сверкали, мое молчание беспокоило ее, она казалась почти грозной. – Ему не нравилось страдать в одиночестве, он даже не пытался попросить своих родителей, чтобы те нашли им какое-то другое убежище. Нет, он должен был их предать, только так. Невозможно вообразить, какой силы ревность надо испытывать, чтобы решиться на предательство. Как он, должно быть, ждал звонка в дверь. Это настоящее убийство, просто оно должно было совершиться позже, когда их довезут до места. Говорят: в любви и на войне все дозволено? Ну вот, тут были и любовь, и война. Но разве может быть дозволено такое?
Она почти кричала, словно сердилась на меня. Может быть, так оно и было.
Я опустил голову. Мне было стыдно, я не смел судить их, как она.
Она продолжала:
– Я всегда представляю его себе со спины – моего отца, его беззащитную, мускулистую юношескую спину, обтянутую пропотевшей футболкой. В человека с такой спиной можно влюбиться, со спины легко нанести смертельный удар – там нет ни глаз, ни оружия, ни защиты. Мне хочется плакать, когда я смотрю на кого-то со спины.
Зубы Сабины блестели в лучах заходящего солнца, теплое пламя просвечивало сквозь щеку. Она ведь тоже была маленькой девочкой, подумал я, девочкой, которая слушала эти истории, примеряла их на себя и, должно быть, продумывала возможные выходы из положения. Я чувствовал вину от того, что ее история не тронула меня.
– Люди кажутся такими невинными и легко ранимыми, когда думаешь об их теле и о том, что они смертны. Когда забываешь их сердитые голоса. Что же до ненависти… Всякий, кто ненавидит, инстинктивно заставляет себя покушаться на невинное, беззащитное, неуклюжее тело, которым обладает другой, такой же живой человек, как и он.
Голос ее стал ниже, теперь она собиралась погрузиться в теоретические рассуждения. А перед моими глазами всплыло видение: ее тело.
– Почему речь идет всегда о чьем-то теле? Потому что именно телу надо заткнуть глотку? Свалить на тело все пороки? Безумие, правда? Только оттого, что им недостает силы, недостает слов. Вот что этот мальчишка сделал. Он предал их – то есть в конце концов убил.
– Но разве можно обозленного, ревнивого мальчишку семнадцати лет осудить раз и навсегда? – спросил я. Голос мой звучал хрипло. Я чувствовал себя так, словно на меня напали. – Если он еще жив, наверное, до сих пор мучается от раскаяния.
– В этом я сомневаюсь, – произнесла Сабина внушительно. Вздох, которым она сопроводила свои слова, выдавал радостную уверенность в своей правоте. Я должен был позволить ей оставаться в этом блаженном состоянии, хотя себе, конечно, не позволял подобной уверенности. В голове у меня стояла звенящая тишина.
Сабина продолжала говорить. Она выглядела почти торжествующей.
– Его соперник в конце концов выжил. То есть мой отец. Остался один, совсем один. Потерял семью и любимую. А ведь он мог наказать человека, который нес ответственность за все это, – добавила она вызывающе, словно я собирался ей возражать. – В то время на такое убийство, разумеется, посмотрели бы сквозь пальцы.
Я снова промолчал.
– Он встретил маму в пятьдесят седьмом, а я появилась на свет в шестидесятом. Теперь его снова кто-то любит.
Мне показалось, что она стала старше, пока произносила свой монолог.
– А Лиза Штерн?
– Лиза Штерн? Не знаю. Наверное, умерла.
Я не мог говорить от ужаса и злости. Я был зол из-за того, что она напилась, и из-за этого рассказа.
– Почему ты, собственно, решила, что он герой? – спросил я. Я хотел сказать: почему ты обожаешь своего отца? Я хотел сказать: разве то, что он – жертва исторической случайности, делает его чем-то особенным? Неужели ты можешь кого-то любить только за это?
Почему я всегда так скептически относился к отцам других?
Сабина заплакала. Опьянение исчезло. Пришло похмелье.
– Зачем ты это спрашиваешь? Я люблю своего отца, понимаешь? Он герой, не только жертва, но и герой. Он чудеснейший, сложнейший, умнейший человек. Он очень много знает, он – лучший из всех, с кем я знакома. Он никогда не рассказывал мне, кто был тот, другой, ни о том, что он ненавидит этого Миннэ. Я думаю, он простил его, потому что был великодушен, великодушнее многих. Знаешь, чего ты не понимаешь? Совсем не стыдно любить того, кто перенес страдания. Я думаю, твой отец из-за тебя так страдает от того, что случилось с ним в войну. Потому что тебя раздражают и его война, и его слезы. Тебе бы хотелось, чтобы твоего отца эта война не коснулась. Но это-то как раз и невозможно. Это глупость и, главное – ребячество! Извини.
Я едва не заплакал от злости. Никто еще не пытался так искусно и так навязчиво копаться в моей душе. Я молчал.
– Будь помягче, – сказала она. – А то ты выглядишь таким сердитым и гордым.
Сердитым? Почему она решила, что я сержусь? Я, черт побери, совсем не сердился. Я нянчился со своим отцом более чем достаточно – и иногда мне хотелось от этого отдохнуть.
Мы заплатили по счету – каждый за себя.
И молча покатили по городу на велосипедах. Она смотрела вдаль. В темноте ее рыжие волосы выглядели почти черными, а лицо вдруг показалось мне незнакомым. Отчего-то мне стало стыдно, но я не знал отчего. Мне захотелось, чтобы она обернулась ко мне.
– Ты бывала в Иерусалиме? – спросил я. Вот оно в чем дело: из-за нее я подумал об Иерусалиме, в котором, как и в Сабине, всего было слишком много: слишком знаменит, слишком прекрасен, слишком символичен.
– Нет, – отвечала она слегка удивленно.
– Я тоже. Давай съездим туда вместе.
– Давай!
Неприязни как не бывало. Теперь она вся засветилась, и это совсем не вязалось с только что произнесенной ею наставительной речью.
Ее открытая радость почему-то разозлила меня. Мне почудилось, будто я оказался в неведомой, пугающей стране, где не существует ни иронии, ни уступок – только слова и чувства. Чужая страна, в которой меня бросили одного.
13
Какой гибкой и стройной выглядела она даже в самой простой одежде, какой мягкой и податливой становилась, когда раздевалась, по-детски угловатая секс-бомба. Она была прекрасно сложена: тонкая, изящная, с небольшой высокой грудью. Мы не спешили перейти к регулярному сексу по полной программе; все наши ласки и объятья были скрытыми, почти тайными, словно мы прятались сами от себя.
Дружба – вот самое точное название наших отношений, но все чаще мне становилось трудно себя контролировать. Я никак не мог разрешить эту загадку. И не только потому, что Сабина была такой необычной и такой красивой. Дело было и в поведении, она обожала выражаться значительно и как бы не слышала того, что не совпадало с ее взглядами. В ней жило нечто пуританское, мне неприятно было это видеть, и это добавляло поводов для раздражения.
Дружба.
Я не знал, чего хотел. Хотелось забыться, не вслушиваться в ее слова; и много чего еще хотелось: гладить ее нежный живот, белые руки. Стыдливость Сабины приводила меня в восторг, как и ее бесстыдство. Но назвать это влюбленностью я не могу. Потому что я был слишком груб, слишком безразличен. Конечно, это была дружба, и не важно, любили ли мы друг друга: спали-то мы вместе.
А она вела себя так, словно не замечала моего безразличия; рот в рот сцеплялись мы, словно атомы в молекуле, и я чувствовал, как во тьме (всегда во тьме) она отдавалась мне со страстью, сама же от нее возбуждаясь, и тем усиливая мои подозрения, что девичья застенчивость ее есть некая маска, которую можно сбросить только ночью. По ночам мне казалось, что в ней оживает другая Сабина: страстная и ненасытная, похожая на меня. Может быть, виновато было наше знакомство «у Анны Франк»: днем мы стеснялись друг друга, словно я был братом Анны, а она – ее сестрой. Притворное согласие или согласное притворство.
14
В ту ночь, после разговора в итальянском ресторане, все было по-другому. Каким-то образом она взяла бразды правления в свои руки.
Очень спокойно, сидя на постели, очистила яблоко, разрезала на четыре части и две подала мне. Она ела лежа, закинув руку за голову. И ничего не говорила. В этом было что-то невыразимо прекрасное, почти нереальное, словно мы участвовали в съемках фильма и ждали только команды режиссера, чтобы начать диалог.
Ее маленькие груди казались беззащитными и гордыми, словно не принадлежали ее телу, но были положены сверху. Я понял, что силой ее была беззащитность, и был смущен этой, необычайно стильной, соблазнительностью.
Я должен был что-то делать, но только смотрел на нее, улыбаясь и не смея пошевельнуться. Не знаю, почему. Неподвижная и загадочная, глядела она на меня, едва заметно двигая попкой.
– Иди ко мне, – произнесла она почти беззвучно.
Я медлил. Потрясенный, я не чувствовал вожделения. Я хотел просто спрятаться в ней.
Наконец это странное состояние медленно уплыло прочь, как облако дыма, не причинив мне вреда. Я неловко сел рядом с ней, потом прилег. Я лежал отдельно, уставясь на большое грязно-желтое пятно на потолке. Взгляд Сабины обжигал меня, словно солнце, а я лежал, до смерти напуганный, бедный, глупый, растерянный трусишка.
Пока она не обхватила меня руками и не втащила на себя.
Одурев от благодарности, я прижался к ней. Дыхание наше постепенно смешивалось, пока не стало общим, и так мы лежали.
Крепко обнявшись, мы лежали бесконечно долго – несколько часов, а может быть – несколько минут. Мы молчали и не двигались. Она пахла свернувшимся молоком, как младенец. Никогда и ни с кем я не лежал так близко.
А после всего этого я вернулся к себе домой – чтобы несколько недель не звонить ей.
15
Трудно поверить, что я мог так долго не видеться с ней. Словно Сабина была частью пейзажа, промелькнувшего за окном. Во всяком случае, я так считал. Я ходил на лекции, занимался в библиотеке и время от времени встречался с другой девушкой, китаянкой по имени Лиан, загадочной и такой тихой, что я с трудом замечал ее присутствие.
Я знал, что плохо воспитан, – по крайней мере, так говорили и Сабина, и мама, и сестра. Но для них я был Макс, красавчик Максик (или – скучный Максик, по мнению Ланы), и с ними мне не приходилось выпендриваться. Они любили меня таким, каким я был.
Иногда мне хотелось заглянуть домой, чаще всего – когда чувство вины побеждало стремление к независимости. И тот же сладостный мазохизм принуждал меня видеться с Сабиной. Она была для меня, так сказать, точкой отсчета, мерой моих чувств, как и семья – только совсем в другом роде. Нельзя сказать, что я понимал это. Тогда я вообще мало что знал о себе.
16
Тетя Юдит умерла в октябре, не прошло и семи месяцев со дня ее визита в Дом Анны Франк. Тот Самый Дом. Бенно позвонил, говорил что-то, задыхаясь и хрипя, был не вполне адекватен.
Папа сообщил мне об этом по телефону – поразительно спокойным голосом. Наверное, выплакал все слезы раньше, когда Юдит была еще жива. Он сказал, что собирается завтра лететь в Чикаго, вместе с мамой. И спросил, не смогу ли я у них пожить.
Я отправился к ним немедленно, было около полудня.
Они молча сидели за столом, оба были бледны. Еда в большой миске стояла посередине и была еще горячей: от нее шел пар. Я был, как всегда, голоден. А они собирались есть цыпленка, цыпленка с бобами. Иногда они готовили горячее дважды в день, к обеду и к ужину. У нас не было принято экономить на еде.
Мама задумчиво крутила в руках большую ложку и глядела в стол, напряженная, как натянутая струна.
– Привет, Макс, сынок, – сказал папа дружелюбно и снова замолк. Тишина отозвалась эхом, словно он продолжал говорить, каждый казался погруженным в собственные мысли.
Я достал из буфета тарелку. Папа сидел, сжав голову руками.
– Завтра с утра мы летим в Чикаго, Макс, – сказал он.
Он покосился на меня. Мама накладывала мне в тарелку чудовищную порцию бобов.
– Мама, хватит! – закричал я, увидев, что она кладет мне четвертую ложку «с горочкой». Казалось, она не сознавала, что делает. Она уронила ложку. И прошептала:
– Я не могу ехать, Симон. Я не поеду.
Мама произнесла эти слова громким шепотом, так что они прозвучали немного театрально; было ясно – она приняла это решение очень давно. Меня тронуло, что она специально дождалась меня, чтобы сказать это.
Я просто обалдел. Моя милая, тихая мама, которую все называли святой и которая всегда была послушна воле мужа, наконец-то сказала вслух, чего она хочет.
Папа в изумлении уставился на нее. И я тоже. На минуту воцарилась мертвая тишина. Мама села и робко посмотрела на папу. Слезы бежали из ее глаз, взгляд был испуганный, но непреклонный.
Папа держал вилку, уперев рукояткой в стол, как флаг, и смотрел сквозь ее зубья. Он казался обеспокоенным.
– Да ты рехнулась, – неторопливо и внушительно произнес он. – Как ты можешь отпустить меня одного на похороны сестры? Единственного оставшегося от моей семьи человека?
Лучше бы он промолчал. Потому что бешеная реакция мамы была точно такой же, как моя, когда я оказывался на ее месте: скорее облегчить душу, раз появился повод, пока противник не приготовился к атаке. Слезы мгновенно высохли.
– Как я могу? Как могу? А ты хоть раз в жизни пробовал послушать, что говорит кто-то другой? Разумеется, то, что она умерла, – ужасно. Мы в трауре по ней с тех пор, как она, больная, вернулась в Чикаго. Но ехать? Мне? Да я просто не могу! Я для нее никогда не существовала, Симон, ей мой приезд совершенно не нужен…
Папа попытался вставить что-то, но она ему не позволила:
– Нет уж, послушай меня, Симон. Я ей не нравилась, она не любила, а может быть, даже ненавидела меня. Она ненавидела всякого, кто вставал ей поперек дороги.
– Глупости! Ты просто боялась ее!
– Вовсе нет! Ты это все время повторяешь! Все эти годы она давала мне понять, что считает меня глупой шиксой [4]4
Шикса – нееврейка ( идиш).
[Закрыть], что мне замечательно жилось во время войны по сравнению с вами и что я ничего не понимаю в жизни, потому что не сидела в лагере!
И снова папа попытался возразить, в его глазах появилось настоящее сострадание. Но она не давала себя перебить.
– Я не могу ехать в Чикаго, Симон. Пусть Макс едет. Я больше не могу плакать по ней. Она всегда злилась на меня. Потому что я вышла за тебя замуж, потому что мы с тобой были вместе. Она говорила мне, что я слишком мало понимаю в твоем прошлом! Да как она смела! Она говорила, что наш брак даже сравнивать смешно с той связью, что существует между вами! Конечно, смешно сравнивать! – Мама, которая произнесла этот монолог незнакомым мне низким, хриплым голосом, теперь кричала: – Почему бы ей было самой не выйти за тебя замуж?!
Она разрыдалась.
Папа глядел в стол, усталый и совершенно раздавленный. Потом заговорил – и слова его прозвучали почти театрально из-за чрезмерной резкости:
– Прекрати, пожалуйста, черт побери, изображать из себя идиотку…
Он повернулся ко мне.
– Тебе не кажется, что это недостойно? Я поверить себе не могу, что дожил до того, чтобы такое выслушивать. Какая наглость. Моя собственная жена… Боже, Боже…
Теперь мама получила удар, выбивший ее из седла. Но быстро оправилась. Я думаю, потому, что папа на самом деле смирился с ее предательством. И она произнесла в пространство, ни к кому не обращаясь:
– Кроме того, я боюсь летать самолетом.
Последняя фраза, кажется, впитала в себя весь яд, которым была напоена ее речь. Мама действительно ни разу в жизни не летала. Только никогда раньше не говорила – почему. То, что она призналась в своих страхах, означало, что она смогла преодолеть себя. И признание это послужило жертвой, которую она принесла, чтобы искупить свое предательство.
И пока папа сидел, уставясь в пространство перед собой, я вклинился в их диалог. Я ел за троих и попытался сказать что-то с набитым ртом, чтобы примирить их. Я сказал, что раз так, то, конечно, она не может лететь.
– Не встревай, Макс. Я хочу, чтобы ты полетел. Ты ведь был без ума от Юдит, не так ли?
И тут я сказал маме, что она ставит под угрозу свой брак. Как будто мы с ней были одни в комнате.
Мама продолжала упрямо рыдать, встряхивая головой. Ну да, наконец-то она выбрала время, чтобы сказать все, что думает. Казалось, она потрясена собственным мужеством и невозможностью повернуть все вспять. Это был безумный рывок к свободе, какой случается, когда человек слишком долго терпит свое приниженное положение, но в конце концов срывается с катушек, круша все на своем пути. Наверное, мама и сама не понимала, что именно сейчас сделала.
Она поднялась наверх и включила пылесос. Пылесос, я знал с детства, был ее персональным аппаратом для медитации.
Я откинулся на спинку стула. По столу были разбросаны бобы. Папа продолжал смотреть перед собой, но уже не выглядел сердитым, скорее – погруженным в размышления.
Я не знал, было ли то, о чем говорила мама, правдой. Но я заметил, что во время визита Юдит они почти не разговаривали. Скорее всего, в их прошлом действительно было полно ссор.
17
Я часто вспоминал, как тетя Юдит стояла у стола, накрытого к завтраку. С тех пор я несколько раз звонил ей, и, хотя это были пустые разговоры, мне показалось, будто между нами существует особая связь. Она мне нравилась. Я был бы не против, как говорится, отдать ей последний долг и почувствовал себя прекрасно, когда понял, что хочу именно этого. Естественно, с папой должен ехать я. Лана заканчивала курс искусствоведения в Дании и теперь сдавала экзамены.
Папа сразу заказал билеты до Чикаго. Но позвонил какой-то племянник Бенно и передал, что Юдит, оказывается, желала быть похороненной в Израиле и ее тело туда уже отправили. Бенно, видимо, был не в себе, когда утром звонил родителям, и забыл сказать об этом.
Новость шокировала всех, особенно папу, который понятия не имел об особой привязанности Юдит к святой земле Иерусалима.
Я тоже удивился. В наших телефонных разговорах Израиль не упоминался никогда.
И маму новость заинтересовала – лететь туда, конечно, не так долго, но добавился лишний повод поставить на своем. Она даже выключила пылесос, когда папа деловым тоном сообщил об изменении маршрута. Только я заметил умоляющее выражение его глаз. Она не может лететь, сказала мама, особенно – в Израиль. После чего небрежным движением снова врубила свой обожаемый «бош».
Она все еще пылесосила, а я пытался заказать по телефону новые билеты для папы и для себя, когда мне в голову пришла гениальная идея. Не помню, появилась ли она оттого, что я пребывал в панике, или возникла в процессе спешной разработки плана действий, но привела меня в прекрасное настроение, хотя ничего особенного в ней не было. Этой идеей нужно было немедленно с кем-то поделиться.
Механический голос в очередной раз сообщил мне, что очереди ожидают еще десять человек, когда я отключился и набрал другой номер.
Сабина отвечала, запинаясь от неожиданности:
– Прямо сейчас, ты хочешь сказать, уже сегодня? Если Дом меня отпустит… Твоя тетя… Вот ужас-то! Они должны разрешить мне, ведь это поездка в Израиль… Господь Всемогущий! Завтра – в Иерусалиме! А твой папа не будет против? Вау! Что там у вас шумит, полиция? Или пожарники приехали?..
– Пылесос. Я сейчас перезвоню.
На самом деле я знал, как он ответит на этот вопрос. Знал, не успев еще повернуться и посмотреть на папу. Почему я не дал себе труда сперва подумать?
Я стоял в гостиной и высказывал свои наивные идеи, тонувшие в реве пылесоса. Папа сидел на диване, надев наушники, и слушал музыку, размахивая в такт рукою.
– Пап, мне было бы приятно, если бы моя девушка поехала с нами.
Я понимал, что должен не утверждать, а спрашивать.
Но папа ничего не слышал. Он не сразу заметил, что я что-то говорю. Глупые слова вылетали в комнату и возвращались ко мне. Никто, кроме меня, их не слышал. Девушка. Моя девушка. Я наклонился к нему поближе и повторил свой вопрос.
– Девушка?
Его голос мгновенно изменился. Я никогда не приводил своих девушек домой, они были чужими, у нас в семье их не любили. Только раз, мне тогда было шестнадцать, я привел домой девушку. С тех пор я поумнел и больше этого не делал.
Папа снял наушники, чтобы услышать, что я там выкрикиваю.
– Ты видел ее в Доме Анны Франк, когда мы были там с тетей Юдит.
– Анна Франк? – Теперь он тоже пытался перекричать пылесос. – Господи, этого не может быть!
Я понял: он решил, что так зовут мою девушку.
– Моя девушка там работает, слушай, что я говорю, черт побери!
– И как же ее зовут?
– Сабина. Сабина Эдельштайн. Темненькая, с большими черными глазами.
– Да что ты! Глаза, как арабские пятки?
Поразительно, но папа всегда готов был отпускать подобные шутки. Он даже слегка улыбнулся.
Большая, темная и с влажными глазами, как арабские пятки. Сколько раз я слышал нечто подобное.
Похоже, новость его обрадовала.
– Я рад, что ты мне об этом рассказал, сынок. – Он смотрел на меня выжидательно, не вполне уверенный, должен ли еще что-то добавить. – Она красивая?
Господи, теперь он перешел на игривый тон.
Мама заметила: что-то происходит, и выключила пылесос.
– Что? Что такое?
– Он завел девушку, наш Макс.
Радость мелькнула на мамином лице, но я видел, что она пытается сдержать ее, боясь меня напугать. Я принялся рассказывать снова:
– Сабина, та девушка из Дома Анны Франк.
Мама хотела знать, не полюбили ли мы друг друга прямо тогда, с первого взгляда.
– Боже мой, Макс, в это невозможно поверить.
– Хорошая девушка?
– Да, да, конечно. Пап, так ты не против? Тогда ты сам сможешь убедиться, что она красивая.
– Не против? Чего?
– Чтобы она поехала с нами.
– О чем ты? Вместе? Ты хочешь сказать, вместе с нами в Израиль? – Он обиженно посмотрел на маму, беспомощно пытаясь найти поддержку. – Он хочет взять свою новую подружку с собой в Израиль! Ты что, совсем рехнулся? И кто за это будет платить?
Радость моя немедленно испарилась. Об этом я не успел подумать. Но сразу нашелся: