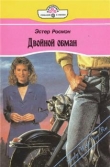Текст книги "Дочь"
Автор книги: Джессика Дюрлахер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
– А что там было написано? – Я старался говорить спокойно.
– Н-ну, там была какая-то странная, почти истерическая история. Что-то о женщине, которая знала Феддерса ван Флиита… Кстати, ты знаешь, кто это?
– Да, – прошептал я.
– Отлично, так вот, эта женщина надеялась, я полагаю, узнать о нем что-то через Лизу. Она где-то узнала, что он, после того, как предал нас, записался в немецкую армию, чтобы воевать на Восточном фронте. Но это были только слухи. Я в своей книге об этом вскользь упоминаю.
– В каком месте? – спросил я, потому что не заметил в книге ничего подобного.
– В отдельном приложении, с которым я еще не решил, что делать. Я думаю, вернее, считаю неэтичным подвергать публичному осуждению без достаточных доказательств того, кто в те дни был слишком молод. И у меня нет никакого желания тратить время на этого мальчишку. Честно говоря, он меня не занимает. Он предал нас, нанес нам невосстановимый, непростительный вред. И довольно об этом. И знаешь что: мне удобнее было бы узнать, что он и дальше продолжал вести себя так же, чем если это был глупый импульсивный поступок, который он, может быть, совершил случайно. Я много лет думал над этим вопросом. Если бы между мной и Лизой ничего не было, может быть, Ханс не предал бы нас? А если бы я не застал их в кладовке, что тогда? Если бы я не рассказывал Хансу с таким энтузиазмом о нашей культурной жизни в Амстердаме, может быть, он не был бы так ревнив? Если бы я не старался завоевать его уважение? Et cetera…Но и после всех разоблачений он оставался обычным мерзавцем. Ничто не изменило бы его, никаких «если» не существовало – все просто: засранец, предатель, дерьмо. Это стало, кстати, чудовищной трагедией для его родителей. Они желали нам добра, я уверен. Потом я понял, что и они, должно быть, дорого заплатили за свои благие намерения. По крайней мере, необходимо это узнать… Если бы я решил публиковать свою книгу… Но куда девалось письмо?
– А ты не помнишь, зачем эта женщина расспрашивала Лизу? Она историк? – спросил я.
– Этого не вспомню. Я ведь Лизе даже не ответил, уж не знаю почему. Наверное, не хотел больше иметь дело со всем этим. – Он помолчал, собираясь с мыслями. – Но у меня есть и хорошая новость: с утра я вспомнил-таки Лизину новую фамилию. Мандельбаум. Я вспомнил, потому что у нее на террасе, в горшках, растут миндальные деревья. Она как-то раз написала мне об этом, она так хорошо все описала, что я словно увидел их перед собой. Кажется, он был доктором, ее муж, специалистом по легочным болезням или вроде того, в Иерусалиме… если он еще жив, то, должно быть, давно на пенсии. Его звали Мандельбаум. Ури Мандельбаум.
– Чудесно… это облегчает дело. Вот только письма нам, наверное, не найти. Ты его никогда не перечитывал?
– Насколько помню, нет.
– Но ты помнишь, когда получил его, в какое время?
– Да какая разница? Давно. Много времени прошло. Должно быть, еще до Сабины, во времена расцвета The Milky Way. Я никогда не говорил о нем Сабине, но когда мы познакомились, попросил ее привести в порядок мою корреспонденцию. Помню, как я был доволен, что легко мог найти все, что хотел, особенно когда начал писать.
– Загадочная история. А больше ничего не пропало, ты не смотрел, остальные письма все на месте?
Сердце мое билось тяжко и медленно и не поставляло мозгу достаточно кислорода.
– Кажется, все в порядке, но надо поглядеть…
Я не посмел продолжать разговор о письме.
– Итак, Мандельбаум, – подвел я итог. – Ты не против, если я попробую ее разыскать? Лизу Мандельбаум-Штерн?
– Почему я должен быть против? Все это было так давно. Надеюсь, она еще жива. Я и сам бы с удовольствием с ней поговорил…
Я сделал вид, что не понял его намека.
71
Стоило мне подумать об Иерусалиме, как сразу вспомнилась Сабина в фиолетовом платье, ее гладкая кожа, обнаженные плечи, по-детски тонкие руки, которыми она неожиданно обнимала меня, нежная, как у младенца, щека, касающаяся моей. Иерусалим удивительно шел ей; мы были под стать друг другу, это походило на игру, возвышенную игру, которую она с удовольствием вела. Таинственность, слегка пугающая религиозная суматоха в святых местах Старого города и у Стены Плача, душная жара на Виа Долороза, Масличная гора, на которую невозможно теперь подняться из-за града камней, швыряемых арабами, и, конечно, те семь холмов, которые мы видели из окна вагона, когда возвращались в город, – вот декорации, внутри которых передвигалась Сабина, не зная gêne, как опытная трагическая актриса со старинной гравюры.
Было нечестно так думать, и я понимал это.
Потому что и сам я чувствовал себя в Иерусалиме, как дома; и участвовал в этой игре без правил, ибо был счастлив своей неожиданной, смертельной, слепой влюбленностью. Так можно было играть только вдвоем. И дело не в Сабине и не в Иерусалиме: игра шла между ней и мной, мы оба играли с одинаковым восторгом. И чувства, которые эта игра дарила, оказывались более истинными, чем все прежние.
Если честно: те чувства не имели ничего общего с бедой и страданием, которые прежде я считал единственно возможным результатом отношений. Еще поразительнее, что я вовсе не стыдился этого.
И такой необыкновенной стала для меня та единственная поездка чуть меньше семнадцати лет назад, что я никогда туда больше не возвращался.
Но теперь ехать придется. Мне предстояло играть новую роль. Лиза Мандельбаум-Штерн ожидала меня.
72
Неужели там живут люди, думал я, неужели это обычные дома с водопроводом и канализацией, телевизорами, центральным отоплением и кондиционерами, здесь, среди древних камней, на земле, пропитанной историей? Иерусалим. Старый город.
Я многое забыл, но многое осталось неизменным.
Например, шум: непривычный, выводящий из себя – перезвон колоколов, крики муэдзинов, наперебой объясняющие что-то гиды. И не забыть бы тишины у Стены Плача, сотканной из молитв и причитаний верующих евреев в кипах и с полосатыми талесами на плечах и болтовни туристов, невольно снижающих голоса до шепота. Такой шумной тишина может быть только у Стены Плача, и на этом фоне все остальные шумы слышатся по-другому; мягкий шорох подошв о тяжелые ноздреватые камни уже не воспринимается как нарушение тишины, вторжение в святая святых, ибо некогда здесь был возведен Храм.
На улицах, расположенных по другую сторону, где жила Лиза Мандельбаум-Штерн, тишина и шум были совсем другими – уютнее, прозрачнее. По ним идешь, как по музею. Но, несмотря на удивительное чувство защищенности в этом изумительном городе, тревога не покидает тебя. Из-за постоянной угрозы, исходящей от другого Бога, на каждой улице, на каждом углу.
Битва за истину.
73
Лиза Мандельбаум жила в первом ряду отреставрированных домов к югу от Стены Плача; каменные стены, толстые и обветренные, казались настоящими скалами, а не рукотворными сооружениями. В одной из стен я нашел дверь в ее дом, а рядом с нею, над янтарной мезузой, медную кнопочку звонка.
Она оказалась выше ростом, чем я ожидал, худой и стройной. И руки у нее были худыми и длинными. Свои темные с сединой курчавые волосы она убирала в пучок, заколотый длинной серебряной шпилькой. Темно-синий просторный комбинезон был испачкан чем-то белым – глиной или краской.
Вдоль стены выстроились в ряд картины. Я догадался, что это ее работы и что она работала до той самой минуты, когда я позвонил в дверь. Я и не знал, что Лиза – художница, что она все еще работает; и выглядела она гораздо моложе, чем я ожидал. Сэм рассказал мне слишком мало, да я его и не расспрашивал.
Я искренне похвалил ее работы. Картины были простыми, все одного размера, высотою чуть меньше метра, и без претенциозности, которой часто грешат вещи современных художников. Без ненужной, раздражающей абстрактности деталей. Мне нравится разглядывать на картинах подробности, а не пустое полотно, на котором самое интересное – неровная поверхность холста.
А здесь были живые существа, люди – тонкие, едва различимые фигурки с дружелюбными, не похожими друг на друга лицами, застывшие в разных позах. Странный, светлый, пугающий парад призраков.
Я попытался незаметно миновать их, словно то были ее друзья, которым меня не представили. Как трудно, должно быть, нарисовать столько людей, ни разу не повторившись, подумал я и вдруг понял, что это за призраки.
74
– Садитесь, – сказала она. Странный акцент: сразу ясно, что ей никогда не приходится говорить по-голландски.
Я представился и собирался было объяснить, зачем приехал. Но она меня перебила:
– Вы знакомы с Сэмом Зайденвебером?
Это был лишний вопрос, я ей уже все рассказал, когда договаривался о встрече. Но Лиза стала расспрашивать, как у Сэма дела, где он живет, что делает и как мы встретились.
Я рассказал о его карьере, фильмах, жене, о Лос-Анджелесе и перешел к книге, копию которой привез с собой. Я не решился сразу приступить к расспросам о ее прошлом, но спросил о письме, которое Сэм получил почти двадцать лет назад.
– Вы знаете, ведь мы были любовникамиво время войны, – сказала она с вызовом. – Сэм был моей великой любовью, вы знаете об этом?
Она заметила мое смущение, но неверно его истолковала.
– Мой муж умер пять лет назад. Я была счастлива с ним. Он был мне мужем. Но Сэма я не смогла забыть. Сэм был… У нас была общая юность, будущее, невинность – хотя мы жили в убежище и на невинность времени не оставалось… После войны и лагерей Сэм не смог стать прежним. Так же, как и я. Слишком много страданий. Слишком много смертей. После того, что с нами случилось, мы не смогли снова стать теми, кем были. Мы это сразу поняли – в каком году это было? В сорок шестом? Когда он приехал в Хайфу.
Я молчал, события и без того развивались чересчур быстро.
Торопливо и громко (она, видимо, не очень хорошо слышала) Лиза рассказывала о роковых днях, которые они с Сэмом провели в Хайфе. Ни он, ни она не смогли найти верных слов. Прикосновения, которых она так долго ждала, ранили, вместо того чтобы смягчить боль и успокоить.
– Такого я больше никогда не переживала: его прикосновения, даже самые легкие ласки доставляли мне почти физические страдания, вызывали боль и сопротивление – такие сильные, что меня начинало тошнить, простите за подробность. А я все эти годы только о нем и мечтала, надеялась увидеть его снова.
Поймите меня правильно: я не разлюбила его, эта боль рождалась в сердце, боль от того, что он здесь, рядом со мной. Я думаю, он чувствовал то же, что и я. Это была беда, потому что я не могла переносить ничьих прикосновений, а тут он, собственной персоной, но на самом деле именно то, что я с ним увиделась, пробудило меня к жизни. В ту пору я хотела одного: забыть. Работать, забывать, жить – разные слова, обозначающие одно и то же. Пробуждение Лизы, которую он знал, принесло боль и пробило защиту, которой я себя окружила. Я словно заново родилась, понимаете? Просто немыслимо. Странно, да? – И вдруг она спросила: – Вы – еврей?
Она внимательно смотрела на меня. Свой? Или явился из враждебного мира?
– По отцу, – ответил я.
– Его книга – она о войне, о нас? – спросила она. – Книга Сэма?
Я кивнул.
– Хорошо написана?
Я снова кивнул:
– Очень хорошо. Но до чего же страшная история. Вы ведь знаете. Вы были там…
– Смотря когда, – сказала она. – Частично. В самое страшное время мы не были вместе.
Она замолчала.
– Сэм боится, не наделал ли он ошибок, – сказал я наконец. – Нет ли в его описаниях неточностей. Не согласитесь ли вы прочесть?..
Она подумала немного, потом сказала:
– Это будет нелегко… Не знаю, хочу ли я, вернее, смогу ли. Почему вы пришли ко мне? Ведь это история Сэма.
– Потому что слышал ваше имя раньше. – Я посмотрел ей в глаза. – Я слышал совсем другой рассказ, и содержание было другим, и выводы из него следовали другие. Мне хотелось узнать… – Я глубоко вздохнул. – Помните, вы когда-то посылали Сэму письмо про Ханса Феддерса ван Флиита?
Имя прозвучало, и лицо ее изменилось. Гримаса отвращения исказила его. Она спросила:
– Это Сэм вам рассказывал?
– Да.
Она поднялась и пошла в глубь комнаты, к верстаку, на котором лежал большой ком глины.
– Вам нетрудно будет пересесть сюда?
Она смочила руки, скатала из глины шар и вцепилась в него с неожиданной агрессией, оставляя вмятины на поверхности.
– Что мне было делать? – Голос ее сорвался. – Женщина, испуганная, несчастная женщина! Появилась здесь, в Иерусалиме, и пришла прямо ко мне. Приехала, попала ко мне почти случайно, привезла фотографии, много, разные. Спросила, узнаю ли я его. Как будто я могла не узнать это лицо! Я узнала бы его из тысячи. Ханс. На самом деле его звали Миннэ, но мы называли его Хансом. Ханс Феддерс ван Флиит. Она хотела знать, что у меня с ним было, когда мы прятались в их доме, и любила ли я его! Любить его – умора, правда? «Нет, – крикнула я, – никогда! Как можно любить мерзавца? Предателя? Ни единой секунды!» И она вся сжалась, эта женщина.
«Вы правда так думаете? – спросила она. – Вы правду говорите?» – «Да, конечно, – ответила я. – Я любила другого. Ханс просто ревновал. Я даже не знаю точно кого: меня или его, Сэма, который был моим любовником». Эта женщина была поражена! Хотела знать, кто такой Сэм, его полное имя, его адрес.
– Вы не могли бы описать, как он выглядит, Ханс Феддерс ван Флиит? – спросил я.
– Ханс? Блондин или, лучше сказать, рыжий. Рыжие кудрявые волосы. Кажется, это называется – strawberry blond [49]49
Strawberry blond – рыжеватый блондин ( англ.).
[Закрыть]: белокожий, со светло-рыжими волосами. Голубые прозрачные глаза. Высокий. Очень высокий. Красивый, ничего не скажешь. Сэму было далеко до него, хотя и он был симпатичный парень. Но Сэм был брюнет, ниже ростом и совсем неспортивный. Я была выше него.
Уже потом я вдруг поняла, что он, Ханс, был влюблен в нас обоих: ему хотелось иметь что-то такое, что было в нас и чего сам он иметь никак не мог. Он вроде как ревновал нас к нашему еврейству. Безумие, конечно, полный идиотизм, но такие вещи случались, они случаются! Из ревности он предал нас всех. Даже собственных родителей. Он мне этим угрожал…
Лизины руки ритмично двигались, снимая лишние кусочки глины, голос становился спокойнее и глубже; шар менял очертания, – казалось, своими движениями она оживляла его.
– Я рассказала ей все. Рассказала, что он пытался меня изнасиловать. Подлец. Никогда не забуду его лица – таким испуганным и изумленным собственной жестокостью он выглядел: смесь робости и торжества победы надо мной. Я точно знаю: он предал нас из какого-то извращенного чувства вины. Он возненавидел нас с Сэмом оттого, что чувствовал себя виноватым.
Впрочем, всего этого я ей сразу не сказала. Говорила, что он, должно быть, ревновал и все мы были почти уверены, что он нас предал. Кто еще мог бы это сделать – ни одна душа о нас не знала. Даже мимо никто не ходил, а если кто и забредал, его видно было за несколько километров.
«Я знала это, – закричала она и повторила, раз десять, наверное: – Я знала это, я знала это! Так это правда! Так это правда!» – «Конечно, это был Ханс! – закричала я в ответ. – Господи, а вы как думали?!»
У нее была такая каша в голове. Я спросила, почему она пришла ко мне, кто она такая, откуда у нее фотографии – она что, знакома с ним? Но она ничего не захотела мне рассказать. Он был другом, сказала она, другом, которому она постепенно перестала доверять.
75
Казалось, у Лизы Штерн перехватило дыхание. Она опустила руки и вгляделась в вылепленное из глины лицо. Я спросил, не дать ли ей воды. Она отмахнулась, но, когда я подал ей стакан, стала пить с жадностью.
Самое странное, что я, так близко подойдя к истине, ощутил великий покой, почти счастье. Я вплотную подошел к ответам, которые искал больше пятнадцати лет. Просто раньше я не знал, какие вопросы надо задать. И хотя ключевые элементы головоломки пока отсутствовали, я многое узнал, я приближался к ее разгадке.
– А как выглядела эта женщина? – спросил я. Но ответ мне был известен, прежде чем Лиза Штерн открыла рот. Портрет совпадал в точности: за пятьдесят, черные длинные волосы с проседью, белокожая, темноглазая, худая, густые брови…
– Все это было так невнятно, – сказала Лиза. – Сначала я не поняла, кем, собственно, была она сама. Видите ли, я не думаю, что она просто дружила с Хансом. Я поняла это по тому, что она говорила и как она говорила – страстно, с ненавистью, – и по огромному количеству информации, которую она собрала. Она была в бешенстве и совершенно сломлена, когда поняла, что все ее подозрения оказались верными… Я думаю, Ханс Феддерс ван Флиит был ей не просто другом. Я почти уверена, он был ее любовником… Я не удивилась бы, хотя вам это может показаться безумным, но я не удивилась бы, узнав, что он был ее мужем.
Я кивнул.
– И это еще не все, – продолжала она медленно, глядя мне в глаза. – Она знала намного больше. Она сказала, что Ханс Феддерс ван Флиит в последние годы войны вступил в войска СС, что она разыскала это в германских архивах. Он воевал на Восточном фронте, – Лиза присвистнула, – понимаете, он шел до конца. Я думаю, он пытался оправдать предательство в собственных глазах, превратить его в идейно обоснованный поступок. Я просто чувствую это…
76
Она снова замолчала. Я уже не чувствовал ни счастья, ни покоя. Думать я был не в состоянии. Мне хотелось поскорее остаться одному и, наедине с собою, разобраться в своих чувствах.
– Но если он был ее мужем, у нее должна быть такая же фамилия, как у него: Феддерс ван Флиит. Или нет? – спросил я.
– О, нет, – сказала Лиза. – Разве я вам не сказала? После войны Ханс взял себе еврейскую фамилию. – Она невесело усмехнулась. – Как я могла забыть? Эта женщина разыскала все еврейские семьи, носившие ту же фамилию. Не могу точно вспомнить, может быть, Диамант? В одной семье ей даже показали фотографию человека, которого звали точно так же: Ханс – кажется – Диамант. Этот Ханс сидел в Заксенхаузене, в то же самое время. Все сходилось с рассказом Ханса Феддерса ван Флиита. Кроме одного: тот человек не вернулся из лагеря.
Мы с Лизой явно думали в унисон. Она продолжала:
– Один вопрос, конечно, остается: что в точности случилось с тем человеком?.. И ответ на него должна знать эта женщина.
Мы замолчали. Медленно пропускал я через себя все, что услышал. Лиза опустила руки, и теперь я увидел, к чему привели ее усилия. Я с ужасом узнал лицо, которое она вылепила.
– Ну как? – Она смотрела на меня пристально, почти недоверчиво. – Что, собственно, вы хотели узнать? Вы знакомы с Хансом? Что это вам дало?
Я смотрел в сторону, чтобы не встретиться с ней взглядом. Руки ее машинально мяли глину, превращая портрет в бесформенную массу.
Она больше не была мне чужой.
– С ним я едва знаком, – сказал я медленно, почти отстраненно; глубоко вздохнул, и закончил: – Но я думаю, что знаю его дочь.
Часть третья
1
Вечер еще не наступил, и в холле отеля «Франкфуртер-Хоф» стояла приятная тишина дорогой гостиницы, вносящая успокоение в жизнь большинства невротиков. Все до мелочей предусмотрено. Все под контролем. Все готово к приему гостей, но гости еще не готовы занять места.
Они входят и выходят, некоторые отдыхают, потягивая коктейли, другие кого-то ждут, поглядывая на часы. Время обеда прошло, и, пока не наступило время ужина, официанты подают желающим легкие закуски.
Прошел слух, что Сэм не сможет приехать из-за проблем со здоровьем, но, слава Богу, доктор в последний момент дал ему разрешение.
Поездку Сэма оплатило американское издательство, и служащие отеля, кланяясь, уносили его чемоданы. Он только что провел неделю в Париже, у старых друзей, так что jetlagуже пережил.
Нет, он не будет принимать душ и не собирается отдыхать, он хочет здесь, в вестибюле, выпить со мной по случаю сегодняшней презентации своей книги.
Сперва он сердечно обнял меня. Я осторожно поцеловал его. Мы сели и заказали шампанского.
Сэм стал ходить еще хуже, чем несколько месяцев назад, словно успел за это время сильно состариться. Я чувствовал, что он ужасно серьезен.
У меня тоже было торжественное настроение. Сидя на мягком диване, мы сдвинули бокалы.
Сэм кашлянул, хотел сказать что-то, но смог произнести только:
– Вот так-то…
Он выглядел потерянным и беспомощным. Потом, собравшись, заговорил:
– Правду сказать, Макс, мне слишком тяжело. Я никогда еще не становился центром внимания из-за своей работы. Особенно странно потому, что, собственно, речь идет о моей жизни.
Я кивнул, подбадривая его, и в сотый раз похвалил книгу. Видно было, как трудно ему все это переносить из-за врожденного благородства.
Сам я чувствовал усталость, усталое удовлетворение. Настоящая работа позади. Презентация – выход в широкий мир, но вряд ли что-то пойдет не так. Я успел заглянуть в зал, где должен проходить прием, проверить, все ли в порядке; там все было готово.
Сэм еще не видел своей книги, но обложку и шрифты мы обсуждали несколько недель. Ему трудно было принять решение. В результате появился фотоколлаж, который был не лишен вкуса, хотя я, честно говоря, предпочел бы элегантный и тонкий рисунок. Но Сэм настоял на своем.
Американский издатель Сэма и я, его голландский издатель, пригласили американских и голландских киношников, писателей, голландскую и американскую прессу, фотокорреспондентов.
В последние месяцы нам пришлось потрудиться, чтобы книга вышла вовремя. Мы наняли эксперта-историка, хорошую подругу Норы, чтобы она сверила все факты, и книга была очень быстро переведена на голландский. Перевод занял почти столько же времени, сколько ушло у американцев только на то, чтобы отредактировать текст. В конце концов мы успели к сроку. Франкфурт, собирающий толпу со всего мира, без сомнения, был для всех очень важен.
Моему издательству, слава Богу, понравилась книга Сэма. Даже самодовольный дуболом Ерун сказал мне, что нашел в ней много нового, особенно в главе о еврейской эмиграции, которую я, честно говоря, с удовольствием переделал бы. Реакция остальных была мне безразлична. Я думаю, что меня больше волновало, как пройдет сама презентация: поразительно, что книга Сэма вышла сразу на двух языках и что мы успели напечатать ее к Франкфурту, где встретились всего год назад. Сколько всего случилось за один год!
2
В конце января, после того, как я повидался с Лизой Штерн в Иерусалиме, я мог только сидеть и смотреть в пространство. Мой дом казался мне чужой, холодной дырой, лишенной души. Может, он таким и был, мой дом в Баутенфелдерте. Раньше, правда, я чувствовал себя здесь хорошо.
Я хотел, даже должен был заехать в издательство, но знал, что, когда посыплются жалобы и обвинения из-за моего долгого отсутствия, мне нечего будет сказать в свое оправдание. Я остался дома. Я не пьянчуга, но за три дня выдул дюжину бутылок вина.
На четвертый день я увидел их, выстроившихся неровным рядом, как свечи, и только тут до меня дошло, что именно я их опустошил. Я был слишком трезв, чтоб превратиться в алкоголика.
Раньше я не мог себе представить, что человек может так долго находиться в шоке. Или может быть, шок случался несколько раз и каждый раз я заново ощущал его?
Пытка, вот что это было на самом деле.
И, словно этого было недостаточно, на пятую ночь я принялся за вторую часть книги Сэма.
3
Как я и предполагал, во второй части рассказывалось о лагерях, в которых Сэм просидел полтора года. Вестерборк, Терезиенштадт, Освенцим. Где он потерял родителей. Где он искал, но не смог найти Лизу. Где Лиза потеряла своих родителей. И где была убита папина семья.
Непереносимая информация.
И дело было не только в том, как Сэм это описывал. Каждая фраза, каждая запятая напоминали мне: вот то, что будоражит совесть Сабины.
Чем больше я читал, тем больший ужас меня охватывал. Я хотел получить представление о дочери предателя, но не мог ощутить ее горя в том тексте, который читал. Все ее рассказы бледнели, когда я вспоминал о горьких слезах, пролитых папой и тетей по своим безвинно убитым родителям. Сабинины рассказы – всего лишь бледная, преступная ложь трусливого предателя, который был ее отцом. Ей хотелось снова и снова рассказывать об этом, чтобы сделать свои рассказы более достоверными. Я испытывал такое отвращение, что меня почти перестало интересовать прошлое Сабины. То время, когда я знал ее, теперь, к добру или к худу, всплыло в моей памяти.
Дочитав вторую часть книги Сэма, я понял, что должен забыть Сабину. Я был почти рад, что она исчезла.
Это решало проблему.
4
Дочь Сэма позвонила в июне, в дождливый пятничный вечер. Лиза Зайденвебер. Для простоты она назвалась своей девичьей фамилией, но комбинация ее имени с этой фамилией показалась мне настолько знакомой, что я не сразу понял, что мы не знаем друг друга. У нее был высокий приятный голос, звучавший очень по-американски.
– Отец просил меня позвонить вам, – сказала она. – Видите ли, это касается моей мамы ( Mum, – сказала она). Вчера вечером с ней снова случился удар. На этот раз она его не пережила.
Лиза замолчала; короткая, пустая тишина; легкое смущение: ведь, несмотря на нашу, пусть непрямую, связь, мы друг друга совсем не знали.
– Dad [50]50
Mum, dad – мама, папа ( разг., англ.).
[Закрыть]хотел, чтобы вы об этом знали…
Она говорила немного отстраненно, давая мне понять, что сама она – лишь вестник, передающий послание. А может быть, она была одной из тех властных женщин, которые не поддаются так называемым эмоциям.
Лиза Зайденвебер. Я видел ее фотографии. Маленькая круглолицая девочка со светлыми кудрями. Крепкий подросток – светлые волосы, мантия с квадратной шапочкой, которые в Америке надевают по случаю окончания колледжа. Ее имя навевало грусть – я подумал: а знала ли Анна, когда родилась Лиза, откуда взялось имя, выбранное для дочери, скорее всего, Сэмом.
Никто не может быть тебе более чужим, чем ребенок человека, которого хорошо знаешь. Ты постоянно выслушиваешь замечания о чужих детях, изливающиеся на тебя. («Лиз была просто чертенком в свои пятнадцать! Кололась, курила, пила… Трудный ребенок. Потом начался вселенский трах…».)
Знакомство с объектом рассказов почти наверняка разочарует любого.
На миг мне захотелось, чтобы все это не имело ко мне отношения. Но я знал, что должен лететь на похороны. Более того, обязан ради Сэма.
– О’кей, Макс, Сэму это будет очень приятно.
– До встречи, Лиза, звони, если понадобится помощь.
5
Пока я искал такси в аэропорту Лос-Анджелеса, запах города кружил мне голову. Конечно, здесь я не был дома, но в этом городе у меня возникало подозрительно сильное ощущение убежища, места, где меня никто не знает и где я чудесным образом могу на время исчезнуть. Жара и свет: никогда не гаснущий, абсолютно не изменившийся за время моего отсутствия. Это не ранило, скорее утешало, и я не мог не отдаться этому чувству.
Двери были распахнуты настежь. Невозможно было смириться с тем, что самоуверенный, насмешливый Сэм, в смокинге (элегантный cummerbund [51]51
Cummerbund – широкий шелковый пояс, надевается под смокинг (англ.).
[Закрыть]затягивала на нем Анна), не встречает гостей в дверях. Я остро почувствовал безвозвратность ушедшего времени.
Внутри толпились незнакомцы, по большей части пожилые, которых испугало мое появление. Я торопливо прошел по всему дому, прочесал его весь, чтобы убедиться, чтобы знать наверняка. Каждого из четырех сотен приглашенных я осматривал так внимательно, что меня, вероятно, приняли за человека, собравшегося уезжать.
Сэм превратился за прошедшие полгода в настоящего старика. Что-то случилось с его осанкой. И одежда не выглядела такой аккуратной, как прежде, хотя пятен я не заметил. В глаза бросились застиранный воротничок и обтрепанные манжеты, нечищеные ботинки, волосы, неряшливо торчавшие из ушей и из носа. Щеки его ввалились, на коже появились старческие пятна, шея, казалось, с трудом поддерживала голову
Но главное – глаза, их невидящий взгляд, который давал понять, как он чувствует себя на самом деле. Ему не на что больше было смотреть во внешнем мире, он погрузился во вселенную мира внутреннего и заперся там на замок от настоящего и будущего.
Перед началом церемонии – в доме, где семья и друзья собрались вместе, чтобы проститься с покойной, – он отнюдь не выглядел довольным от того, что увидел меня. Было что-то безразличное в его поведении. Раза два он спутал меня со своим сыном Беном, с которым я едва успел познакомиться.
Бен был худ и нервен, внешне – портрет отца, но совершенно другой характер. Это становилось ясно сразу, стоило ему открыть рот: говорил он только о ценах. Сколько придется заплатить за компьютеры и другую аппаратуру, которую он собирается приобрести для своего бизнеса.
Чувствовалось, что жалуется Бен специально, я сразу заподозрил случай избалованного ребенка, считающего, что он имеет право на поддержку папы, который всегда слишком занят своим домом и, кроме того, достаточно богат.
Бен часто и громко смеялся, даже в этот печальный день, но его худое лицо выглядело таким напряженным, что казалось, будто он готов расплакаться, чтобы хоть немного смягчить свою боль.
Дочь Сэма, Лиза, оказалась полной блондинкой, одетой аккуратно, в подобающий случаю темно-синий костюм с белой блузкой. Вылитая мать, только моложе и еще ни разу не обращавшаяся к хирургу.
Она обняла меня так сердечно, что я испугался: в ее объятиях было что-то театральное и льстивое. Муж ее, Хенк, носил усы и походил на прямолинейного служаку-военного. Он подал мне руку – вежливо, но без эмоций.
О самой Анне говорили мало, словно стыдились обсуждать, как сильно, почти пугающе изменилась она за последние полгода, а теперь и эта, непохожая на нее тень бесшумно исчезает навсегда. Я полагал также, что дети сидели у ее постели только в последние недели, во всяком случае, слишком мало, чтобы легко справиться с чувством вины. Я не испытывал ни к кому из них симпатии, хотя Лиза старалась изо всех сил показать мне свою приязнь.
Я заметил, что Сэм обращал на своих детей едва ли не меньше внимания, чем на остальных гостей, но покорно позволил им проводить себя из комнаты, где стоял гроб, к машине. В крематории он тоже двигался, как слепой, едва переставляя ноги, опираясь на руку дочери. И почти не разговаривал. Старый человек из другого мира.
6
Пока шла служба, я стоял позади, а когда все кончилось, подошел к нему и был тронут неожиданно появившимся на его лице радостным выражением – как будто он только сейчас наконец увидел меня.
Он обнял меня и похлопал по спине, словно утешать надо было меня, а не его. Он всегда так делал.
Я почувствовал признательность за это. Его скорбь была чистосердечной. Анна не стала подарком для его старого влюбленного сердца, в отличие от Сабины, но она была ему женой: той, что сопутствовала ему в жизни, помогала управлять студией и получать Оскаров. Он любил ее, несмотря ни на что, я точно знал это. Сэм оставался преданным еврейским мужем, а Сабина была тем единственным человеком, который освещал его жизнь.