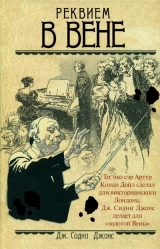
Текст книги "Реквием в Вене"
Автор книги: Дж. Джонс
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
– Вы не ошиблись, – признался Гросс.
– Тогда дело принимает серьезный оборот, – констатировала хозяйка. – Это не просто один из полетов фантазии Густава.
– А он подвержен подобным вещам? – вопросил Гросс.
Фон Мильденбург уселась поудобнее в кресло, явно изготовленное по эскизу Хофмана, [40]40
Йозеф Хофман (1870–1956) – австрийский архитектор, один из крупнейших представителей стиля модерн.
[Закрыть]с притворной скромностью прикрыла подолом своего японского одеяния открывшуюся взорам лодыжку, и на лице ее заиграла лукавая улыбка.
– Он – творческий гений. Мир почитает его как раз за полет его фантазии.
– Однако же за дирижерским пультом или за роялем, – заметил Гросс.
– Нельзя разложить свою жизнь по полочкам, – возразила певица. – Разве это возможно?
У Вертена совершенно пропал какой бы то ни было страх перед певицей; на самом деле его все больше раздражала ее манера держать себя. Малер тоже был хорош. О чем он думал, выболтав истинную цель их посещения бывшей любовнице? Он надеялся поймать женщину врасплох или по меньшей мере выбить ее из колеи. Однако же теперь именно она задавала тон беседе. Можно было поставить на этом точку.
– Чем вы так встревожены, советник? – продолжала фон Мильденбург. – Как я уже сказала, у нас с Малером нет секретов друг от друга. Хотя нас больше ничто не связывает, духовное родство осталось.
– Несомненно, – подтвердил Вертен, жаждущий перейти к другому предмету. – Вы были знакомы с молодой девицей Каспар, не так ли?
– Конечно. Она была певицей в Придворной опере, как и я. Были ли мы подругами? Близкими? Едва ли. Она была слишком молода для этого. Но для Малера это как раз то, что надо. Податливое создание. Личность для формирования, обучения.
– Так, как он проделал это с вами? – не церемонясь, спросил Вертен.
Она утвердительно кивнула:
– Как он проделал это со мной. Но учтите, я уже прошла прекрасную школу у Розы Папье в консерватории в начале моей карьеры, а позже получила неоценимую помощь от самой Козимы Вагнер [41]41
Козима Вагнер (1837–1930) – дочь композитора и пианиста Ф. Листа, в первом браке жена пианиста и дирижера, ярого сторонника Вагнера, Ганса фон Бюлова, с 1870 года – жена и соратница Р. Вагнера, посвятившая после его смерти всю оставшуюся жизнь сохранению и пропаганде его художественного наследия, в особенности деятельности театра в Байрейте.
[Закрыть]по исполнению работ ее мужа. В то время как у фройляйн Каспар… у нее был один лишь Малер.
– А природный талант?
– Замечательный. Привлекательная актриса на роли субреток и идеальное меццо-сопрано. Однако у Малера были планы сделать из нее колоратурное сопрано.
– Вы присутствовали на той репетиции, когда эта несчастная молодая женщина погибла? – спросил Гросс.
– Слава Богу, нет. Мои нервы не вынесли бы этого. Видеть Малера на волоске от опасности, возможно, даже смерти!
– К тому же еще погибла и фройляйн Каспар, – не без резкости в голосе напомнил Вертен.
Анна фон Мильденбург очнулась от своего мелодраматического полуобморока и уставилась на него холодным взглядом:
– Конечно, трагедия. Но просто сопутствующее несчастье.
– Сопутствующее? – изумился Вертен.
– Сопутствующее покушению на жизнь Малера. Вы ведь поэтому находитесь здесь, не так ли? Вы, несомненно, не считаете, что предполагаемой жертвой была Каспар. Кому бы пришла в голову мысль обрушить занавес на эту малышку?
– Она ведь была многообещающим талантом, разве не так? – вставил Гросс.
– Многообещающим, но еще не реализованным. Кроме того, она не представляла угрозы для других певиц. Мици уже покинула труппу.
– Вы говорите о Мици Браунер? – уточнил Вертен.
Фон Мильденбург оценила его осведомленность улыбкой.
– Как я вижу, имею честь принимать у себя любителя оперы.
Вертен пропустил это замечание мимо ушей, уставившись вместо этого в лицо певицы, направляя ее, как пастушья собака загоняет овцу на тропу, к той теме, от которой она упорно норовила уклониться.
– Да, Мици Браунер, – продолжила фон Мильденбург. – Она уехала в Аахен. Это не блестящий театр, но, в конце концов, время ее успехов миновало. Да и внешность не та, чтобы исполнять роли субреток. Так что у девицы Каспар была полная свобода действий.
– А как насчет романа фройляйн Каспар с Малером? – гнул свою линию Вертен. – Были ли…
– Озлобленные, ревнивые и отвергнутые с презрением любовницы, готовые выцарапать ей глаза? – договорила она за него. Затем певица тихо рассмеялась: – Едва ли. Хотя он пробыл здесь менее двух лет, Малер, насколько я понимаю, одержал несколько побед. Но никаких обид после этого у них на него не было, как не было между мной и Малером. Нельзя зажечь огонь в бутылке. Мы, артисты, признаем это.
– Стало быть, ничего такого низменного, как ревность, здесь замешано быть не может, – протянул Вертен.
– Если вам это нравится, можете относиться к этому скептически, – внезапно рассердилась певица.
«Здесь мы на подходе к чему-то», – промелькнула мысль у Вертена.
– А разве артисты выше обычных человеческих чувств? – настаивал на своем Вертен.
– Как я могу объяснить это кому-то, кто не связан с искусством?
– О, прошу вас, мадам, – вмешался Гросс. – На самом деле господин Вертен – публикуемый писатель. Его короткие рассказы заслужили высокую похвалу.
Вертен пристально взглянул на Гросса, однако криминалиста слишком развлекало все это, чтобы обращать внимание на коллегу.
– Я и не знала, – удивилась фон Мильденбург, повернувшись к Вертену.
– Это – одна из причин, почему господин Малер решил воспользоваться его услугами: потому что ему понятен артистический темперамент. Он принадлежит к вашей когорте.
Как обычно, Гросс полагал, что кашу маслом не испортишь, но Вертена позабавило увидеть, как певица изменила свое отношение.
– Тогдавы поймете, – заявила она, пододвигаясь в кресле и наклоняясь к нему, как будто хотела поделиться каким-то секретом. – Видите ли, ревности такого рода быть не могло. Я хочу сказать, что Малер хочет обладать женщиной, но не физически. Ему нужна ее душа, а не ее тело. Его завоевания были духовными, а не плотскими.
– Вы хотите сказать, что вы и он…
– Именно. Как если бы в постели между нами лежал меч. [42]42
Будучи вагнеровской певицей, фон Мильденбург приводит сравнение с оперой Вагнера «Тристан и Изольда», где рыцарь Тристан клал в постель меч между собой и своей возлюбленной, дабы не нарушить данную им клятву.
[Закрыть]Поэтому отвергнутых с презрением любовниц не было. Любовниц не было вообще.
Глава пятая
Заключению временного перемирия между Вертеном и Гроссом способствовала смерть.
Тощий как жердь сыскной инспектор Бернхардт Дрекслер направил свои стопы в маленькую квартиру в Первом округе. Трое мускулистых полицейских коротали время в непринужденных позах у двери, ожидая, пока Вертен и Гросс покончат со своими делами. С лица самого внушительного из них, здоровяка с таким лиловым и пронизанным венозными жилками носом, что предположительно его хозяин поглотил большую часть вина годового сбора винограда в Бургенланде, не сходило выражение глубокого потрясения. Его могучие руки были сложены на груди как вызов.
У Вертена не было четкого представления о том, что же они все-таки ищут, но Гросс настоял на обследовании, и они прибыли на место как раз вовремя, чтобы предвосхитить какой бы то ни было первоначальный полицейский осмотр. Личная любезность со стороны Дрекслера, с которым Вертен ранее никогда не встречался. Посланный весной в Черновцы для прочтения ускоренного курса, венский инспектор сошелся с Гроссом на почве коллегиальных интересов. Далекие от дружеских, отношения между ними были профессиональными и в высшей степени состязательными.
Не далее как вчера Гросс посвятил инспектора в дело Малера, но Дрекслер совершенно уместно заметил, что, пока не имело место преступление, не может быть и расследования. Смерть фройляйн Каспар была отнесена на счет несчастного случая. Естественно, Гроссу это было известно. Он, собственно, отправился к Дрекслеру безо всякого расчета на то, что делом займется полиция. Вместо этого он хотел получить доступ к внутренним сведениям: если произойдет какой-то случай, связанный с событиями в оперном театре, то Гросс должен знать о нем.
Таким случаем стала смерть Фридриха Гюнтера. Гюнтер, музыкант Венского филармонического оркестра, играл также и в Придворной опере – в качестве третьего скрипача.
Обнаруженный своей служанкой, явившейся убирать в девять часов утра, Гюнтер висел на сдавившем шею шнуре от занавеси с кистями зеленоватого цвета оттенка ликера «Шартрез», привязанном к латунной люстре в гостиной. Под ногами валялся на боку стул, имитация стиля жакоб. [43]43
Династия французских мебельщиков Жакоб, работавших в XVIII–XIX веках и создавших собственный стиль мебели из красного дерева, отделанного рифлеными полосками латуни.
[Закрыть]Вертен и Гросс заявились, когда тело еще висело: при виде опухшего красно-синего лица адвоката едва не стошнило.
В то же время Гросс был прямо-таки пленен покачивающимся трупом, обходя его со всех сторон, тщательно изучая ковер на полу сильным увеличительным стеклом, извлеченным из его сумки для расследования места преступления, с которой он никогда не расставался. Криминалист, что-то бормоча себе под нос, обследовал ковер с еще более близкого расстояния, а затем бросил быстрый взгляд на самого здоровенного из полицейских, который все еще стоял в своей позе со скрещенными руками на груди.
– Полагаю, вы носите ботинки сорок седьмого размера, офицер.
Это не было вопросом.
Полицейский утвердительно кивнул, изумление на его лице сменилось подозрением.
– И вы нарушили самый основной принцип поведения на месте преступления, – Гросс повысил голос, – не затаптывать улику.
– Я не знал, что самоубийство – это преступление… сударь. – Глаза полицейского дерзко блеснули.
– Прекратите, Шмидт, – предостерег его Дрекслер. Затем обратился к Гроссу: – Их вызвали из местного полицейского участка. Я прибыл вовремя, чтобы помешать им перерезать веревку.
– Мы думали, что люстра может сорваться в любой момент, – доложил полицейский Шмидт, переходя к обороне.
Гросс оценил состояние люстры.
– Если она выдержала первоначальный рывок, то будет держаться. – Он смерил взглядом расстояние от стула до ботинок жертвы, раскачивающихся перед ним. – Вы трогали что-нибудь? Переставили? Стул, например?
Шмидт покачал головой. Прочие полицейские молча застыли рядом с ним.
– А вы, офицеры? – Гросс обратился к двум другим.
– Нет, сударь, – отрапортовали они в один голос.
Пока Гросс доставал из своей сумки рулетку и кусок мела, Вертен оглядывался в комнате.
Гюнтер явно был холостяком. Если бы все еще всхлипывающая в кухне служанка уже не поведала ему об этом, красноречивым свидетельством тому являлись размер и обстановка квартиры. Например, никакая жена не допустила бы этой дешевой мебели – подделки под стильную, которой Гюнтер заставил свою квартиру. За небольшой аркой слева располагалась столовая. Окрашенные в темный цвет стулья, сгрудившиеся вокруг стола, были на пару оттенков светлее и в стиле ренессанса. Стул, на который Гюнтер взобрался перед тем, как удавиться, был из столовой. В гостиной рядом со столиком с наборной столешницей маркетри [44]44
Вид мозаики из фигурных пластинок фанеры, различных по цвету и текстуре, наклеиваемых на основу.
[Закрыть]располагалось единственное массивное кресло весьма дурного вкуса. На стенах висели репродукции прекрасных творений искусства: Вермеер, Хальс, Брейгель. Гюнтер питал склонность к голландской и фламандской школам, к внешним атрибутам культуры, но в этом не замечалось ни последовательности, ни вкуса. Вертену не требовалось заглядывать в маленькую заднюю комнату, дабы убедиться, что она наверняка меблирована односпальной кроватью и похожим на пещеру гардеробом, оба предмета в угнетающем старонемецком стиле. Или, возможно, опять поддельный жакоб.
Гросс все еще копался под телом Гюнтера. Теперь он фотографировал сцену с разных углов, время от времени комната освещалась вспышкой.
Все остальное освещение обеспечивали две газовые лампы на стене гостиной. Люстра была всего-навсего предметом меблировки. Она не использовалась по прямому назначению. Вертен поразился, что люстра смогла выдержать вес мертвого скрипача, хотя Гюнтер и был худощавым человеком. Адвокат подошел к единственному окну: оно выходило в узкую шахту, куда едва проникал свет. Гюнтер проживал по весьма престижному адресу: Херренгассе. Однако же тесная квартирка располагалась на задворках здания, бывшего некогда городским дворцом семейства Лобковиц. [45]45
Князья Лобковиц – один из самых аристократических и знатных дворянских родов Австро-Венгерской империи.
[Закрыть]Вероятно, в те времена здесь ютилась челядь, но после перестройки старого дворца в прошлом десятилетии она перешла в разряд съемного жилья.
Вертену было известно, что музыканты зарабатывают немного. Должность скрипача была надежной – по меньшей мере до того, как Малер установил царство террора в Придворной опере и филармонии, – но отнюдь не синекурой, [46]46
Синекура – не требующая большого труда, хорошо оплачиваемая должность.
[Закрыть]эта стабильность имела дорогую цену. Господин Гюнтер явно едва сводил концы с концами в качестве холостяка; то ли по умыслу, то ли из нужды его женой стала скрипка. Тоскливая жизнь, подумал Вертен. Предан искусству, несомненно. Но вот возвращение домой из возвышенного мира музыки в это наводящее уныние окружение… Вертена вновь изумило то, что чувство прекрасного не было чем-то, что распространяется на все стороны жизни. Иначе сказать, он был потрясен тем, что такой человек, как Гюнтер, который, как считалось, был преисполнен чувством красоты, присущей музыке, мог жить в такой уродливой обстановке. Или же, как большинство обитателей Вены, возможно, господин Гюнтер проводил свободное время в любимом кафе, а не в четырех стенах своей неуютной квартиры.
Размышления Вертена были прерваны фырканьем Гросса:
– Самоубийство… Полнейшая чушь!
Дрекслер встрепенулся при этом.
– Я согласен, что отсутствие предсмертной записки выглядит подозрительным. Но что заставило вас прийти к подобному заключению без осмотра тела?
Вместо ответа на это замечание Гросс просто поставил на пол стул, подвинув его под болтающиеся ноги Гюнтера. Носки ботинок покойника висели на расстоянии пары дюймов над стулом.
– Гром меня разрази, – поразился Дрекслер. – А ну обрежьте веревку. – Он подал знак полицейским, которые заканчивали ранее начатую работу.
Они осторожно уложили тело на пол, и Гросс наклонился, чтобы быстро осмотреть его. Дрекслер, чье ястребиное лицо было испорчено довольно непривлекательным верхним прикусом, уселся на четвереньки рядом с ним.
Теперь инспектор взял на себя ведущую роль, просунув указательный палец под переднюю часть петли. Кожа под ней не была ни поврежденной, ни обезображенной следом от веревки. Дрекслер переместился к затылку покойного, ища на ощупь сломанные позвонки. Он покачал головой.
– Любитель. – Это слово вылетело из уст Гросса подобно плевку, как наивысшее оскорбление, которое он мог себе представить. – Он даже не позаботился о том, чтобы обмануть нас.
Вертен предположил, что Гросс относит эти слова не на счет усопшего, а скорее в адрес неизвестного преступника.
– Возможно, он не имел представления о том, что за расследование возьметесь вы, доктор Гросс, – отреагировал на это Дрекслер с изрядной долей иронии.
– Если бы дали волю вашим полицейским, – отпарировал Гросс с такой же язвительностью, – то это могло бы пройти как самоубийство. Или же он рассчитывал на то, что большое количество самоубийств в Вене прикроет настоящее убийство.
– Он? – вырвалось у Вертена. Конечно же, он знал, кого имел в виду Гросс. Но ощущение было таковым, что в присутствии мастера-криминалиста его покидала способность к дедукции.
– Найдите мне женщину, у которой хватило бы сил подвесить господина Гюнтера на эту высоту, и я буду счастлив арестовать ее.
– Полагаю, что арест все-таки подпадает под мою компетенцию, – заявил Дрекслер, неожиданно оскорбившись.
– Это я просто для красного словца, – сделал уступку Гросс.
Похоже на то, что это умиротворило Дрекслера, который продолжил свой осмотр.
– Отсутствие следов от веревки на шее также обосновывает очевидное истолкование.
Слова вылетели из уст Вертена раньше, чем он успел прикусить язык:
– Какое истолкование?
При этом комментарии Гросс и Дрекслер обменялись сочувствующими взглядами.
Это было уже слишком. Действуя один, он схватывал все на лету. Однако само присутствие Гросса, казалось, обезоруживало его, лишало его всякой умственной инициативы. Вертен быстро исправил свою промашку:
– Я имел в виду, что принимаю вашу гипотезу, что господин Гюнтер был убит, а затем повешен здесь, дабы придать этому вид самоубийства.
– Браво, Вертен, – изрек Гросс. – Это – именно то, что мы считаем. Хотя я заметил, что ваш язык все-таки реагирует быстрее, нежели ум.
Это замечание вызвало приглушенное хихиканье полицейского Шмидта, которое немедленно прекратилось под строгим взглядом Дрекслера.
Вертену настоятельно требовалось реабилитировать себя. Хотя он и не был силен в судебной медицине, но рискнул:
– Однако вид его лица предполагает смерть от удушения, не так ли?
Гросс, все еще наклонившийся над телом, бросил взгляд на Дрекслера, как бы испрашивая разрешение, и сдвинул петлю, чтобы обнажить следы на обеих сторонах шеи.
– Как вы сказали, Вертен, смерть от удушения. На это указывают кровяные точки на щеках от лопнувших глазных сосудов, а также синюшный с приливом крови вид самого лица. Удушение руками. Вы можете видеть ясные очертания пальцев тут и тут. – Он надавил большим пальцем на небольшой треугольник, образованный соединением ключиц покойника. – И раздавленная гортань, если я не ошибаюсь. После полного вскрытия мы узнаем больше.
Дрекслер встал на ноги, сгибая-разгибая спину.
– Мотив… – произнес он. – Музыкант – вроде бы довольно безвредное существо. Кому понадобилось убивать его?
– Вот это, дорогой инспектор, именно то, что мы намерены узнать.
Господин государственный советник Ляйтнер отнюдь не пришел в восторг при виде Вертена.
– Я не вижу, каким образом прискорбная смерть господина Гюнтера имеет что-либо общее с вашими расследованиями по поручению господина Малера.
– Это относится к числу наших причуд, – заявил Гросс. – Мы проявляем чрезвычайное любопытство, когда дело касается насильственной смерти.
Присоединение Гросса к расследованию, казалось, привело Ляйтнера в замешательство. Репутация криминалиста опережала его; чиновник побагровел от его высказывания, нервно потирая руки и безуспешно пытаясь остановить подергивание века на глазу.
– В высшей степени не в соответствии с порядком, – пробормотал он.
Они ничего не ответили, и наконец Ляйтнер поднялся из-за своего стола в дирекции оперы и повел их через лабиринт ступенек в зрительный зал.
Когда они приблизились к оркестровой яме, Ляйтнер указал на стул на левой стороне:
– Вот. Здесь было место господина Гюнтера как третьего скрипача. Он сидел на этом самом кресле прошлой ночью при последнем исполнении спектакля в этом сезоне.
Не спрашивая разрешения, Гросс внезапно спрыгнул в несколько заглубленную яму, сел на вышеупомянутый стул и уставился на сцену.
– Мне надо, чтобы занавес открыли, если вы не возражаете, господин правительственный советник.
Ляйтнер проявил признаки колебания, и Гросс добавил:
– Ведь это простое дело, разве нет? – Лицо криминалиста расплылось в широкой улыбке, исполненной деланного добродушия.
– Это займет некоторое время, – ответил Ляйтнер, покидая Вертена и Гросса, чтобы позвать рабочего сцены.
– Проверяете, что отсюда видно, Гросс? – спросил Вертен, когда они оказались одни. – Было бы лучше, если бы вы несколько пригнулись в кресле. Гюнтер был ниже вас ростом.
Гросс хотел было высказаться, но передумал. Вместо этого он последовал совету Вертена.
– Да, – заявил он, когда занавес открыли. – Как я и думал. – Он вскочил с кресла и протянул руку Вертену: – Пожалуйста, вашу руку, Вертен.
Адвоката поразила сила, с которой его друг схватил его руку, когда он помогал Гроссу выбраться из оркестровой ямы.
– Мне следовало бы поблагодарить нашего общего друга Климта, – заявил криминалист, отряхивая невидимую пыль со своих темно-серых брюк. – Он порекомендовал курс тренировки с гантелями, хотя лично я предпочитаю булаву. Она творит чудеса с моей выносливостью и подвижностью. Было время, когда я и не помышлял о том, чтобы спрыгнуть в подобную яму.
– К черту упражнения, Гросс. Вы обнаружили то, что, как я предполагаю, искали?
В этот момент возвратился Ляйтнер.
– Вы удовлетворены, господа?
– Сверх всякой меры, – заявил Гросс.
Ляйтнеру это не понравилось.
– Если есть еще что-то, в чем бы я мог оказать вам содействие…
Но в этих словах сквозило вялое равнодушие.
– Полагаю, у вас ведется учет посещения оркестрантов. Я имею в виду, в частности, репетиций.
– Конечно. – Ляйтнер сдержанно кивнул.
– Тогда нельзя ли?.. – Гросс сделал выразительный жест рукой.
Когда они вернулись в кабинет Ляйтнера, им показали огромный гроссбух, в котором велась запись выходов на службу каждого музыканта и певца. Гросс, тыча в лист своим большим указательным пальцем, проверил даты на конец мая и весь июнь. Криминалист испустил глубокий вздох.
– Благодарю вас, господин правительственный советник. Вы оказали нам огромную помощь.
Ляйтнер бросил умоляющий взгляд на Вертена, в ответ на который тот просто поднял брови, как будто говоря, что он находится в таком же неведении, как и заместитель директора. Частично это было правдой, но только частично.
Как только они вышли наружу, Вертен остановил Гросса, взяв его под руку.
– Как я полагаю, вы проверяли присутствие господина Гюнтера в день прочих несчастных случаев?
– Да, Вертен. Так я и поступил. Он присутствовал и давал объяснения по каждому событию.
Вертен покачал головой:
– И это доказывает?..
– Очень немногое, без дополнительной информации по открывавшемуся ему обзору.
– Вы имеете в виду со стула третьего скрипача господина Гюнтера?
– Верно. Гюнтер определенно был свидетелем.
– Как я и предполагал, – высказался Вертен и с удовольствием увидел, как увяла почти появившаяся ухмылка на лице Гросса.
– То есть свидетелем смерти фройляйн Каспар, – со значением произнес Гросс.
Но Вертен просто кивнул:
– Конечно, со своего места Гюнтер, вполне вероятно, хорошо видел того, кто занимался оснасткой и мог опустить занавес.
Гросс одобрительно хмыкнул:
– Хорошо замечено, Вертен. Полагаю, что вы действительно становитесь мастером уголовного расследования.
– А это значит, – продолжал адвокат, пропустив мимо ушей его высказывание, – что наш злодей теперь настроен замести следы своих прежних попыток. Если это так, то дальнейшие последствия ясны. Он намерен опять нанести удар. Малер находится в серьезной опасности.
Это было так похоже на мужчин – нестись вперед, предоставив женщинам заботу о таких глупых и приземленных вещах, как гладкое ведение дел юридической практики. Берта уважала доктора Гросса, но в то же время желала, чтобы он выбрал другое время для своего появления. Она и Карл только-только начали работать чем-то вроде слаженной группы в этой области расследования. Однако теперь на сцену вышел великий криминалист, и Карл опять тащился за ним подобно щенку.
И Берта вновь засела в конторе, следя за тем, чтобы все счета были оплачены, а назначенные посетителям встречи состоялись.
Ее мучил вопрос, не было ли это началом того, что принято называть скользким словом «опуститься». В конце концов, у нее, как у преподавателя и писательницы, была собственная карьера. Однако после своего замужества она написала всего лишь одну статью – об австрийском пацифистском движении и его женских лидерах. Молодая женщина также сократила время своей работы в благотворительном заведении в округе Оттакринг. Созданный по образцу и подобию английского благотворительного движения, основанного Мэри Уорд, [47]47
Мэри Уорд (1851–1920) – английская писательница, внучка известного педагога Т. Арнолда.
[Закрыть]Венский благотворительный дом оказывал помощь малоимущим детям столицы, учредив образовательные и игровые пункты. Берта помогла направить работу этого заведения, открыв его для детей с физическими недостатками и используя по вечерам для проведения культурных мероприятий для родителей из рабочего класса Оттакринга.
Однако же эта работа пострадала после ее замужества. Берта проводила все меньше часов в благотворительном заведении, отдавая все силы помощи в адвокатской конторе Карла. Тем не менее ее подопечные не страдали, поскольку она наняла одаренных добровольцев. И все-таки Берта скучала по своим детям. Молодая женщина тосковала по своим независимым достижениям.
Карл не требовал таких жертв. Совсем напротив – он беспрестанно поддерживал ее, хвалил за работу. Тем не менее Берта ощущала, что должна вносить свой вклад в их совместную жизнь, что они не могут вечно вести параллельное существование.
«Хватит проникаться жалостью к самой себе», – мысленно заявила молодая женщина, подшивая последний лист к копии заверенного завещания фон Бюлова.
Спасибо Господу за Унгара, подумала Берта, за доктора Вилфрида Унгара, помощника Карла в конторе. Этого молодого человека можно упрекнуть в высокомерии, но он был главной опорой фирмы, в особенности во время ранения Карла в прошлом году, а теперь вот при новом направлении, поскольку муж решил взяться за уголовное право и за расследования.
Раздался легкий стук по дверному косяку. Дверь была открыта.
– Да?
На пороге кабинета стоял доктор Унгар.
– Если я не отрываю вас от работы… – вежливо промолвил он.
– Ни в малейшей степени, – запротестовала она. – Прошу вас, войдите.
Унгар пытался выглядеть старше своих двадцати восьми лет, обзаведясь пенсне и усами, которые закручивались на концах. Его светло-серый костюм хорошо сидел на нем и смотрелся ни слишком вычурным, ни слишком скромным. Можно было гарантировать, что клиенты в его обществе чувствуют себя непринужденно. Волосы Унгара уже начали редеть; для сокрытия этого он зачесывал их на одну сторону.
Помощник уселся в кресло для посетителей на другой стороне стола в кабинете Карла. Берте не понравилось выражение его лица: вид у Унгара был такой, будто он присутствовал на похоронах.
– В чем дело?
– Я сожалею о необходимости известить вас, госпожа Майснер, что я больше не смогу продолжать свою работу в этой фирме.
– Но отчего же не можете?
– Видите ли, дело в этой новой вывеске.
– Вывеска? Что за вывеска?
– «Адвокат Карл Вертен: завещания и доверительное управление, уголовное право, частные расследования».
– Ах вот оно что, – догадалась Берта, – эта вывеска.
– Я бы еще смог вынести уголовное право. В конце концов, господин Вертен набил себе руку в нем, когда служил в Граце. Но расследования? Мадам, я похож на частного детектива? Я больше не могу ходить с высоко поднятой головой в обществе моих коллег. Короче говоря, мадам, я полагаю настоятельно необходимым подыскать себе место в более респектабельной адвокатской фирме.
Берта разрывалась между желаниями залепить пощечину молодому наглецу и упасть перед ним на колени, умоляя остаться.
– Мне прискорбно слышать это, – проговорила она, выбирая нейтральный путь.
Доктор Унгар поднял руку, будто собираясь остановить ее моления, хотя она не проявила такого порыва.
– Уверяю вас, мадам, меня будет невозможно разубедить в моем решении. Я написал то же самое господину Вертену. Однако я счел нужным, следуя своим принципам, известить вас о моем решении лично.
– Очень любезно с вашей стороны, господин Унгар.
– Но опять-таки меня нельзя убедить отказаться от моего образа действий. Однако же если бы вывеску укоротили…
– Да, – сказала Берта, давая выход задетому самолюбию, – это срам. Но нам придется как-то обойтись без вас. Когда вы отработаете последний день?
Она с удовольствием отметила про себя, что при этих словах его пенсне съехало с носа.
Сидя в кафе «Музеум», недавно спроектированном новым ниспровергателем устоявшихся канонов, архитектором Адольфом Лоосом, [48]48
Адольф Лоос (1870–1933) – австрийский архитектор и теоретик архитектуры.
[Закрыть]Вертен и Гросс беседовали с молодым журналистом Карлом Краусом, пытаясь выудить у него информацию по каким-либо сплетням, связанным с Густавом Малером.
Заведение, в котором они сидели, какой-то журналист-шутник метко окрестил «Кафе нигилизма» за воплощенный в интерьере отказ Лооса от украшательства в пользу современного упрощенного оформления. Латунные полосы, проложенные по сводчатому потолку, были единственной вещью, отдаленно напоминающей украшения, но фактически они служили для прикрытия электропроводки. С этой латунной маскировки свисали голые электрические лампочки. Светло-зеленые стены резко контрастировали с красными стульями из гнутого дерева, задуманными лично Лоосом.
Гросс чувствовал себя не в своей тарелке в этом минималистском окружении, его личный вкус предпочитал пальмы в кадках и кариатид, поддерживающих внутренние стены. Однако же Вертен чувствовал себя в этой современной среде как рыба в воде.
– Безусловно, вы понимаете, что журналистика – это всемирная мозоль, – с приветливой убежденностью заявил Краус.
Как еще иначе отреагировать на такой комментарий, думал Вертен, разве что единственно глубокомысленным кивком выразить свое согласие? Шокирующие афоризмы были специальностью Крауса.
Мозоль не мозоль, но журналистика все равно была ремеслом, которым Краус занимался с упоением. Сатирик, самовольно возложивший на себя полномочия полицейского, надзирающего за неряшливым языком, плохой грамматикой, неверным выбором слов, неправильно поставленной запятой, Краус презирал вялые и длинные газетные очерки, фельетоны, которыми многие газеты заполняли подвалы своих первых полос.
– Написать фельетон – все равно что завивать локоны на лысой голове, – продолжал вещать Краус. – Но публике подобные завитушки нравятся больше, нежели львиная грива мысли. – Он улыбнулся этой остроте, обнажив кривые зубы.
Такой молодой и так кичится собой, мелькнуло в голове у Вертена, но он одобрительно кивнул, услышав это выражение, которое, как он понимал, вскоре будет красоваться на страницах выходящего три раза в месяц журнала «Факел». Невзрачный человечек с кудрявой головой и крошечными очками в металлической оправе, в которых отражались лампы кафе, Краус одевался как банкир. Один из девяти отпрысков еврея из Богемии, разбогатевшего на бумажных пакетах, Краус жил на деньги, выделяемые ему семьей, что позволяло ему поднимать на смех буквально всех и вся на страницах своего журнала.
Вертен в последние полчаса пытался направить их разговор в нужное русло – Малер и его возможные враги, но Краус никак не поддавался.
– Господин Краус, – прервал его в конце концов Гросс, – я не сомневаюсь ни в ваших интеллектуальных способностях, ни в наличии ваших широких и весьма разнородных знакомств, но не могли бы мы вернуться к теме нашего разговора?
Краус выпрямился на своем стуле, как будто его отец-промышленник выбранил его за ужином.
– Прошу извинения, господа. Мое больное место, знаете ли.
Несмотря на хрупкость конституции, у Крауса был красивый голос оратора. В юношестве он пытался сделать актерскую карьеру, но помешал страх сцены. Поговаривали, что он экспериментирует с новомодным видом развлечения зрителей на манер американца Марка Твена и его знаменитых представлений одного актера. Краус уже развлекал знакомых в модных салонах своим исполнением Шекспира и чтением собственных сочинений. До Вертена дошел также еще один его афоризм: «То, что я читаю, не является играемой литературой; но то, что я пишу, является написанной игрой».
– О да, я полагаю, что могу оказать вам помощь в ваших расследованиях. Думаю, не будет преувеличением сказать, что я – узел притяжения в этом городе. Вена есть луковица. Это видно по самой кольцевой планировке города. Аристократический Внутренний город опоясан Рингштрассе; пригороды среднего класса окружены кольцом бульвара Гюртель, [49]49
Gurtel (нем.) – пояс.
[Закрыть]и только дальше располагаются более бедные кварталы-окраины, где рабочие влачат свои всеми позабытые презренные жизни.








