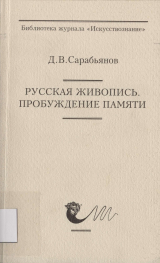
Текст книги "Русская живопись. Пробуждение памяти"
Автор книги: Дмитрий Сарабьянов
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц)
Другой источник противоречий и противостояний заложен в иной плоскости – в контрасте живописи «говорящей» и «молчащей», громкой и тихой. Все эти выражения, естественно, характеризуют живопись иносказательно: ведь она не обладает реальным физическим голосом. Тем не менее такие характеристики в конечном счете связаны со словом и звуком, с воспринимающим их слухом – притом, что иносказание осуществляет себя в пределах изображения, воспринимаемого глазом. Здесь разворачивается довольно широкая и разнохарактерная проблематика, открываются разнообразные ее аспекты, различие между которыми зависит от степени и особенностей упомянутой выше иносказательности. Самый отдаленный от буквального смысла аспект предусматривает уподобление громкости и тишины неким эквивалентам, заключенным в самой живописи.
В России было много «говорящих» художников. Едва ли не самый словоохотливый и уж во всяком случае самый знаменитый – Илья Репин. Начнем с того, что многие его персонажи просто-напросто говорят, кричат или хохочут. Выступает оратор на поминальном митинге на кладбище Пер-Лашез, ораторствует революционер-народник в «Сходке», хохочут запорожцы; в первом (позднее записанном) варианте «Не ждали» главный герой, войдя в комнату, остановился и обращается с речью к присутствующим; Пушкин читает стихи перед Державиным. Репин вводит «звучащие голоса» в сюжеты своих картин. Он любит различные звуки: шум толпы в крестном ходе, грохот от удара волны о скалу («Какой простор!») или от царской булавы, упавшей на пол. Но дело не только в этом. Художник «говорлив» и в тех случаях, когда изображает молчаливые сцены. В них обнаруживаются репинское стремление к передаче движения (для чего он пользуется любым поводом), любовь к эффектам, к развитой драматургии, к акцентировке страстей, к суетливой динамике форм. Известной параллелью этим качествам является эпистолярное многословие, о чем можно судить по многочисленным, изданным в 40-50-е годы томам репинской переписки (решительно отличающейся от суриковской, уложившейся в пределы одного не очень объемистого тома). Репин апеллирует ко всем органам чувств, зрительно вызывая слуховые и тактильные ассоциации. Все эти качества, присущие Репину, нельзя объяснить исключительно стилем времени.
Его современник В. Суриков во многом противоположен – любит молчание, избегает многословия. Призыв Морозовой не ищет себе подкрепления не только в крике, но и в слове вообще – оно заменено жестом. Одну из своих картин («Меншиков в Березове», 1883) Суриков прямо посвящает теме молчания, которое позволяет героям погрузиться в мысли о собственных судьбах и в воспоминания. Молчание становится обязательным условием реализации смысла образов и всей драматической ситуации. Лишь эта программа молчания воспринимается как «говорящая».
Пара художников, располагающихся в истории живописи на одном и том же временном промежутке, казалось бы, близких друг другу по каким-то общим признакам стиля, но противоположных по «громкости звучания» живописи, – довольно типичное явление. Можно вспомнить Карла Брюллова и Александра Иванова. Брюллов охотно искал выразительность исторического образа в звуковых эффектах: в криках гибнущих помпеянцев, в грохоте падающих статуй, в громе молний и извергающегося Везувия. В «Явлении Христа народу» А. Иванова нет ни одного раскрытого рта, говорить предложено лишь одному Иоанну Крестителю, но и тот обходится жестом, а не словом. В библейских эскизах герои (чаще всего старцы) противостоят друг другу или божественным посланцам с молчаливой суровостью, а в одном из них («Ангел поражает Захария немотой») возможность разговора исключена самим сюжетом.
К намеченным мною парам (Репин – Суриков, Брюллов – Иванов) можно добавить двух живописцев рубежа XIX – XX веков – «говорливого» Б. Кустодиева и «молчаливого» А. Рябушкина. А в период начинавшегося авангардного движения то же противостояние демонстрируют М. Ларионов и Н. Гончарова. Гончарова любит мотивы молчания, фигуры в ее композициях застывают не только в неподвижности, но и в немоте. У Ларионова мы наблюдаем нечто противоположное. В «Отдыхающем солдате» (1911) бравый мордастый парень в солдатской форме, лежащий у забора, как какое-нибудь домашнее животное, тем не менее оставляет на этом заборе письменное свидетельство о сроке своей службы, о состоянии своего желудка, а герои обоих вариантов «Солдат» (1910) просто-напросто говорят – из их ртов вылетают звуки и слова, начертанные на холсте. Здесь герои – уже в прямом смысле слова говорящие люди, их слова через наше зрение добираются до нашего слуха. (Я пока не касаюсь вопроса о главном смысле включения словесного текста в живописное изображение.)
Противостояние Ларионова и Гончаровой развертывается в последний раз в момент обретения живописью беспредметности. Как известно, в 1911 году Ларионов изобретает лучизм – один из первых вариантов беспредметной живописи. Этот вариант достаточно нарративен, поскольку ставит своей целью фиксацию лучей, исходящих от предмета, их пересечения, переплетения, противостояния и т.д. Гончарова во многих произведениях выступила как своеобразный разработчик лучизма. Но одновременно она предприняла ряд опытов по созданию собственной беспредметной системы, написав в 1913 году, а затем выставив в Париже в галерее Поля Гийома картину «Пустое пространство». В такой концепции беспредметности исключено повествовательное начало, царит немота вакуума, хотя оптика оказывается в зоне, пограничной с той, где начинается господство умопостижения. Здесь как бы продолжается развитие отмеченных выше противоречий: художник преодолевает свойства повествовательного текста и одновременно оказывается перед лицом того, что незримо, – перед опасностью власти слова, но «с другого конца».
Как видим, в пределах одного направления или стиля обнаруживаются противоположности, которые не имеют тенденции к сближению, а, напротив, все более расходятся, обнажая перпендикулярность взаимных позиций. Демонстрируя эту особенность русской живописи, рассматриваемой в аспекте соотношения изображения и слова, мы вновь констатируем не примирение, а контраст. Даже в неразрывном союзе двух талантов, союзе М. Ларионова и Н. Гончаровой, мы видим противостояние, какое вряд ли можно наблюдать на Западе в аналогичных или близких случаях.
Говоря о Сурикове и Гончаровой, я уже затронул тему молчания. В нашем контексте она очень важна. В ней таится «оптический резерв» национальной культуры. Но, с другой стороны, молчание связано со словом, ибо ему противостоит, являясь своего рода анти-словом. Следовательно, эта тема обращена «и в ту и в другую сторону» и вовсе не примиряет противоположности.
Не буду подробно анализировать исторические корни культа молчания. Всем известно, что они обнаруживают себя в средневековой Руси – вспомним хотя бы о русских молчальниках. Для исследователя русской святости Г.П. Федотова культ молчания выражает национальное мировосприятие не в меньшей мере, чем тяга к странничеству, к отшельничеству или идея нестяжательства. Рядом с Сергием Радонежским и Нилом Сорским в эту череду типично русских святых включен Павел Обнорский – «великий любитель безмолвия, именовавший безмолвие матерью всех добродетелей»[51]51
Федотов Г. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 160.
[Закрыть]. Культ молчания проявился и в распространении типа монаха-молчальника, и в значительной доле апофатического начала в русском богословии, и в приобщении к православию исихастской концепции, имеющей прямое отношение к молчальничеству[52]52
Об органическом вхождении исихазма в православие см.: Пружнина О.Б. Опыт компаративного рассмотрения исихазма. – Философские исследования. 1993. № 2. С. 187-189.
[Закрыть]. Все эти предпосылки должны были сыграть свою роль в распространении мотива молчания и в развитии «молчаливой живописи». Здесь нет возможности разворачивать сравнительный анализ русской живописи и, предположим, французской и выяснять, «кто молчаливее» – Вюйар или Кузнецов, Боннар или Борисов-Мусатов, Редон или Врубель. К тому же в таком сравнительном анализе остались бы невыявленными многие другие качества живописи, более идентичные ей. Однако присутствие знака молчания мы можем констатировать во всей русской живописи – независимо от того, образует ли молчащий некую пару с противоположным ему говорящим или нет, а также от того, соответствует ли по духу этому знаку эпоха, в которую работал тот или иной художник. Меня особенно интересуют случаи специального подчеркивания знака молчания.
Иконопись чаще всего реализует смысл своих образов в ситуации безмолвия. Разумеется, такая ситуация не является правилом, а зависит от характера сюжета. В момент молчаливой задумчивости изображается пророк Илья или Иосиф. А Иоанн Богослов в традиционном иконографическом изводе, берущем начало в византийском каноне, призывает к безмолвию, поднося палец к губам.
В искусстве XVIII века специальная тема или проблема молчания не просматривается. Живопись свободна от запретов на слово, но вместе с тем не злоупотребляет ни пластическим подобием словоохотливости, ни живописным воплощением слова. «Поющие нищие» И. Ерменева (1770-е) выглядят скорее молчащими, хотя самому эффекту молчания в момент пения не придается специального смысла. Мотив молчания получает развитие в начале XIX века. В портретном искусстве его появление знаменует романтическая поза задумчивости («Портрет В. Жуковского» О. Кипренского, 1816) или напряженного самопогружения в автопортретах того же художника. Безусловный приоритет молчания мы можем констатировать в произведениях Венецианова и живописцев его круга. Состояние дремотной бездейственности, охватившее персонажей их картин, кульминирует в мотиве сна человека («Спящий пастушок», «Спящая девушка» Венецианова). Мотиву сна соответствует словно спящая природа в пейзажах венециановцев – особенно Г. Сороки.
Большую любовь к молчащим героям, к молчаливым ситуациям, сопровождающимся как бы остановившимся временем, темпоральными паузами, испытывал русский символизм. Само это качество не есть свидетельство его национальной исключительности, а скорее – общеродовая черта символизма. Но в русской символистской живописи момент безмолвия акцентирован и особенно многозначен. Теоретики русского символизма (прежде всего Вяч. Иванов), будучи поэтами и имея дело со словом, постоянно обращали внимание на неизглаголемость символа. Казалось бы, эта неизглаголемость – т.е. невозможность выразить словами – переносит акцент на оптику. Но оптическими средствами невозможно преодолеть барьер непознаваемости, и живопись навечно остается с этой тайной бытия. Варианты символизма, возникающие то здесь, то там в европейской живописи, творцы которых полагаются на возможность исчерпать символ, до конца объяснить его, на самом деле изменяют символизму. Лучшие русские живописцы не ставят перед собой такой задачи, избегая тем самым сведения символа к простейшей аллегории. Они, как выразился В. Кандинский, ведут «...разговор о тайном с помощью тайного»[53]53
Kandinsky W. [Предисловие к каталогу выставки]. Neue Künstlervereinigung, München, 1910/1911.
[Закрыть]. Мотив молчания в русском живописном символизме знаменует некую остановку перед тайной бытия.
Самым последовательным выразителем символистского «синдрома молчания» можно считать Михаила Врубеля. Даже в тех случаях, когда в конфликтном взаимоотношении персонажей запечатлен накал страстей («Испания», 1894), действие прерывается, и именно молчание становится главным определителем драматического напряжения. Безмолвие в картинах Врубеля сопряжено с подчеркнутым смотрением. Перекрестные взгляды персонажей «Испании» еще содержат в себе отголосок жанровой драматургии. В других же работах – начиная с «Демона» (сидящего), даже с более ранних вариантов «Гамлета и Офелии» (1884, 1888) или с «Девочки на фоне персидского ковра» (1886), где взгляд девочки значит больше, чем обычный акт смотрения модели на художника, – Врубель придает ему каждый раз какой-то особый, исключительный эффект. Взгляд Демона (1890), словно пораженного беспредельной тоской, не раз был предметом внимания исследователей. Многое написано и о мертвых застывших глазах «Демона поверженного» (1902), о немом взоре девушки в «Сирени» или лукавом, но пугающем взгляде «Пана» (1899). Не буду повторять уже известное. Подчеркну лишь, что эффект молчания как некоего анти-слова, сопровождаемого выразительным смотрением, вдвойне ориентирован на оптику. Оптическая задача возлагается не только на зрителя, но и на героя.
Замечу, что и до символизма русские живописцы прибегали к приему подчеркнутой фиксации взгляда своих персонажей. В «Жнецах» Венецианова (конец 1820-х) молодая крестьянка и ее сын, в благоговейном молчании, скрестивши взгляды, любуются друг другом и бабочками, севшими на руку крестьянки. В «Явлении Христа народу» Иванова люди всматриваются, поворачивают головы, устремляются своими телами к приближающемуся Христу. Акт смотрения-ожидания становится стержнем драматургии всего произведения. Молчаливая борьба взглядов лежит в основе композиций «Петр I и царевич Алексей» (1871) Н. Ге и «Утро стрелецкой казни» (1881) В. Сурикова. На пересечении взглядов построена композиция картины И. Репина «Не ждали» (1884-1888). Провожание взглядами – своеобразный художественный прием, примененный В. Суриковым в «Боярыне Морозовой» (1887). Нетрудно заметить, однако, что во многих случаях эффект смотрения ведет к «возвратной литературности». И все же большое количество мотивов и сюжетов, связанных с этим эффектом, указывает на внимание художников к акту смотрения. Можно утверждать, что в русской живописи рядом с «человеком идущим» (а позже и «бегущим») утверждается «человек смотрящий».
Судя по произведениям М. Врубеля и других мастеров рубежа столетий этот «смотрящий» сообщает зрителю в разных случаях самые различные значения. Те примеры из врубелевского творчества, которые были приведены, можно дополнить и другими. Девушка в картине В. Борисова-Мусатова «Водоем» смотрит вверх – на небо и провидит иной мир. Зарождающийся в тени и с трудом пробивающийся сквозь стекла очков взгляд К. Сюннерберга в портрете М. Добужинского («Человек в очках», 1905-1906) воспринимается как взгляд в себя. Отголосок символистского толкования интересующего нас мотива можно расслышать в ряде произведений Н. Гончаровой. Застывшие и подчеркнуто молчаливые крестьянки, сажающие картофель или цветы, смотрят вдаль широко раскрытыми глазами. Интерес к исступленному взгляду в момент молчания, как можно предположить, привел Гончарову к созданию картины «Соляные столпы (кубистический прием)» (1909), сюжет которой демонстрирует свободную ассоциацию библейской легенды о превращении жены Лота в соляной столп, виной чему, как мы знаем, послужило ее желание взглянуть назад. Этот сюжет напоминает нам, что вера нисходит не от смотрения, а «от слышания» (ап. Павел, Рим. 10, 17). Фоме Неверующему, чтобы убедиться в свершении чуда Воскрешения и поверить, надо было привести в действие зрение и осязание. За неверием Фомы просматривается более ранний ветхозаветный архетип – роковое неверие (а отсюда – непослушание) жены Лота. Таким образом, мотив смотрения демонстрирующий, казалось бы, дополнительные визуальные резервы русской живописи, в конечном счете, как и в случае с «возвратной литературностью», говорит в пользу слухового приоритета. Это еще одно свидетельство неустойчивости национального менталитета в отношении к слуховой и визуальной образности.
Символизм в русской живописи наиболее наглядно обнажает контрасты на территории совместного бытия слова и изображения. И отмеченное выше распространение мотива смотрения, и стремление к сокращению, урезанию литературного текста говорят о тяготении к визуальности. Именно этой редукцией нарративного начала русский символизм и отличается, например, от немецкого. В немецкой живописи символ слишком аллегоричен и многословен. В России мы наблюдаем два полюса тяготения. Врубель и Петров-Водкин своими картинами способны составить некую параллель литературному тексту. Причем ни присутствие великих литературных героев у Врубеля (Гамлет, Демон, Мефистофель, Фауст), ни мифотворчество Петрова-Водкина не ведут к дурной литературности. Борисов-Мусатов и его голуборозовские последователи максимально сокращают фабулу и в еще большей мере полагаются на визуальную основу живописи.
С первого взгляда может показаться, что в творчестве Врубеля, Мусатова, Петрова-Водкина, Кузнецова оптические возможности полностью реализуются. Но тут вступает в силу другое свойство русского символизма – настойчивая апелляция к умозрению. Символист жаждет незримого, поэтому волей-неволей возвращается к слову. Но словесный текст не может заменить зрительный образ – большая роль принадлежит «оптическому остатку», так и остающемуся тайной. Символ, как пишет А. Доброхотов, пересказывая А. Лосева, «тяготеет к максимальной выраженности, он не останавливается в однозначной связи знака и обозначаемого; и дальше, чем более он разворачивается, чем более он становится как бы катафатическим, тем чище становится его апофатический смысл. Сохранить невыразимое в его невыразимости – это значит стараться максимально выразить это невыразимое. Это единственный адекватный путь»[54]54
Доброхотов А. Мир как имя. – Логос. № 7. М., 1997. С. 57.
[Закрыть]. Такая характеристика символа может быть перенесена и на русский живописный символизм, который делает наглядной диалектику зримого и умопостигаемого в изобразительном искусстве.
Продолжая бросать на чашу весов аргументы за и против визуальной ориентации русского искусства, коснусь еще одной проблемы – интенсификации в живописи тактильных ассоциаций. Наибольшие возможности для их возбуждения даны скульптуре. Разумеется, зритель воспринимает скульптурное произведение глазами, а тактильные ощущения возникают в его сознании как косвенный результат зрительного переживания. Скульптор же, хотя и рассчитывает на визуальное восприятие, при создании произведения (в камне, дереве и особенно в глине) не в меньшей мере отдается осязанию, работая подчас без посредника – инструмента. Живописец тоже соприкасается с поверхностью, которую покрывает краской, с самой краской, чаще всего осуществляя эту связь через кисть. Тактильное начало неминуемо проявляет себя в обработке поверхности – в фактуре. Нельзя сказать, что интерес к фактуре был особенно заметен в иконописи или в живописи XVIII-XIX столетий. Он оживился в импрессионизме и модерне, что закономерно и отнюдь не выделяет русские варианты этих стилей на фоне французских или немецких. Да и в авангарде интерес к фактуре не является исключением. Тем не менее именно в авангарде, ставшем своеобразным утвердотелем русской визуальности, фактура была востребована и приобрела важную роль, лишь немногим уступая в своем значении композиции, колористике, ритму и другим важнейшим свойствам пластической выразительности.
Как известно, свой практический опыт русские авангардисты стремились подкрепить (или обобщить) теоретическими изысканиями. Появился ряд работ, специально посвященных фактуре. В 1914 году вышла книга одного из участников и организаторов «Союза молодежи» Вальдемара Матвейса (Владимира Маркова) «Фактура. Принципы творчества и пластических искусств». В 1911 году статья под названием «Фактура» была опубликована в «Пощечине общественному вкусу» Д. Бурлюком. М. Ледантю, оставшийся недовольным статьей Бурлюка, уделил ей и проблеме фактуры много места в работе «Живопись всёков». В начале 20-х годов о фактуре писал Н. Пунин. Интересно, что фактура, ассоциативно ориентированная на осязание, многими из перечисленных авторов мысленно сопрягалась с другими чувствами. Бурлюк вспоминал об обонянии, приводя исторический анекдот о Рембрандте, который будто бы говорил людям, смотревшим на картину вблизи: «Не нюхай, не нюхай – она воняет»[55]55
Бурлюк Д. (ошибочно – Д.С.). Фактура. – Пощечина общественному вкусу. М., 1911. С. 102.
[Закрыть]. А Лунин в одной из работ (1920) выдвинул мысль о том, что фактура – не поверхность, а шум от нее[56]56
Лунин Я. Первый цикл лекций, читанных на краткосрочных курсах учителей рисования. Современное искусство. П., 1920. С. 20.
[Закрыть]. Снова – слух, который соперничает со зрением в борьбе за осязательную ассоциацию.
Непосредственное отношение к взаимодействию «на художественном поле» слуха и зрения имеет еще одна проблема. Речь идет о текстах, включенных в произведение изобразительного искусства. Но до того как повести разговор о тексте в картине, не могу не коснуться вопроса о тексте под картиной, т.е. о названиях, находящих место на этикетках, расположенных на раме или на стене под картиной и предназначенных для прочтения. Автор отдает себе отчет в том, что название живописного произведения – самостоятельная проблема, требующая многогранного исторического и сравнительного рассмотрения. В данном случае моя цель – обратить на нее внимание и заявить о ней применительно к тому аспекту взаимоотношения изображения и слова, который нас занимает. Поэтому ограничиваю себя лишь отдельными положениями и замечаниями.
Название – это некий дублер, особенно если речь идет о живописи. В поэзии, в прозе, в драматургии оно остается на той же вербальной территории, на которой живет само произведение, и естественно укладывается в его текст. В музыкальном искусстве название чаще всего продиктовано жанровой традицией, а дополнение, которое подчас делается к слову соната или симфония (например, патетическая), лишь акцентирует особенности самого сочинения. Разумеется, нередко музыкальное сочинение получает «пейзажное», «жанровое» или «историческое» название, но правилом такие случаи считать нельзя.
Название живописного произведения принципиально отличается от вышеперечисленных. Оно вторгается в живопись из другой сферы и ведет себя в зависимости от того, в какие отношения оно вступает с предметом изображения. Часто его роль ограничивается элементарной информацией. В названии портрета указывается имя модели, в названии натюрморта – изображенные предметы, пейзажа – наименование местности или обозначение характерных особенностей ландшафта. Название жанрового произведения информирует о событии повседневной жизни. Большими текстовыми подробностями отличается название исторической картины. Оно заимствуется из Библии или из мифологии, иногда из реальной истории и, как правило, тоже тяготеет к информативной определенности. Но даже в простейших случаях, когда название и не помышляет о соревновании с сюжетом произведения, происходит некий акт вторжения вербального начала в визуальный текст. Далеко не всегда словесное название дублирует содержание живописного образа картины, ибо это содержание выходит за пределы поименованного предмета, а в тех случаях, когда дублирует, является практически ненужным добавлением и может понадобиться лишь для номинального, не связанного с художественным восприятием опознания. Не случайно Кандинский стремился избавиться от привычных названий, утвердив свою систему, заимствованную из музыкалькой практики, и сопроводив свои «импрессии», «импровизации» и «композиции» соответствующими номерами. Но подобная перестройка на новый лад получила лишь частичное признание – в основном среди авангардистов.
Таким образом, мы можем констатировать, что словесное обозначение живописного произведения изначально противоречиво. Эта противоречивость обостряется в тех случаях, когда название расширяется за счет перечисления подробностей или получает дополнительный смысл – помимо элементарного. В русской живописи такие варианты встречаются довольно часто. Первый из них распространен в историческом жанре. Например, известная картина И. Репина «Царевна Софья» в каталоге 7-й передвижной выставки в 1879 году имела название «Правительница, царевна Софья Алексеевна, через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре, во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги, 1698». В подробном перечислении всех деталей исторического события слышен отзвук академической традиции. Картина Лосенко «Владимир и Рогнеда» имела – в соответствии с заданной Академией программой – официальное название «Великий князь Российский Владимир Святославич пред Рогнедою, дочерью Рогволода, князя Полоцкого, по побеждении его князя за противный отказ требованного Владимиром супружества с оною». Столь же развернутые названия можно найти у Чистякова или Сергея Иванова. Несмотря на вербальный способ изъяснения, название в этих случаях становится иллюстрацией самого произведения – «иллюстрацией наоборот». «Словесные претензии» таких названий инициированы намерением удержать зрителя в пределах буквального понимания исторического события и от мысленного обобщения возвращают к конкретному факту.
В другом варианте название присваивает себе образный смысл, реализуемый словесно, и вступает в соревнование с визуальным образом. Примером такого подхода могут служить наименования картин И. Левитана «Над вечным покоем» и «Тихая обитель» или «Всюду жизнь» Н. Ярошенко. Здесь названия имеют метафорический оттенок. Они хоть в малой степени стремятся диктовать характер восприятия образа. Нельзя сказать, что словесное вмешательство препятствует восприятию визуального явления, но след некоей двойственности остается. Если «словесная помощь» оказывается действенной, визуальный образ обнаруживает свою слабость. Если же эта помощь не действенна, теряется смысл в ее существовании. Еще один вариант названия, выходящего за пределы элементарной фиксации предмета изображения, – употребление слов, произносимых одним из героев («Вот-те и батькин обед» Венецианова, «Анкор, еще анкор!» Федотова) либо витающих в воздухе и произносимых если не героем, то автором («Не ждали», «Какой простор!» Репина). В таком варианте мы подходим к проблеме включения вербального текста в живописный. Его истоки следует искать в традициях лубка или других видов изображения, включающего в себя текст.
Но прежде чем непосредственно обратиться к этому предмету, не могу не сказать несколько слов о том, как эволюционировала проблема названия в живописи русских авангардистов, которые и само название превратили в предмет эксперимента. Правда, подобная тенденция коснулась не всех. На ранних этапах творческого развития Ларионов, Гончарова, Филонов, представители основного ядра «Бубнового валета» сохраняли старые принципы, в соответствии с которыми наименование картины чаще всего совпадало с предметом изображения. По мере нарастания тенденций кубофутуризма названия приобретали намеренно запутанный и эпатажно-алогичный характер. «Чемпионом» в этой области был Д. Бурлюк, одна из картин которого на выставке «Союза молодежи» называлась так: «Моменты разложения плоскостей и элементы ветра и вечера, интродуцированные в приморский пейзаж (Одесса), изображенный с 4-х точек зрения». Замысловатые наименования давал своим картинам первой половины 1910-х годов Ларионов. Не отставал от него и Малевич. В последний момент перед открытием супрематизма в каталоге выставки «Трамвай В» возле пяти номеров вместо названий художник поставил фразу: «Содержание картин автору неизвестно». Конечно, это была эпатажная шутка, но она таила в себе и долю истины. В тот момент, когда фрагменты мира на малевичевских холстах входили в сложные отношения друг с другом, когда разрушалась привычная земная логика, художнику и впрямь могло показаться, что содержание картин осталось ему неизвестным и называть их уже не имело смысла. Но вскоре положение стало меняться. Авангардисты выработали свои стандарты. Малевич ставил номера возле «Супремосов», хотя на выставке «0,10» многие супрематические беспредметные картины получали названия, связанные с реальными предметами из окружающего мира, – «Живописный реализм футболиста – красочные массы в 4-м измерении» или «Живописный реализм крестьянки в 2-х измерениях». Кандинский, как мы видели, утвердил свои наименования. Филонов называл многие картины «формулами», Попова – «Живописными архитектониками» или «Пространственно-силовыми построениями», Родченко – «Конструкциями» или «Композициями», Татлин ввел новые термины – «Доска», «Подбор» и др. Название вновь приобретало сугубо информационный смысл, сообщая сведения о материале, о стилевом качестве, о пластической задаче, не претендуя на соревнование с живописным образом, не стремясь его дополнить или продублировать. И хотя отмеченная тенденция далеко не перекрывает все явления художественной практики, визуальная основа художественного образа почти освобождалась от вербального вмешательства. Но и в этой идеальной ситуации мы не можем говорить о победе изображения над словом, а лишь о частичном сохранении власти зрения на своей территории.
Обратимся теперь к вопросу о включении вербального текста в само изображение. Начало этой проблематики лежит в области древнерусской живописи – фрески и иконы (я не касаюсь в данном случае миниатюрной живописи и более поздней книжной гравюры, которые увели бы в сторону от интересующих нас вопросов). Там мы констатируем разветвленную систему текстов[57]57
См. об этом: Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1971. С. 28-32.
[Закрыть]. Это не только названия праздников или наименования святых, изображенных во фреске или на иконе, но и разного рода литургические тексты – цитаты из псалмов, фрагменты песнопений, различные формулы Божественной премудрости, тексты на свитках, находящихся в руках пророков или святых. Обильные поясняющие надписи, как правило, сопровождают клейма житийных икон. Нередко участники сцен произносят слова, которые прямо вылетают из их уст. В тех случаях, когда тексты не служат непосредственным сопровождением представленного события, они соотносятся с изображением свободно, не дублируя его смысл и полагаясь лишь на тот аспект, который реализуется в акте литургии, а иногда остаются совсем независимыми от сюжета и содержания фрески. Здесь вряд ли приходится говорить о каком-то соревновании визуального и вербального начал. Оба они подчинены высшей задаче, располагающейся вне их сущности. Но все же взаимодействие слова и изображения определенным образом влияет на визуальный текст. Я не беру на себя функции литературоведа и не говорю здесь об обратном влиянии. Д.С. Лихачев пишет:
С первого взгляда может показаться, что словесное сопровождение визуального образа теряет в этой ситуации те преимущества, которыми пользуются временные искусства – прежде всего литература и музыка, что вербальный текст визуализируется. Ведь слова и фразы вплетены в изображение, становятся его частью, не просто «проходят через глаз в ухо», а сохраняются для глаза своей формой, орнаментальными качествами, наглядной выразительностью. Но этот «двойной удар» оправдан тем, что и слово, и изображение являются либо свидетелями, либо участниками синтетического действа – литургии, в которой и литературный, и музыкальный тексты в союзе с «двойным» визуальным достигают необходимого равновесия. Такое равновесие избыточно, оно имеет эстетический смысл, который не определяет сущности иконного изображения. В дальнейшем оно исчезает, так как и изображение, и слово в нерелигиозном искусстве приобретают иной смысл, выходя за пределы территории литургического синтеза.








