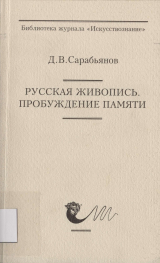
Текст книги "Русская живопись. Пробуждение памяти"
Автор книги: Дмитрий Сарабьянов
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
Нечто подобное было и в других странах. Во Франции также дружили поэты и живописцы, находя друг в друге не только человеческую, но и профессиональную поддержку. Вождь итальянских футуристов Маринетти разъезжал не только по своей стране, но и по всему миру. Однако в Европе – особенно в «художественно развитых» странах, как Франция, Италия или Германия, – такая активность не была чем-то исключительным. Для России же она стала явлением необычайным и неминуемо должна была вызвать к жизни такую атмосферу, в какой художественная личность чувствовала себя в состоянии эйфории, подъема и возбуждения. Разумеется, реализация таланта шла разными путями. Иной раз она проходила по поверхности, не захватывая глубин. Обстановка ярмарочного празднества, ничем не сдержанного разгула допускала элементы легкомыслия и экстенсивный способ развертывания таланта, В русском авангарде, как и во всяком другом, есть явления наносные, неглубокие. Но не они определяют его лицо. Те условия реализации творческой личности, которые сложились в художественной жизни России 1910-х годов, в большей мере способствовали подлинному открывательству, чем его имитации.
5.
Подлинность русского авангарда во многом проверяется тем, что его представители либо вышли из гущи простонародной эстетики, либо во многом ориентировались на нее. Как ни в одной другой стране, в России в 1900– 1910-е годы получил широкое распространение неопримитивизм. Его инициаторы – Ларионов, Гончарова, художники «Бубнового валета», а вслед за ними мастера следующего поколения – прямо обратились к еще не раскрытому к тому времени источнику национального народного творчества, который был не только богат и разнообразен в своих исторических проявлениях, но – главное – оказался живым и действующим. Россия счастливо сохраняла жизненную плоть народного творчества, тогда как в других странах эта плоть омертвела и народное искусство умирало или в лучшем случае реанимировалось. Ясно, что это обстоятельство давало важный импульс развитию неопримитивизма, представители которого ощущали непосредственную связь с еще подвижной стихией не только народного творчества, но и народного бытия.
Неопримитивизм обозначил первые шаги русского авангарда. Они были столь уверенными именно потому, что художники осознавали свою связь с первоисточником. Но дело не только в нем. Дальнейшее движение авангардной живописи находилось в зависимости от этих первых шагов. Они многое предопределили, создав широкую платформу для последующего развития. Не только Ларионов и Гончарова, обратившиеся вслед за неопримитивизмом к лучизму и к футуристическим опытам, но и многие другие авангардисты, проходя в своей эволюции неопримитивистский этап, задержались на нем, вобрав в себя его токи и энергию. Это можно сказать о Малевиче, Шагале, Филонове. Кандинский, при всей эзотеричности своего таланта, отталкивался от религиозных народных картинок.
Среди художников, кто вслед за первооткрывателями неопримитивизма пробыл некоторое время на его территории, наиболее интересный опыт дает Малевич. Из всех стилевых этапов, которые он стремительно прошел на протяжении 1900-х – начала 1910-х годов, особенно плодоносным (если не считать кубофутуризм и супрематизм) был «крестьянский кубизм». Произведения, посвященные крестьянской России и созданные в 1909-1912 годах, по художественным качествам поднимаются на самый высокий уровень. По ранним работам Малевича видно, что крестьянская тема была как бы предназначена художнику. Уже в импрессионистических этюдах формы устремлялись к статике, выражали состояние устойчивости и передавали главенство объема. Контуры предметов закрепляли их за живописной поверхностью. Пространство как бы овеществлялось, становясь выражением всеобщей однородной материи. Эти начинания получили развитие на рубеже десятилетий. Малевич, в дальнейшем стремившийся преодолеть земное тяготение, в это время поспевал плоть. Человеческая фигура выступала как главный выразитель плотского начала. Но плоть эту художник старался представить одушевленной. Достигая своеобразного равновесия между телом и душой, он мощью тела словно возвеличивал душу.
Для Малевича крестьянское бытие, все его персонажи обладали эстетической значимостью, содержали в себе потенциал великого жизненного явления. Между этим величием, массой представленных фигур и устойчивостью композиций, в которых они реализуют свое бытие, оказывается прямая зависимость. Фигуры косцов, сборщиков урожая, крестьянок, отправляющихся с ведрами за водой, головы мужиков – устойчивы, «вдвинуты» в точные геометрические параметры, часто – в квадратные форматы. Квадратный формат в живописи особенно выразителен и семиотичен. В случае органического композиционного решения он «держит» форму, дает объему напряжение. У Малевича тела, предметы, части пейзажа словно перевиты, перевязаны или так сопоставлены друг с другом, что внушают ощущение первородной нерасчлененности. Они к тому же словно выбиты из листовой меди, раскрашенной по поверхности; эти цветовые поверхности в своей градации от густого цвета к разбеленному образуют объемы. Внутри идеального кубовидного пространства образуется гармоническое взаимоотношение стереометрических форм; одновременно на плоскости холста в квадраты плотно вписываются треугольники, прямоугольники и другие геометрические фигуры. Мир русской деревни рационально вычисляется, но вместе с тем предстает перед нами как некая загадочная стихия – предмет поклонения, великая сила, заведомо данная нам истина и правда жизни.
В таком подходе к предмету изображения заложена идея высшего начала, которая будет искать воплощение в супрематизме. От «деревенского Малевича» намечается путь к супрематическому. Это проявляется не только в иконоподобности картины, но и в самом ее формально-структурном строе. Геометризм крестьянских картин уже предполагает возможность выхода к квадрату, кресту или прямоугольнику. Но в супрематизме статика обернется небывалой динамикой, преодолевающей гравитацию. И эта небывалость утвердится в процессе преодоления, явится результатом усилий, направленных на завоевание противоположности тому, что остается преодоленным.
Нам важно подчеркнуть связь конечного пункта движения с тем обязательным этапом, который мы видим в примитивизме. Роль последнего в искусстве авангардистов выступает в разных формах. У Филонова и Шагала примитивистский компонент сохраняется – он как бы вплавлен в сердцевину творчества каждого из них. Вернее было бы говорить не о примитивизме (поскольку это направление приобрело в России достаточно жестко очерченные особенности, с которыми не совпадает творчество Филонова и Шагала), а о зависимости мастеров от народной традиции. Филоновские образы можно истолковать как выражение трагического представления о жизни, наполненного эсхатологическими реминисценциями. Эти представления как бы прошли через пласты народного сознания, наполнены мифологическим смыслом. В филоновских картинах часто действуют людские массы. Но дело не в самих героях. В этих картинах выражено мышление, присущее большим человеческим общностям. Оно не субъективно-индивидуальное, а объективно-всеобщее, хотя для того, чтобы им овладеть, Филонову пришлось до предела напрячь и обострить свои индивидуальные субъективные свойства.
Мышление Шагала не скрывает субъективных истоков. Они ведут нас к основам шагаловского бытия – к его детству, к традиционным взглядам людей, объединенных религиозными представлениями, бытовым укладом. Шагал не только выходит из простонародной еврейской среды, но и сохраняет ее в живых конкретных реалиях, в свидетельствах быта и народной памяти.
В тех случаях, когда творчество того или иного представителя русского авангарда непосредственно не соприкасалось с примитивистскими тенденциями, столь широко развернувшимися в русском искусстве 1910-х годов, или не было связано с ярко выраженными особенностями народного мышления, оно имело почти незримые контакты с русской иконописью, которая не переставала питать искусство новейшего времени. Это тоже народный источник. И примитивисты, и кубисты, и экспрессионисты – Гончарова и Ларионов, Филонов и Лентулов, Малевич и Кандинский, Татлин и Попова, Розанова и Удальцова – все вольно или невольно вспоминали об иконописи, сознательно или непроизвольно питались ее опытом. И она тоже была носителем народного миропредставления.
Говоря об этом, нельзя не вспомнить о подобных же тенденциях в искусстве Германии или Франции: немецких художников интересовала старинная иконопись на стекле; французских – народная картинка. Но с большей охотой они отправлялись в чужие страны или искали живительный источник в искусстве Африки, в негритянской скульптуре. Однако это были скорее находки, тогда как в России ориентация художников на примитив или икону становилась обретением традиции, живой связью с далеким и недавним прошлым.
Из всего сказанного мы можем сделать вывод о национальной укорененности русской авангардной живописи и об известном ее демократизме. Русский живописный авангард возник не случайно, не стал результатом «дурных» внешних влияний, не может быть назван безродным и беспочвенным. Он вобрал в себя национальные традиции русской культуры, усвоил ее пафос, широту и значительность ее целей.
1988 г.
Авангард и традиция
Вначале хочу сделать одну оговорку: настоящая статья является продолжением той работы, которая была опубликована в сборнике «Советское искусствознание'25». Для впечатления цельности я вынужден буду кое в чем повториться. Но постараюсь сделать это кратко, не тратя лишних слов на доказательства. К тому же необходимо расставить новые акценты сравнительно с теми, какие были сделаны несколько лет назад.
Дело в том, что в последнее время отечественный авангард 1910-1920-х годов подвергается суровому осуждению со стороны многих русских и зарубежных критиков. Атака идет в двух направлениях, порой противоположных друг другу. Одни узрели в авангарде прообраз советского тоталитаризма, предвестие 30-х годов. Другие, следуя критикам начала века, констатируют в нем разрушительное начало, не видя созидательного. Авангардистов обвиняют в полном отрицании традиции, в антихудожественности на основании отдельных, более или менее случайных фактов, не зная или не замечая при этом тех, которые свидетельствуют о приверженности авангардных мастеров к глубинным художественным, а подчас и религиозным традициям. Такие обвинения мы находим в книгах и статьях, а еще больше в «искусствоведческом фольклоре», в ниспровергающих выступлениях молодых художников и критиков. Эта критика вызывает ответное стремление пересмотреть традиционные представления об авангарде, раскрыть его истинное лицо.
Первая – чисто внешняя задача, возникающая при определении национальных особенностей того или иного художественного направления, заключается в том, чтобы установить его временные границы, проследить движение, сравнив близкие явления разных национальных школ в их хронологических параметрах.
Русский живописный авангард – если рассмотреть его в предложенном аспекте – представляет чрезвычайно оригинальное явление. Известно, что русское изобразительное искусство на протяжении XVIII – начала XX века – то есть тогда, когда оно развивалось в пределах художественной культуры Нового времени, – постоянно отставало от параллельных явлений Запада или уж во всяком случае Франции. Не будем углубляться в историю, а обратимся к предавангардным десятилетиям.
Импрессионизм в России сделал свои первые и единичные опыты в 80-е годы, а достиг зрелости в 900-е – на два десятилетия позже французского импрессионизма. Модерн тоже запоздал и потому обречен был на стилевую половинчатость и размытость. Еще Александр Иванов считал, что Россия, замыкающая движение цивилизованных стран, имеет благодаря этому преимущества выбора и обобщения западного опыта. Русская живопись часто пользовалась такой привилегией, выбирая из мирового наследия самое для себя подходящее, соединяя высшие достижения различных национальных школ, порождая такие явления, в которых поисходило слияние подчас противоположных тенденций. Импрессионизм шел навстречу модерну, последний отвечал таким же встречным движением. Постимпрессионизм получил фовистскую и экспрессионистическую окраску.
Стилевые модификации и слияния коснулись и авангардных течений. Речь, например, может идти о кубофутуризме, который как реальная стилевая категория «собрался было» обосноваться во французской живописи, но там не состоялся, а реализовался в России – не только в том аморфном варианте, который возник благодаря соединению в «Гилее» поэтов-футуристов и живописцев-кубистов, но и в более конкретном воплощении – как у Малевича, Розановой, Поповой, Клюна, Удальцовой. Подобные явления имели место и в других национальных школах, не претендовавших на роль первооткрывателей. Подтверждением может служить чешский кубоэкспрессионизм.
Однако для русского авангарда явление кубофутуризма как некоей «стилевой смеси» приобретало оригинальный характер, преодолевая «стилевой анахронизм», так как вскоре многие художники не без его помощи обосновались на позициях первооткрывателей. И произошло это не потому, что они «перемахнули» через целый виток исторической спирали (на что, кстати, надеялись русские), а потому, что совершили прыжок вперед. Русское искусство выиграло темп и оказалось не просто на одной линии с голландским или французским, но и впереди многих европейских школ.
Этот феномен выигранного темпа всегда удивлял зарубежных критиков и историков искусства. Здесь возникает вопрос: где искать причину столь решительного скачка? Не оказали ли влияние на сам факт рождения авангарда «хронологические особенности» русского искусства рубежа столетий? Без колебаний мы можем ответить на этот вопрос положительно. На протяжении 1890-1900-х годов в русской живописи в сжатом пространстве скопилось множество стилевых образований, линия закономерной эволюции до предела напряглась, ускорение движения достигло небывалых размеров. Эта сжатая пружина решительно распрямилась, вытолкнув вперед яркие и самобытные явления русского авангарда. Русское искусство не впервые совершало прыжок вперед, но прежде оно с его помощью догоняло, а ныне осмелилось перегнать. Состоялось некое подобие «русского чуда», что само по себе если и не было традицией, то всегда брезжило как надежда. Если хотите, это была своего рода «традиция надежды».
Напряжение роста, густота «художественного сплава» оказались сопряжены с многообразием скопившихся на одном хронологическом отрезке стилевых направлений, а с ними – и художественных традиций. Нередко они вступали в противоречие друг с другом. Но их роль продолжала оставаться первостепенной, во многом предопределяющей дальнейшее движение.
Проблема традиции стала одной из важных для русского авангарда – кстати, не только живописного, но и поэтического. Известно, что сами авангардисты чаще всего на словах отрицали устоявшиеся, узаконенные общественным мнением традиции. За ними укоренилась слава ниспровергателей, с легкостью сбрасывавших Пушкина с «парохода современности» и клеймивших Тициана. Разумеется, нельзя просто отмахнуться от их собственных утверждений, как нельзя их объяснить лишь эпатажем или самоутверждением (хотя то и другое просматривается в их позиции). Многое из рассуждений авангардистов следует воспринимать всерьез. Надо отдавать себе отчет и в том, что авангардные художники и поэты имели избирательное отношение к традициям, а с другой стороны, продолжали некоторые из них спонтанно, интуитивно, сами того не осознавая. Часто они подхватывали традицию косвенную, «внутреннюю» – не стилевую, а мировоззренческую, не традицию формы, а свойство национального мировосприятия. Если во всем этом разобраться без предвзятости, то авангардисты окажутся не такими уж «Иванами, не помнящими родства».
Но дело не ограничивается лишь косвенными традициями. Как и всякое направление в искусстве, авангард не мог обойтись без прямой опоры на некое стилевое наследие. Исключалось прямое обращение к непосредственным предшественникам – к творчеству мастеров «Мира искусства» и символистов., реалистов-передвижников или академистов второй половины XIX – начала XX века, а также к классическому западноевропейскому наследию. Авангардисты выбирали «другие» традиции, не говоря о том, что пользовались достижениями и опытом современного им европейского искусства.
История русского живописного авангарда начинается с неопримитивизма, затронувшего многие художественные группировки, но полновесно реализовавшегося сначала в раннем «Бубновом валете», а затем – в «Ослином хвосте» и «Мишени». Это стилевое направление в русской авангардной живописи, пожалуй, как никакое другое укоренено в национальной традиции. Не только потому, что обратилось к опыту изобразительного фольклора, но и потому, что его предчувствия можно обнаружить в 60-70-е годы XIX века в творчестве Соломаткина, а ранние свершения – у художников разных объединений, в целом далеких от будущей практики «Ослиного хвоста», – у Добужинского, Крымова, Сапунова, Судейкина, Кузнецова.
Русский неопримитивизм не является в европейском искусстве того времени единственным направлением, заинтересованным в этом богатом пласте художественного наследия. Но для французов или для немцев примитив был прежде всего способом разработки собственных художественных концепций, составлявших последовательную цепь стилевых явлений на пути к утверждению новой реальности. Примитив в их глазах не обладал самодостаточностью. В России примитивизм, поначалу являвшийся сопутствующим элементом других направлений, а затем как бы увидевший в фольклорном художественном мышлении конечную цель своих исканий, превратился в самоценное направление. Когда оно исчерпало свои возможности, последующие художественные движения оказались его наследниками.
Здесь нет необходимости демонстрировать принципы переосмысления фольклорных традиций в русском неопримитивизме – об этом достаточно много написано. Коснемся другого источника, которым охотно пользовались не только неопримитивисты, но почти все представители русского авангарда. Речь идет о древнерусском искусстве, попадавшем в поле зрения художников разными путями. В те годы становились известными фресковые циклы, раскрывались иконы, устраивались специальные выставки. Пораженный этими открытиями, М. Волошин писал в 1914 году:
Кто знает, не повлечет ли за собой это обнажение от олифы очищенных икон их окончательную гибель впоследствии? Но теперь, на мгновение, как античный мир для людей Ренессанса, древнее русское искусство встало во всей полноте и яркости перед нашими глазами. Оно кажется сейчас так ярко, так современно, дает столько ясных и непосредственных ответов на современные задачи живописи, что не только разрешает, но и требует подойти к нему не археологически, а эстетически, непосредственно [136]136
Волошин Максимилиан. Лики творчества. Л., 1988. С. 292.
[Закрыть] .
К факту эстетического открытия иконы следует добавить бытовой аспект: люди того времени с детских лет сталкивались с церковью, в которой, несмотря на многие утраты, продолжали звучать отголоски большого религиозного искусства.
Еще Суриков и Васнецов в 80-е годы прошлого века оставили в своем творчестве различные свидетельства интереса к древнерусской традиции. В 90-е за ними последовал Рябушкин, в начале нашего столетия – Рерих, Билибин, Петров-Водкин и многие другие. Первыми среди авангардистов, открывших древнерусский источник, были неопримитивисты, и прежде всего – Наталия Гончарова. Вслед за ней пошли художники того же круга и кубофутуристы. Икона пришла к ним через примитив, но тут же отпочковалась, став самостоятельным источником влияния. Вошла в обиход христианская иконография – вспомним «Евангелистов», «Богоматерь с младенцем», многочисленные триптихи Гончаровой, «Всех святых», «Святого Георгия», «Страшный суд» Кандинского, «Распятие» и «Апостола» Лентулова, «Бегство в Египет» и «Святое семейство» Филонова и т.д. Гончарова уподобляла своих крестьянок иконным образам. Еще дальше по этому пути пошел Малевич в «Крестьянках в церкви», «Головах крестьян» и в несохранившихся «Крестьянских похоронах». Русская икона откликнулась в супрематизме и во втором крестьянском цикле Малевича, в «Живописных архитектониках» Поповой, в «Натурщицах» Татлина, в его идее «корпусной окраски» поверхности (по формулировке Н. Лунина), в цветописи Розановой и других явлениях авангардной живописи. Сравнение авангардных произведений с иконописью стало в последнее время общим местом в работах многих искусствоведов, особенно западных, приобретая подчас поверхностный характер. В сути своей такое сопоставление является истинным – сами художники часто говорили об иконе как о важном источнике творчества. Это было совершенно осознанное стремление произвести некий акт национальной идентификации, прирасти к традиции, тем более что последняя была своей – русской.
Другим импульсом стала попытка художников осуществить собственные религиозные искания. Эти искания реализовывались по-разному: более непосредственно – у Кандинского и Гончаровой, в противоречивой форме – у Малевича или Филонова. Первые двое многочисленными произведениями подтверждают серьезность намерений. Гончарова буквально заполоняла выставки огромными полотнами, исполненными искренних чувств и религиозной одержимости и в общих чертах соответствовавшими традиционной христианской иконографии. Тем более она должна была испытывать чувство горькой обиды, когда работы такого рода снимались с выставок «по цензурным соображениям». Так или иначе проблема соотношения авангардного искусства с христианской традицией остается одной из самых значительных и животрепещущих.
Если вернуться к неопримитивизму и подвергнуть творчество его представителей не первичному, а более внимательному анализу, то можно прийти к выводу, что это направление оказалось неожиданно связанным с традициями русского реализма второй половины XIX века. В отличие от фовистов и экспрессионистов, Ларионов, Гончарова, Шевченко и другие мастера этого круга любили рассказ в живописи, подчеркивали важность нарративного начала, хотя настаивали на главенстве живописно-пластического подхода и нередко обращались к тем пластам народной жизни, к тем сторонам повседневности, которые прежде привлекали внимание художников-реалистов. Ларионов исследовал и воспевал русскую провинцию – до него она интересовала не только мирискусников – Добужинского и Кустодиева, но и передвижников – Репина и Маковского. Гончарова большую часть своего творчества посвятила крестьянской жизни, мимо которой не прошел почти ни один передвижник. Малевич в самом начале 1910-х годов также избрал своими героями крестьян. Татлин, Шевченко, Ларионов – солдат, матросов, уличных музыкантов, прачек. Разумеется, Шевченко, когда писал своих прачек или музыкантов, не пытался имитировать Архипова и тем более жанриста 50-х годов Чернышева (которого, скорее всего, не знал), а Гончарова – Перова или Маковского. Дело в том, что все эти пласты русской жизни, в которые в свое время проникали русские живописцы XIX века, продолжали оставаться в России теми же – наполненными противоречиями, возбуждающими вопросы, требующими внимания общественности, в конце концов определяющими российское мировосприятие. Новые художники смотрели на тот же жизненный материал – смотрели по-другому, иными глазами, искали не то, что искали их предшественники, но все равно уйти, оторваться от этого материала не могли. Традиция утверждалась сама собой – в силу обращенности к тому же предмету.
Возникает вопрос: насколько осознанным было ощущение причастности к этой традиции?
Известно, что неопримитивисты отрицали передвижничество как художественное явление, порицали его за то, что оно не подкрепляло своих устремлений живописно-пластическими достижениями. Между тем в кругу Ларионова многие соратники за глаза называли его передвижником. На самом деле это было «невольное передвижничество». Интуитивное, спонтанное, неосознанное продолжение традиций создает особый слой традиционализма. Традиция в этих случаях устанавливается сама, а не выбирается. Она во многом предопределяет развитие, предрекает возможный путь искусства.
Творчество неопримитивистов, как видим, дает повод для разговора о своеобразном традиционализме ослинохвостовцев, о сочетании традиций прямых и косвенных, унаследованных от близких предшественников и далеких. Не случайно именно в среде ослинохвостовцев возникла идея «всёчества». Ее проповедовали Гончарова и Ларионов, Ледантю и Илья Зданевич. Они настаивали на возможности опираться в собственном творчестве на любой стиль, преодолевая хронологические и географические рубежи. Гончарова, как известно, писала своих «Павлинов» в разных стилях – в египетском и стиле русской вышивки, в кубистическом или футуристическом. Разумеется, исторические стили оказывались здесь в подчинении современной живописной интерпретации, не допускавшей стилизации, не разрушали творческой индивидуальности, а, скорее, дополняли ее индивидуальностью стилевой. Программа этих мастеров, недвусмысленно указывавшая на признание традиции как источника и исходной точки для новейших исканий, явилась прямым результатом сосредоточения различных стилевых направлений и соответствовавшего им наследия в одном творческом пространстве и по-своему выражала, как ни покажется удивительным, обостренное отношение к своей задаче со стороны художнической индивидуальности, способной легко распоряжаться разными стилями.
Здесь возникала проблема взаимоотношений между традицией, отягощенной суммой каких-то правил и законов (а то и канонов), с одной стороны, и индивидуальностью мастера – с другой. Ее противоречия разрешались «в пользу» художника, как и во времена модерна, – с той лишь разницей, что тогда он проявлял свою власть с помощью стилизации, а теперь – с помощью творческой энергии, преобразующей реальность, на месте которой оказывается исторический стиль. В контексте нашего повествования проблема творческой личности включается, таким образом, в систему традиций.
Принцип индивидуализма, в полной мере не реализованный в русской художественной культуре и утвержденный достаточно поздно – в конце XIX века – мирискусниками, от них был воспринят авангардистами, несмотря на полное, казалось бы, неприятие мирискуснической программы в ее главных постулатах. История такого восприятия традиции, без оглядки на ее происхождение, достаточно проста. Русский классицизм, как и передвижничество, ориентировали художника прежде всего на общее правило, а не на самовыражение. Романтизм, способный этой традиции противостоять, не получил достаточно определенного развития. В течение XIX века господствовала идея нормативности. В конце столетия произошел совершенно естественный взрыв противоположных устремлений – можно сказать, что он не мог не произойти, ибо в силу закономерности общемирового культурного движения «художественный субъективизм» должен был быть обретен. Мирискусники оказались именно в той исторической точке, где это могло случиться. Хотя дело не только в общей закономерности, но и в собственной предрасположенности «Мира искусства» к художественному субъективизму. Эти индивидуальные моменты провоцируются и закрепляются той же закономерностью. Притом мастера «Мира искусства» ставили субъективизму определенные пределы: когда в предавангардные годы он достиг своей полноты, тот же А.Н. Бенуа объявил субъективизм в искусстве «художественной ересью». Что касается авангардистов, то они восприняли саму идею, вряд ли вспоминая имена ее первооткрывателей, ибо за короткий срок она стала всеобщей, захватила едва ли не все передовое художественное движение в России. Выдвигая на первый план феномен ощущения (Малевич) или обусловливая успех своего поиска критерием «внутренней необходимости», обретением «внутреннего смысла» явления (Кандинский), авангардисты расширяли границы художественного субъективизма и теоретически его обосновывали.
Правда, как это часто бывало у Малевича, в его позиции обнаруживались противоречия между крайним субъективизмом в отношении к миру и своеобразным художественным волюнтаризмом, с одной стороны, и стремлением утвердить жесткие принципы всеобщего восприятия – с другой. В первом номере рукописного альманаха «УНОВИС» Малевич опубликовал статью «О „Я“ и коллективе», где говорил о невозможности сохранить полную личную независимость: она должна была быть заменена, считал Малевич, независимостью коллективной. Преимущества свободы – по законам того же художнического волюнтаризма – переносились с личности на коллектив, который, в свою очередь, выступал как некая личность. Эта крайность Малевича не дает, однако, никаких оснований для того, чтобы отождествлять или сопоставлять такое понимание коллектива как личности (обладающей правом свободы) с безликим коллективизмом 30-х годов.
Характеризуя феномен субъективизма в русском авангарде как акт использования культурного наследия, выдвинутого предшественниками, мы перешли от классификации традиций, «вольных» или «невольных», касающихся стиля или метода, к таким, которые определены общим отношением к задачам творчества, к пониманию его назначения. Здесь открывается поле для более свободных и широких сопоставлений, но одновременно и менее обязательных.
Используя заглавие знаменитой работы Е. Трубецкого «Умозрение в красках» и переиначивая его на современный лад, можно сказать, что живопись русского авангарда – это в большинстве случаев «философия в красках». Здесь мы подходим к одному из важнейших свойств русского живописного авангарда. Он был одержим не столько социальным переустройством мира, его революционным преобразованием, сколько постижением сущности миропорядка, смысла жизни, познанием Вселенной и способами этого познания. По природе своей он был философичен, а не социологичен.
Одним из последовательных выразителей этой тенденции стал В. Кандинский. Достаточно вспомнить его собственные рассуждения о творчестве, творческом процессе, о смысле созданных им образов, чтобы убедиться в этом. Открытия науки шли навстречу его художественным исканиям, перенесению акцента с внешних явлений жизни на их внутренний смысл. Его интересовала загадка катастрофы как импульса рождения – миров, художественных образов, Вселенной. В своей теории Кандинский разрабатывал проблемы, близкие антропософии и теософии, но в некоторых утверждениях и положениях был созвучен религиозной философии конца XIX – начала XX века. Речь, в частности, может идти о влиянии Вл. Соловьева, мимо трудов которого вряд ли мог пройти молодой Кандинский в студенческие годы.








