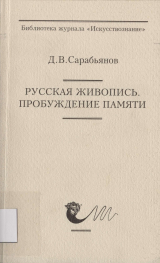
Текст книги "Русская живопись. Пробуждение памяти"
Автор книги: Дмитрий Сарабьянов
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
Думаю, что такое членение годится лишь для искусства Нового времени – средневековое и древнее ему не подлежат. В новом же такая альтернатива существует постоянно. Это не значит, что время не воздействует на взаимоотношения двух типов. Ренессанс больше тяготеет к имперсональности, XVII век – особенно в некоторых вариантах – к экзистенциальности. В таких же отношениях находятся XVIII век и романтизм, затем – реализм XIX века и новые тенденции искусства, начиная с постимпрессионизма. Примерами экзистенциального начала могут служить Рембрандт и особенно Ван Гог. Противоположны им – Леонардо да Винчи и Давид. В России подобную оппозицию друг другу составляют Левицкий и Рокотов, Венецианов и Кипренский, Серов и Врубель.
Разумеется, повторяю, и классификация этапов, и классификация мастеров даются условно. Нет «чистых» эпох и столь же «чистых» мастеров, выражающих до конца тот или иной тип. В реальности все смешано, переплетено. Тем не менее точки тяготения заметны; они-то для нас и важны.
Экзистенциальный тип художника, как правило, дает интересный вариант автопортрета. Автопортреты Ван Гога представляют кривую душевного состояния художника – это своего рода кардиограмма, предвещающая неминуемый летальный исход.
В этой связи, подходя к автопортрету, интересно определить, как художник смотрит. Он может видеть себя со стороны – в зеркало, где перед ним он сам и вместе с тем – его объект, лицо, фигура, душа, характер, которые надо познать. Так смотрят на себя Венецианов и Тропинин, Репин и Серов.
Можно смотреть по-другому: из картины на мир. Тогда художник занят не познанием, а скорее выражением себя. Так смотрит Кипренский. Его энергия направлена вовне. Это не значит, что художник не стремится к самопознанию, но оно – не в точке бытия самого образа, а за его пределами.
Особенно показательны автопортреты Врубеля, подразделяющиеся на две группы: киевского периода, когда личность художника самоопределялась, а творчество приобретало индивидуальную специфику; и последних лет, когда больной Врубель среди предметов и людей, которых он рисовал в изобилии, достигая необычайной глубины и силы воплощения натуры, выделял свое лицо. В последние годы (1904-1906), когда художник еще мог рисовать, только портрет Брюсова способен конкурировать по степени законченности и программности с серией врубелевских автопортретов. Им он, видимо, придавал большое значение: ими он как бы подводил итоги.
Если задать вопрос, как смотрит Врубель с этих автопортретов, мы сказали бы следующее. Сначала кажется, что художник смотрит на себя в зеркало, несколько рисуясь, представляясь зрителю, о чем позволяют думать и всегда аккуратный костюм, артистическая внешность и повадки гения. Но подобное впечатление сохраняется лишь до тех пор, пока мы не перешагнули порог того недоверия, которое больной художник выражает окружающему миру. За этим порогом нам раскрывается чрезвычайно сложная гамма чувств, которую можно было бы квалифицировать как предельную для человека – так напряжен он духовно у последней черты сознания. Описать словами столь сложную гамму мне представляется невозможным. В конечном счете Врубель смотрит не на себя, а из себя в мир. Он миру задает вопросы, оставаясь с ним один на один. В этих автопортретах Врубель реализует последние возможности своего сознательного существования; потому они и дают пример наиболее последовательного в русском искусстве экзистенциального творчества.
Между тем последнее необязательно находит выражение и автопортрете. В этом отношении интересна фигура Александра Иванова. Его тоже можно назвать экзистенциальным художником. Об этом свидетельствует его работа над картиной, в которой он реализует свое бытие, не думая о ее завершении, фатально кончая жизнь именно тогда, когда картина предстала перед судом широкой публики и перестала быть субъектом личной жизни мастера, каким была прежде, хотя и последние годы художник почти не работал над ней. О том, ч то Иванов живет в искусстве, а не творит искусство, говорит и его пейзажное творчество: он невольно открывает небывалые глубины в пейзаже, видя в своих опытах лишь этюды – или, вернее, следы своего пребывания в творчестве, а не законченные шедевры, какими они стали в истории искусства.
Но Иванов почти не пишет автопортреты. Те немногие, которые существуют, – непрограммны, случайны, концепции не составляют. Дело в том, что выше было названо «объективным экзистенциализмом». Всем ходом своего творчества Иванов постигает некие объективные идеи, находящиеся во вне, но освоенные им. Иванов отступает перед лицом высшего начала, в котором растворяет себя, и это не мешает ему быть художником процесса, а не результата.
4.
Здесь мы подходим к еще одному важному вопросу, который не может не заинтересовать того, кто изучает автопортрет: соотношение с другими жанрами – прежде всего с жанровой и исторической картиной.
Автопортрет в картине – обычное явление искусства со времен Средневековья и Ренессанса. Художник часто представлял себя в виде донатора, свидетеля того или иного события. Традиция эта хотя и модифицировалась в течение последующего времени, тем не менее сохранилась. В русском искусстве XIX века мы часто сталкиваемся с фактами включения автопортрета в картину. Но прежде чем перейти к примерам, хотелось бы начать с другого.
Еще в первой половине XIX века автопортрет проходит через стадию шаржа. Орловский, Гагарин и особенно Федотов дают пример подобной тенденции. Федотов – тоже экзистенциальный художник, но в отличие от Иванова – с ярко выраженным автопортретным устремлением. Его автошаржи, которые могли бы служить забавной репликой в адрес современного им семейного портрета Ф. Толстого, иронически комментируют тоску самого художника по семейной жизни, неоднократно выраженную им словесно. Автошарж демонстрирует значительную «продвинутость» проблемы автопортрета: надо до конца осознать себя, чтобы подвергнуть осознание воздействию иронии.
Для Федотова такой путь облегчен тем, что его творчество в сущности автопортретно. В серии сепий он не раз изображал себя. В поздние годы он не только уподобляет личную ситуацию ситуации своих героев («Анкор, еще анкор»), но и ставит себя в положение центрального персонажа (в картине «Игроки»).
В малом, повседневном явлении художник может стать центром. Пропущенное через сознание и самочувствие, через состояние психики, через пример собственной личности, это малое возрастает до размеров всеобщего. Именно автопортретность поднимает образ до уровня символического обобщения. У Иванова, как, впрочем, и у Брюллова в «Гибели Помпеи», создалась обратная ситуация. И тот и другой оказались перед лицом великого исторического события: в одном случае – трагического, разрушительного; в другом – жизнеутверждающего, вселяющего веру. Они оказались свидетелями. В «Явлении Мессии» Иванов занял свое место на последнем плане. Он подчинен воле людской массы, пребывающей в ожидании, – здесь он не инициатор, а последователь п пользуется счастливым случаем.
Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые, —
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир.
Пир истории происходит на глазах художника. О высшей роли он и не смел мечтать.
Пройдет несколько лет, и последователь Иванова Ге в «Тайной вечере» представляет себя уже не свидетелем, а участником (апостол Петр). Он сам выступает как исторический персонаж, отстаивающий истину. Усиливая психологический накал картины, автопортрет, включенный в важнейший эпизод евангельской истории, вместе с тем снижает его объективный смысл. Ге и в дальнейшем подчиняет евангельский сюжет собственному душевному порыву, тем самым приземляя собьггие, но, с другой стороны, все более накаляя его своей душевной энергией. Поздний автопортрет Ге (из Киевского музея) по существу равнозначен образам его поздних евангельских картин. Пусть изображения самого художника нет ни в «Христе и Никодиме», ни в «Суде Синедриона», ни в «Голгофе», ни в «Распятиях». Его автопортрет – из того же мира. Он становится репликой к евангельскому циклу. Он показывает, что за человек, что за страсть, что за дух могли породить эти образы, эту идею сострадания человеческой трагедии, выраженной евангельским примером. Здесь Ге подходит к экспрессионизму, который дал примеры аналогичного отношения к евангельской теме.
Интересно сопоставить Ге с его соседом по истории русской живописи – Крамским. Образ Христа у Крамского и его автопортрет противостоят друг другу как объект и субъект. Между тем в образе Христа мог бы оказаться сам художник, истолковавший его как знак борьбы между искушением и совестью – борьбы, которая затрагивала тогда каждого честного русского интеллигента. Однако евангельский образ и автопортрет не отождествлялись. Не только потому, что художник не представил в картине себя. Но и потому, что не отождествлял свои чувства с чувствами своего героя. Крамской оставался таким, каким он предстал в автопортрете. Он смотрит на мир не с вопросом, не с недоумением, а с требованием. За его взглядом – программа действий, а в самом взгляде – анализ и суд.
Своим примером Крамской и Ге утверждают противостояние двух типов художников, хотя история стянула их в один общий узел. Распутывать такие узлы в истории русского искусства помогает нам автопортрет. Он становится не только объектом изучения, но и инструментом исследования.
1976 г
Мир глазами Венецианова
В истории искусства есть художники, чьи имена постепенно приобретают все больший и больший вес, выдвигаясь на первый план. Именно так происходит с А.Г. Венециановым. Сама его творческая судьба – судьба незаметного, тихого человека, не рвавшегося к славе, хотя и озабоченного непризнанием, была свидетельством постоянства, привязанности к привычному. Еще при жизни за художником закрепилось довольно скромное место в ряду оценок того времени. Звание «отца русского жанра» не сулило больших преимуществ. А по прошествии десятилетий ему было отказано и в этом: роль Венецианова – например, в глазах В.В. Стасова – совсем поблекла. Когда же на рубеже столетий «мирискусники», и прежде всего А.Н. Бенуа, вновь открыли Венецианова, началось медленное, но последовательное восхождение художника к вершинам славы. Одним из его свидетельств был тот факт, что в 1976 году в предисловии к выставке «Русская живопись эпохи романтизма», состоявшейся в Париже, французский историк искусства Мишель Лаклот, говоря о картине «Лето», сопоставил Венецианова с Пьеро делла Франческа и братьями Ленен[80]80
См.: Laclotte Michel. Avant-propose. – La peinture russe a Pepoque romantique. Galeries Nationales du Grand Palais. 1976-1977. P. 8.
[Закрыть]. Такое сопоставление прозвучало бы, вероятно, нескромно, будь оно высказано русским историком искусства. В данном же случае явилось выражением удивления знатока европейской живописной культуры – как и многие другие на Западе, не очень близко знакомого с русской живописью, – одним из его чудес. Это удивление подобно тому, какое испытали западные историки искусства несколько десятилетий назад, впервые узнав во всем блеске древнерусскую живопись, и в частности Андрея Рублева.
Между «открытием» Бенуа и «открытием» Лаклота прошла целая эпоха, в течение которой творчество Венецианова тщательно разрабатывалось историками искусства[81]81
Важную роль в изучении венециановского наследия сыграли: в 1910-е годы – Н.Н. Врангель, в 20-30-е – А.М. Эфрос и А.П. Мюллер, в послевоенные годы – Т.В. Алексеева, М.В. Алпатов, Н.Н. Коваленская, Н.Г. Машковцев, А.Н. Савинов, Г.В. Смирнов и другие.
[Закрыть]. Но пройдет еще немало лет, прежде чем Венецианов получит свое место в истории мировой живописи.
Имя Рублева в венециановском контексте названо не случайно. Мы далеки от сравнения мастеров друг с другом. Венецианов не знал своего великого предшественника. Но случилось так, что оба они стали выразителями национальных качеств в русском искусстве, носителями неких постоянных черт, присущих русскому художественному мышлению и видению, представлению о мире и опыту бытия в этом мире. Разумеется, здесь мы найдем далеко не все «пластические формулы» национальных качеств, но лишь некоторые из них. Не все способы движения по пространству, отведенному художественному развитию, но ряд важных для определения общих закономерностей. В то же время не все традиции, закрепленные Венециановым, оживают в дальнейшем движении русского искусства. Но те, что реализуются осознанно или интуитивно русскими мастерами во второй половине XIX и XX столетии, кажутся нам существенными для национального художественного самосознания.
Оставим в стороне древнерусское искусство, дабы не допускать сопоставлений, которые сегодня покажутся еще натяжками, и обратимся к рассмотрению творчества Венецианова в том аспекте, который намечен выше.
Венецианов «дожидался» своего времени. Он словно родился раньше предназначенного срока и стал самим собой уже в зрелом, сорокалетнем возрасте. В годы «ожидания» он пережил вспышку интереса к романтическому портрету, увлечение карикатурой, в котором иногда стараются предугадать будущее художника, считая, что здесь Венецианов впервые столкнулся с реальной действительностью, и даже успел попробовать свои силы в несвойственном его таланту историческом жанре. И всюду он был далек от своего естества. Романтическое самовозбуждение было чуждо его характеру. Карикатура удаляла от поэтического созерцания, а не приближала к жизни. Исторический жанр, хоть и продолжал в дальнейшем интриговать мастера, остался чужд Венецианову. Он был рожден для бытового жанра, а последний ждал своего часа. Жанр не мог утвердиться в патриархальной России XVIII века – тогда она еще не созрела для того, чтобы преодолеть условность житейского церемониала и непредвзято ммглянуть на окружающий мир, постичь его простые проявления. И только в 20-е годы XIX столетия, пройдя через страдания большой войны и уже остудив пыл великой победы, Россия открыла своей культуре путь к повседневному бытию.
Сама позиция ожидания своего часа, в которой оказался Венецианов, была типична для русского живописца XIX века. Как ни в одной другой художественной школе, в русской действовал закон поколений, «отводивший» каждому явлению определенное время в истории и жестоко прерывавший его тогда, когда потребность в нем исчезала. Этот закон был рожден тем синтетическим складом русской культуры, который не допускал изолированного существования живописи или литературы друг от друга, от реальной жизни людей, от духовного самосознания нации. В России в большей мере, чем и других странах, сохранялась общность разных видов духовной деятельности человека, объединенных вокруг главных задач жизни. Синтетическая форма бытия «управляла» живописью так же, как она управляла любой сферой человеческого сознания. Это она породила творчество Рублева после Куликовской битвы, гений Пушкина – в эпоху культурного самоопределения России, трагедию Гоголя – в период ее духовного смятения и т.д. Венецианова трудно поставить в ряд «самых великих». Но его открытие простого мира предопределено той же волей всеобщего духовного бытия.
Момент становления и первоначального развития бытового жанра в русской живописи совпал с тем общеевропейским движением, которое, родившись в Германии, получило наименование бидермейера (в западноевропейской литературе его называют теперь ранним реализмом) и распространилось в северных странах Европы, в меньшей мере – во Франции и Англии. Но «русский бидермейер» – в лице Тропипина, Венецианова, его учеников – не мог получить «чистого» выражения. Он не существовал в художественной среде самостоятельно, а наслаивался на современные течения – классицизм и романтизм. И здесь Венецианов оказался в типично российской ситуации. Русская культура из-за неравномерности своего движения, из-за прыжков и остановок, которые она делала, нередко должна была совмещать прошлое и будущее. Еще Рублев и Дионисий в пределах средневекового художественного мышления как бы предчувствовали Ренессанс; русское барокко в архитектуре XVIII века соединялось с рококо. Венецианов же подкреплял свои новые реалистические искания классицистическими приемами.
Особенности развития не определяют в полной мере художественные факторы самого искусства, но оказывают на них некоторое влияние. В творчестве каждого мастера индивидуальные особенности реализуются в формах, принятых временем стиля и направления. Именно так обстоит дело с Венециановым, опыт которого как бы зафиксировал сложные переплетения на русской почве классицизма, романтизма и раннего реализма, а также проложил основную линию сложения бытового жанра. Как это часто было в истории русского искусства XIX века, Венецианов словно воспользовался неантагонистическим соседством разных направлений: классическое представление об устройстве бытия он соединил с непредвзятым постижением красоты реальной жизни.
С этой общей закономерностью художественного движения в полной гармонии оказывалась натура Венецианова, стремившегося в самой жизни отыскивать закон человеческого бытия. Он погружался в обиход своей деревенской планеты. Но чем глубже «застревал» в быте, тем более стремился в простом прозреть общую закономерность – круговорот природы, извечную соединенность с этой природой человека.
В свое время я уже имел случай назвать ранний русский жанр, сформировавшийся усилиями Венецианова и его учеников, «компонентным»[82]82
Сарабъянов Д.В. П.А. Федотов и русская художественная культура 40-х годов XIX века. М., 1973.
[Закрыть]. Но тогда речь шла не о синтезе стилевых направлений, а о соединении в бытовом жанре, в процессе его возникновения, различных элементов жанров соседних. Можно, однако, сказать, что и первое, и второе составляют признак синкретизма, проявляющийся в разных вариантах и характерный для многих этапов то замедленного, то ускоренного движения русской культуры. В этом синкретическом единстве более устойчивыми становились национально-традиционные связи, действовавшие «помимо воли» художника, подчас соединяя далекое прошлое и настоящее и находя возможность собственной силой, «собственной памятью» пробивать путь сквозь разные течения.
Как ни покажется абстрактным, рискну предположить, что со времен русской иконописи в искусстве не было подобного Венецианову случая столь ярко выраженного созерцательно-поэтического осмысления жизни. Гармония художественного образа добывается не «улучшением» реальности, к которой прибегали классицисты. Не трудным движением через конфликт, которым шел Александр Иванов. Не достижением катарсиса, разрешающего трагедию, как это часто бывало у романтиков. А прямым созерцанием истины и красоты и постижением через созерцание некоторых законов человеческого и природного бытия.
Действительно, когда сопоставляешь творчество Венецианова с искусством других мастеров XIX века, кажется, что он, впервые обращаясь к повседневности, прозревает в ней всеобщие законы жизни. Повседневность в представлении Венециа нова организована: она приобретает несколько идеальные черты; ее явления сгруппированы в определенные устойчивые общности. Живописец останавливает свое внимание на самом – с его точки зрения – главном: природа в первичных ее проявлениях – земли и неба; животные и люди, обрабатывающие землю; растения и камни, покрывающие ее поверхность; облака, «населяющие» небо; мать и дитя, воплощающие в своем единстве идею продолжения рода человеческого; наконец, человеческое жилище – все это и есть основные «предметы для художника». Мир, данный созерцанию Венецианова, превращается в его представлении в малый прообраз вселенной, а человек – в выразителя человеческого рода. Он находит в этом мире все, что ему нужно для того, чтобы представить сущность жизни.
Все особенности искусства Венецианова коренятся в этой его позиции. Сюжеты и мотивы, которые он разрабатывает, персонажи, их поведение, характер композиции, трактовка света и цвета – все зависит от исходного восприятия. Они не придумываются Венециановым – художник выбирает их из того, что представляет ему жизнь. В процессе работы он вновь воссоздает их в натуре, разыгрывая сцену (когда это возможно), расставляя на соответствующие места своих героев. В «Гумне» – первой программной работе Венецианова – эта «игра» актеров-натурщиков особенно заметна; позже она оказывается скрытой для глаз зрителя – живописец добивается более естественной интерпретации натуры. Сам метод, которым он пользуется, напоминает академический: вспомним, как в академических мастерских профессора сажали перед собой или перед своими учениками натурщиков в соответствующих позах и одежде, чтобы те изображали плачущего в пустыне Иеремию или купца Иголкина. Венециановский принцип, однако, отличается от академического тем, что натурщики играют самих себя[83]83
Лишь в поздних вещах, таких как «Вакханка» или «Туалет Дианы», натурщицы играют чужие роли. В этих случаях перед зрителем оказываются не сами вакханки или Дианы, а именно натурщицы, их изображающие. Художник, таким образом, остается верен себе.
[Закрыть]. В этом – залог той органичности, которой достигает художник в своих крестьянских жанрах.
Мотивы Венецианова просты. Обратим внимание на то, что делают его герои. Они работают, отдыхают, спят (в более поздней жанровой живописи – например, в картинах передвижников – мы почти не найдем спящих людей), матери кормят грудных детей, девушки – домашних животных, дети играют, некоторые персонажи позируют. Сюжеты не содержат внутри себя конфликтов; они не ориентированы на развитие во времени. Иногда Венецианов словно намекает на возможность такого развития. В картине «На жатве. Лето» возле матери, кормящей на помосте грудью своего ребенка, стоят дети, возможно, принесшие младенца и дожидающиеся момента, когда его можно будет взять обратно. Но само действие не занимает художника. Для главного мотива могло бы и не быть сюжетного оправдания. Венецианова интересует не развитие, а нечто уже отстоявшееся, получившее завершенное целостное воплощение. Он мыслит как бы готовыми, неизменными явлениями. В работе «На пашне. Весна» женщина, ведущая под уздцы лошадей, воспринимается как своеобразная пластическая формула. Легко шагающая босыми ногами по вспаханной земле, она лишь на мгновение обратилась к младенцу, сидящему неподалеку, на краю поля. Этот эпизод не отвлекает и не разрушает создавшегося образа. Подобных решений много в творчестве Венецианова: крестьянка с серпом, косой или граблями; подросток с топором; женщина с ребенком на руках или кормящая грудью и т.д. В русском искусстве 20-40-х годов XIX века – особенно благодаря усилиям Венецианова и его учеников – сложилось множество таких формул-мотивов: крестьянка с коромыслом на плече; девочка или мальчик с кошкой; мальчик, удящий рыбу; плотник, стругающий рубанком доску.
В подобном подходе нет ничего необычного. В голландской и фламандской жанровой живописи XVII века мы также находим устойчивые сюжетные общности: дворики, сцены игры или драки в кабачке, музицирование, приходы врача. Но если там сюжетные образования, подчас только недавно вышедшие из каких-то мифологических или аллегорических источников, тяготеют к разнообразию внутри каждого образца, то у Венецианова и его учеников они, наоборот, стремятся как бы сконцентрироваться на своей сущности.
К этой же определенности тяготеют и жесты персонажей. Они достаточно демонстративны и наглядны. Венецианов любит закреплять повороты и наклоны голов. Ноги его героев расположены так, чтобы человеку было удобно сидеть, стоять или идти. Когда вглядываешься в венециановские фигуры, то понимаешь, что художник придает этим моментам большое значение. Разумеется, у всех грамотных рисовальщиков люди «умеют» сидеть или стоять – в данном случае речь не об этом. Венецианов с большим вниманием относится к сгибу и развороту ноги – то одну ногу подвернет под другую, то, напротив, положит ногу на ногу, – и всегда этот пластический мотив особо выявлен.
Движения рук у персонажей Венецианова целесообразны и функциональны. Руки держат уздечки лошадей, несут кринку, сжимают серп или топор, протягивают краюху хлеба или демонстрируют собранные грибы. Лишь в первой композиции на крестьянский сюжет – в «Очищении свеклы» – Венецианов не знал, что делать с руками, разместив их близко друг к другу, в суетливой дисгармонии, на небольшом участке картинной поверхности. Но созерцательная позиция Венецианова не терпит суеты, тем более если сюжет развивается неспешно. Даже в «Спящем пастушке», где движение рук не предусмотрено сюжетом, художник развернул левую руку в вопрошающем жесте, словно испугавшись ее случайного, бессмысленного существования.
Все эти принципы и приемы свидетельствуют о том, что Венецианов никогда не рисовал просто с натуры, не возводил непосредственную зарисовку в ранг готового образа. Достаточно сравнить зрелые жанровые полотна с ранними рисунками конца 800-х годов или с некоторыми вариантами композиции «Натурный класс», чтобы убедиться в большой разнице между ними. В рисунках художник спокойно фиксирует бытовые сцены, застигая людей в случайных позах и поворотах. Потому в этих произведениях так мало подлинно ве-нециановского. Если поставить их рядом с рисунками других мастеров того же времени, они затеряются, не выявив своего лица. Когда Венецианов провозгласил принцип писания картин a la Натура, когда в качестве образца вроде бы избрал «Внутренний вид капуцинского монастыря в Риме» Ф. Гране, он совершенно по-своему истолковал принцип натурности и сильно отступил от приемов французского мастера. Если у Гране доминирует пространство, увлекающее зрителя в глубину интерьера, а фигуры подчинены этому пространственному движению, то у Венецианова в основе композиционного построения чаще лежит изображение человека: пространство организуется вокруг людей, или, во всяком случае, между пространством – с одной стороны, и фигурой или предметом – с другой, намечается некое равновесие. Лишь в картине «Гумно» это равновесие едва нарушается в пользу пространства.
Иногда широкий пространственный разворот мы встречаем и в более зрелых работах. «На жатве. Лето» построено так, что перспективные линии – тени от сарая и выступ неубранной ржи – направляют взгляд зрителя в глубину. Но движение вскоре же растекается и идет не столько вглубь, сколько вширь; оно тяготеет к горизонтали, несмотря на вертикальный формат холста. Горизонталь помоста, на котором сидит женщина, первая начинает это движение. Вслед за ней параллельные линии идут как бы волнами, то сгущаясь, то разряжаясь, и в конце концов подводят к линии, соединяющей землю с небом. Горизонталь в этих «волнах» приобретает наглядность, становясь мотивом, характеризующим особенность русской природы и своеобразие русского визуального восприятия.
Здесь мы касаемся одной из наиболее важных проблем венециановского творчества. Художник первым открыл русскую природу – и прежде всего землю и небо – в естественном бытии и сразу познал в ней едва ли не самые существенные стороны. Во многих картинах – «На пашне. Весна», «Спящий пастушок», «Крестьянские дети в поле», «Сенокос» – Венецианов тщательно разрабатывает передний план, выписывая взрыхленную землю, травы, камни, листья. Зритель ощущает почву под травяным покровом. И тут же земля словно раздвигается до бесконечности, выходя за пределы картинного поля, не будучи ограничена по сторонам кулисами. Бесконечность земли, бесконечность пространства, возвышающегося над ней, художник постигает не как некую философскую категорию (так делал его младший современник Александр Иванов), а как реальную данность и к тому же – как место бытия человека, место приложения его сил. Земля – дом для человека. И вместе с тем этот дом «хочет быть» всей вселенной. У Венецианова такие крайности не просто сочетаются – они соединяются, дополняя друг друга.
Венецианов не писал специально пейзажи. Он не мыслил природу отдельно от человека. Образы природы, создаваемые им, нельзя назвать лирическими. Красота природы в его представлении – онтологична; она не зависит от того, как воспринимает ее человек. Она – есть. Ее надо раскрыть, познать. Нет необходимости ее одухотворять – она одухотворена с самого начала своего существования; каждая травинка, каждая ветка дерева или куст обладают этой одухотворенностью. Нет необходимости соизмерять природу с состоянием человека, искать в ней отклика человеческому настроению. Здесь мы вновь касаемся того принципа, о котором шла речь: художник прежде всего познает закон бытия.
Венецианов выбирает природу в том ее качестве, которое само по себе образцово и наиболее прямо выражает ее красоту. Художник не ищет сложных переходов. Он любит лето, день, солнце, ясное небо с небольшими неказистыми облаками. Его не интересуют закаты, ветры, бури, переходы от одного состояния в другое. Он любит, когда природа молчит. Почти все картины Венецианова молчаливы. Но иногда это поистине космическое молчание – как, например, в «Спящем пастушке» или «Лете». Не то затянувшееся молчание, какое будут культивировать Врубель и другие художники рубежа XX столетия. У Венецианова природа молчит всегда – в тишине лучше выявляется ее красота. Ведь в ней не должно быть ничего случайного – она должна предстать перед нами в своих лучших качествах. Природа трактуется так же, как и человек, – в какой-то мере канонично.
С проблемой взаимоотношения человека с природой связан венециановский интерьер. С интерьеров художник начал свою работу a la Натура. «Гумно», «Утро помещицы», «Деревенское утро. Семейство за чаем» (сохранившееся лишь в литографированной копии), написанные в начале 20-х годов, во многом сосредоточены на этой проблеме и открывают перспективу для развития столь популярного в 20-40-е годы жанра. Именно вслед за этими работами появляются замечательные интерьеры венециановских учеников – Е.Ф. Крендовского, К.А. Зеленцова, А.В. Тыранова, Г.В. Сороки или никак не связанного с Венециановым Ф.П. Толстого. Венецианов преобразил этот жанр, вернее, утвердил его как жанр, придав интерьерным изображениям совершенно иной смысл сравнительно с тем, какой они имели в искусстве XVIII или самого начала XIX столетия. Тогда интерьер чаще всего носил характер архитектурной композиции. Дворцовые залы, картинные галереи, парадные лестницы, огромные помещения больших соборов всегда были торжественно «одеты»; они не походили на жилища, не истолковывались художниками как место постоянного бытия человека. Венецианов вдохнул в интерьер идею частной жизни, он демократизировал сам жанр, приблизил его к повседневности, к простым человеческим меркам и масштабам. Но при этом не уронил его высокого смысла, ибо в те годы особое содержание приобретала идея домашнего очага, «родных пенатов»[84]84
Алексеева Т.В. А.Г. Венецианов и развитие бытового жанра. – История русского искусства. Т. VIII. Кн. 1. М., 1963. С. 572-576.
[Закрыть].
«Утро помещицы» наиболее последовательно представляет интерьерный жанр Венецианова. Он достигает здесь полного единства человеческого, природного и предметного. Вспомним, как отзывался об этой картине А.Н. Бенуа:
Венецианов справился с задачей выразить в прозрачных спокойных тонах трудный эффект серого нежного света, тихо льющегося через единственное окно в глубине комнаты. Мастерство, с которым написал весь правый угол комнаты: стена в тени, гипсы на комоде – заслуживает самого безотносительного удивления. Сделано это без всяких показных фокусов... [85]85
Цит. по кн.: Логвинская Э.Я. Интерьер в русской живописи первой половины XIX века. М., 1978, С. 42.
[Закрыть]
К столь лаконичной характеристике мастерства Венецианова, данной Бенуа еще в 1907 году, трудно прибавить что-нибудь существенное. Но мы в данном случае оставляем в стороне удивительное и простое совершенство передачи света, льющегося в комнату и озаряющего поверхности предметов и фигур, повернутые к окну, украдкой проникающего в затененные места и серебрящего полутени, высветляющего полированную поверхность стола. Для нас важнее отметить, что передает Венецианов с помощью мастерства (разумеется, как и мотив или сюжет, оно является выразителем позиции художника). Отражения, блики света, как и часто использованное учениками Венецианова изображение в зеркале, не рождают ощущения мимолетности, балансирования между реальным и нереальным. У Венецианова все принадлежит реальному миру, наполненному постоянной, устойчивой красотой. Свет сам по себе обладает неизменными качествами. Он всегда присутствует в картинах, разливаясь по ржаному полю в «Лете», поднимаясь в поднебесье в «Весне», наполняя желтеющей зеленью каждую травинку в «Спящем пастушке». В «Гумне» и «Утре помещицы», где художник еще соревновался с Гране, свету отведена особая роль. Но Венецианов не хотел или не мог форсировать его до такой степени, которая разрушила бы единство всех составных частей мира. Свет для живописца – одна из естественных стихий: он не преображает мир, а вместе с другими стихиями выражает его. Свет постоянен, непрерывен. В своей простейшей сути он противоположен тьме, которая в общем-то никогда не является для Венецианова предметом изображения. Ни тьмы, ни сумерек не знает его кисть, а свет воспроизводит, как животворное начало.








