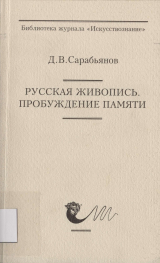
Текст книги "Русская живопись. Пробуждение памяти"
Автор книги: Дмитрий Сарабьянов
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц)
Интересные варианты решения нашей проблемы дают едва ли не самые последовательные русские символисты – Виктор Борисов-Мусатов и Кузьма Петров-Водкин. У Мусатова (а вслед за ним у его голуборозовских почитателей – и прежде всего у Павла Кузнецова) говорящая материя, сопоставимая с живописной материей Врубеля, хотя и выражающая иное состояние души, другую мечту, изъясняется по-другому по сравнению с тем, как она говорит у Александра Иванова. Онтологичность уступает место экзистенциальному началу, в субъект-объектной образности превалирует субъективное.
Петров-Водкин в своих фигурных композициях приближается к тому принципу гипертрофии поверхности, который так характерен для стиля модерн. Но внутренняя бесплотность соревнуется со своим двойником-антагонистом – одухотворенной плотью. Петров-Водкин, как завороженный, застывает в ситуации этого раздвоения. Ибо нельзя сказать, что в одних случаях он уступает неоакадемизму, а в других добивается подчинения плоти духу, – в своей двойственности он достаточно постоянен.
Новые перестановки акцентов были произведены в искусстве русского авангарда. Материя в нем повела себя многосложно и своевольно. В иных случаях она выступала в виде необработанного материала, казалось бы, чужеродного, не имеющего отношения к самой идее живописи. В иных – исчезала, либо являлась из ничего как знак и наследник этого ничто.
Последний вариант, естественно, представляют Казимир Малевич и его прямые последователи. Вряд ли мы ошибемся, если скажем, что в 1916 году в брошюре «Тайные пороки академиков» Иван Клюн прежде всего имел в виду открытие супрематизма, когда писал: «...перед нами встала во всем своем величии грандиозная задача создания формы из Ничего»[39]39
Крученых А., Клюн И., Малевич К. Тайные пороки академиков. М., 1916. С. 29.
[Закрыть]. Не буду касаться богоборческого характера этого искомого художником теургического акта. В данном случае меня интересует другое. Идея творения формы из Ничего явилась оборотной стороной утверждения беспредметности, которая упразднила вещь, а вместе с ней и ту материю, которая эту вещь составляет. На смену ей пришла некая иноматерия, материя другого – супрематического мира. Она сродни абсолютному ничто, хотя – по идее художника – и составляет основу всего. Иное место бытия, иной состав мира, иная материя – все это неотделимые друг от друга основы космогонической утопии Малевича.
Когда выше шла речь о том, что материя выступала часто в облике необработанного материала, имелось в виду новое качество фактуры картины. Песок или гипс, который покрывал холст или подкладывался под красочный слой, вставленные в композицию металлические или деревянные детали не должны были изображать что-то или вызывать ассоциации, не являли собой некий род иносказания. Они могли входить в программу эпатажа. Но скорее всего они присутствовали в картине как свободная материя, доступная «зрительному осязанию».
Так или иначе материя оказывалась в сфере интересов большинства художников авангардного направления. Василий Кандинский, кого когда-то поразило произведенное учеными «разложение атома»[40]40
Кандинский В.В. Ступени. Текст художника. М., 1918. С. 20.
[Закрыть], как бы равноценное исчезновению материи, поиск беспредметности мыслил как долгожданный выход из затянувшегося плена материализма в сферу духовности. У Павла Филонова материя маялась, переполняя тварный и предметный мир и внося своей избыточностью и хаотичностью трагическую окраску в общую картину бытия.
Как видим, в русском авангарде материя оставалась в центре внимания художника, тогда как предмет в конце концов исчезал. Этот поворот был характерен для всего западного искусства новой эпохи. Но русский авангард овладел беспредметностью особенно быстро и решительно. Возможно, свою роль сыграли – помимо воли художников – некоторые давнишние и глубинные традиции и та ситуация, которая сложилась во взаимоотношениях предмета и материи в предшествующие столетия.
Тело в пространстве
С первого взгляда эта проблема может показаться надуманной. Если нет сомнения в том, что вообще для изобразительного искусства она безусловна, то колебания возникают тогда, когда мы переносим ее на русскую почву. Действительно, русские художники редко проявляли специальный интерес к человеческому телу, редко писали обнаженную натуру. Лишь в некоторых случаях бытие тела в пространстве, его взаимоотношения с окружающей средой оказывались специальной проблемой для русского живописца. И тем не менее в намечаемом мною анализе-обзоре имеется смысл. Во-первых, и негативные ответы могут стать элементом красноречивой характеристики русской живописи. Во-вторых, перечисленными аспектами проблема не ограничивается. Она может быть перенесена в плоскость художественного восприятия мира, в процессе которого (восприятия) человеческое тело (а не только его часть – глаза) становится необходимым орудием творчества. М. Мерло-Понти писал:
Подобный подход приложим к искусству вообще, включая и те его национальные варианты, где, казалось бы, тело как предмет изображения не получает полновесного художественного воплощения. Образцовый пример такого подхода мы находим в книге Валерия Подороги «Феноменология тела», в которой виртуозный анализ творчества Пауля Клее автор развернул в аспекте телесного опыта[42]42
Подорога В. Феноменология тела. М., 1995.
[Закрыть]. Русская школа и здесь не дает каких-либо преимуществ. И тем не менее новый аспект рассмотрения русской живописи и обращение к еще не тронутому исследованием полю его реализации может дать некоторые результаты.
Начну с того, что положение реального человеческого тела как объекта изображения на протяжении многих веков развития русской живописи оказывается весьма переменчивым. В иконописи принципы его изображения продиктованы совершенно особым толкованием тела Христа как тела, по выражению о. Сергия Булгакова, абсолютного, лишь образом и отражением которого становится человеческая плоть, отступающая от абсолюта и подвергающая его деформации.
«...всякое совершенство, – пишет о. Сергий Булгаков, имея в виду тело Христа, – трудноизобразимо для человеческого искусства, которое располагает лишь относительными средствами, так сказать, светотени и для передачи индивидуальной формы пользуется деформацией. Ибо индивидуальность в нашем грешном мире непременно есть и деформация, относительность, некоторое уродство, дефективность в одном отношении и чрезмерность в другом, диссонанс, ждущий разрешения. С помощью гармонии диссонансов индивидуальное тело только и становится изобразимо. Но тело Спасителя в этом смысле не индивидуально, потому что оно вce-индивидуально или сверхиндивидуально или абсолютно-индивидуально. В Его свете нет теней, в Его гармонии нет диссонансов, в Его типе нет деформации, а потому обычные изобразительные средства искусства здесь изнемогают»[43]43
Протоиерей Сергий Булгаков. Икона и иконопочитание. Догматический очерк. М., 1996. С. 88.
[Закрыть].
Но в том-то и дело, что иконопись пользовалась не обычными средствами. Одухотворенная плоть Христа, Богоматери, святых вышла из-под кисти иконописца преображенной, лишенной грубой материальности, как бы дематериализованной. Этой задаче дематериализации подчинены все средства иконописца – цвет, линия, ритм, последовательное живописное движение от темного к светлому, характер драпировок, трактовка одежды, «которая как рупор направляет и усиливает слова свидетельства, произносимые о своей идее – телом»[44]44
Флоренский П.А. Иконостас. М., 1995. С. 112.
[Закрыть].
Эта «позиция тела», утвержденная иконописью, не могла удержаться в условиях перехода к светской живописи, несмотря на то что реальная человеческая плоть сохраняла отзвук идеального тела Христа, а сквозь «личину греха» (о. Сергий Булгаков) конкретного человека продолжал просвечивать божественный лик. Живопись начинала с азов познавать реальное человеческое тело, старалась придать ему устойчивую позицию в пространстве. Эта новая задача давалась русскому художнику с трудом, что вполне понятно, ибо живопись вообще еще только приступила к освоению мира в его естественном бытии и внешнем проявлении. Те перемены, которые за два века до того происходили в Италии, а немного позже – на Севере Европы, неминуемо должны были произойти и в России – но иными темпами, в ином ритме, с типичной для России поспешностью после длительного полусонного состояния, в сопровождении стремительных рывков, неожиданных взлетов и катастрофических падений. Проблеме человек в пространстве отводилась в этих условиях дополнительная роль. Сотворенный по образу и подобию Божию, сохраняющий в своей плоти отблеск божественной одухотворенности, но пребывающий после грехопадения в ситуации искаженного земного бытия, человек искал твердую позицию в этом мире, преодолевая свою двойственность и как бы памятуя о своем высоком происхождении. Внешний мир, еще не освоенный новым человеческим сознанием, но уже открывшийся перед художником, а вслед за ним и перед героем, предназначение которого – жить и действовать в этом мире, не спешил пускать его в свои пределы. Весь XVIII век «ушел» на то, чтобы совершить это вхождение. Его процесс был труден и не скор.
В погрудном портрете, численно превалирующем на территории портретного жанра, голова и верхняя часть корпуса, как правило, выступают из темноты, равнозначной пространственной неопределенности. Портрет в рост, естественно, требует интерьера, которому тоже нелегко утвердить себя в условной, но жаждущей реальности живописной среде. Поначалу он чаще всего воссоздается фрагментарно, не обладает глубиной, воспринимается благодаря наличию лишь какой-то своей части и с трудом завоевывает свой объем. Тем не менее в нем (интерьере) фигура должна удержаться, обрести свое место. На примере известного портрета Петра III работы А.П. Антропова (1762) можно понять все трудности этого процесса. Фигура императора, странным образом обретшая чуть ли не танцевальную позу, шатается, теряет устойчивость. Как бы вслед за ней шатается интерьер, казалось бы, продуманно и намеренно загруженный разными внушительными предметами (корона, скипетр, мантия, колонна, пышные драпировки и т.д.), но не обретший равновесия.
Те противоречия, которые так наглядно проявились в портретном искусстве первой половины и середины XVIII столетия, к концу века стали сглаживаться. Их блестяще преодолел Д. Левицкий, придавший полную определенность и гармоничность взаимоотношениям фигуры и пространства, ее окружающего. Его модели стоят уверенно и твердо в завоеванном центре композиции, а предметы вокруг них вместе с элементами архитектуры организуют интерьер. Часто он параден, изобилует деталями дворцовой обстановки, подчинен принципам классицистического пропорционирования и не рассчитан на интимные контакты человека и всей окружающей среды. Эти контакты достигаются в жанровых произведениях XVIII века – в «Юном живописце» И. Фирсова (1760-е), в двух картинах М. Шибанова. Но они лишь обозначают ту проблему жизни человека в обыденном интерьере, которая достигнет высшей точки в «русском бидермейере» 1820-1840 годов. Историческая картина второй половины XVIII века не дала серьезных результатов. В тех редких случаях, когда действие происходит в «историческом интерьере» («Владимир и Рогнеда» А. Лосенко, 1770), оно развивается не столько в его пространстве, сколько на его фоне.
Здесь следует вспомнить одно важное обстоятельство. В русской живописи XVIII века не было того культа перспективы, который характерен для итальянского и немецкого Возрождения, хотя живописцы так или иначе должны были овладевать ренессансными достижениями, так как разворачивали свое творчество в пределах тех стилей, которые имели дело с уже усвоенным опытом построения прямой перспективы. Естественно, они не ставили собственных экспериментов, а брали уже готовые формы и приемы, относясь к ним с известной отчужденностью, – хотя бы в силу того, что на протяжении семи веков развития древнерусского искусства прямая перспектива была иконописцу противопоказана. Лишь в одной области (больше в графике, чем в живописи) происходило (хотя и в малой степени) овладение перспективой научно-техническими средствами – в городском пейзаже первой половины и середины столетия. Известно, что М. Махаев пользовался камерой-обскурой, навыки обращения с которой ему передал итальянец Джузеппе Валериани. Художники, «снимавшие» городские виды (особенно Петербурга), восприняли опыт ландкартного ремесла – а следовательно, геометрии и перспективы. Но человек в этих гравюрах и картинах присутствовал лишь в качестве точки пространственного отсчета. Телесный опыт ренессансного мастера, символически зафиксированный и повторяющийся в мотиве человека, стоящего неподвижно и смотрящего вдаль на сходящиеся у горизонта линии, не получил развития в России. В исторической картине подчеркнуто перспективные пространственные ситуации присутствуют редко. Портретисты же, овладевшие перспективой «из вторых рук», не придавали ей существенного значения и к тому же не с ее помощью решали задачу введения человеческого тела в пространство интерьера. Так или иначе главные свидетельства завоеваний единства фигуры и интерьера остаются в пределах портрета, хотя его сущность реализуется и не в решении этой задачи.
Если вернуться к Левицкому, следует констатировать еще одно обстоятельство. В его живописи в удивительном равновесии с телом оказывается и та одежда, в которую оно облачено. Одежда в портретах Левицкого в полном смысле слова – «продолжение тела» (о. Павел Флоренский), неотделима от него и всегда ведет себя в соответствии не только с жестом, позой, движением, но и с человеческим характером, который в равной степени воплощается в самом теле и в одежде. Речь идет в данном случае не о моде, а о единстве пластическом. Это единство в портретной живописи достигалось тоже немалой кровью. На заре XVIII века, утратив свою одухотворенность, столь ощутимую в иконописном изображении, платье часто как бы не совпадало с телом, застилало его. В той линии портретного творчества, которая сохраняла элементы парсунности и дала наивысшие плоды в произведениях Антропова, одежда подчас «одержима» пугающей вещественностью, являясь свидетельством художнического любопытства, заставляющего живописца «потрогать» предмет, пощупать его, насладиться тактильным контактом с его поверхностью. В этих случаях одежда приобретает не предназначенное ей самобытие. Левицкого не покидает эта жажда наслаждения реальностью, но он вводит его в рамки живописной корректности.
Это «тактильное зрение», впервые отвоевавшее себе законное место в русской живописи, знаменовало собой тот аспект проблемы тела, который в иконописи не мог присутствовать, ибо иконописец не имел греховной потребности дотронуться не только до божественного тела, но и до его земного двойника. Лишенный комплекса Фомы Неверующего, иконописец благоговел перед одухотворенной плотью. Художнику XVIII века открылась иная – земная реальность в ее повседневной общедоступности. В этой ситуации «тактильное зрение» обострилось. «Трогая» тело, художник отождествлял его со своей плотью, отдавал свой телесный опыт живописному явлению. Идея телесности переносилась с объекта на субъект, а затем возвращалась объекту, обогащенная собственным художническим телесным бытием в пространстве. Можно предположить, что подобное взаимодействие субъектной и объектной телесности – явление всеобщее. Но в лучших произведениях русской портретной живописи 1770-1780-х годов это взаимодействие стало свидетельством не только «познавательной лихорадки» русского XVIII века, но и достижения гармонии телесного начала с цветовым, ритмическим и композиционным равновесием.
Вхождение тела в интерьер было достигнуто в портретной живописи. Но искусству предстояло решать иные задачи: необходимо было освоить бытовое жилище и выйти за пределы дома – на природу, вторгнуться в пространство мира. В основном эти задачи решались в первые десятилетия XIX века. Домашний интерьер – тот же костюм, он так же неотделим от тела, которое находит в нем своего прямого резонатора. Главная роль в освоении домашнего интерьера принадлежала родоначальнику русской жанровой живописи А. Венецианову, хотя и многие портретисты романтического или бидермейеровского направления (В. Тропинин, О. Кипренский, К. Брюллов) не могли обойти эту задачу. Но они решали ее на пути к другим целям, как бы попутно откликаясь на общие завоевания искусства. Венецианов же выдвинул эту цель как одну из главных и вне ее достижения не мыслил собственного движения к истине.
Начало было положено картиной «Утро помещицы» (1823), где художник меньше всего занят пересказом мелкого повседневного события сельской жизни (помещица задает крепостным девушкам «урок» на день), а больше заинтересован в воссоздании целостного организма сцены, в которой тело и пространство комнаты пребывают в благополучном единстве. Пространство разворачивается в глубину уступами (створки ширмы, торцовая стенка шкафа, окно) и «прощупывается» контрастом света и тени. Свет скорее исходит от фигур и царит в воздухе на первом плане сцены, чем заливает комнату из окна, срезанного рамой картины и лишь узкой полоской открывающего зрителю вид на окрестный ландшафт. Внутреннее и внешнее пространства, безусловно, связаны друг с другом, но внешнее скорее представляется продолжением внутреннего, а не наоборот. И это обстоятельство ставит в центр внимания интерьер, а его конфигурация создает на редкость удобное вместилище для тел. Пространство и тело как бы формируют друг друга. Естественно, в этом процессе собственный телесный опыт Венецианова реализуется в закреплении поз, в специфичной для художника приостановке действия. Момент этой приостановки присутствует и в «Гумне», и в «Очистке свеклы», но особенно в «Спящем пастушке» и «Лете» – то есть в главных произведениях художника 20-х годов. Можно полагать, что своеобразие собственного телесного опыта, манеры движения, а в конечном счете и поведения художника[45]45
Можно попытаться реконструировать манеру поведения художника по его переписке и воспоминаниям о нем, для чего существуют довольно богатые источники. См.: Алексей Гаврилович Венецианов. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике. Составление, вступ. статья и примечания А.В. Корниловой. Л., 1980.
[Закрыть] совпадали с «потребностями» русской живописи в тот момент, когда развернулось творчество Венецианова.
Венецианов оказывается центральной фигурой, фиксирующей своим искусством процессы художественного освоения тела и пространства, его окружающего. В этом отношении важны и некоторые другие шаги, сделанные художником. Первый из них – выход человеческой фигуры в окружающий ландшафт. Предвижу возражения: ведь нельзя же сказать, что XVIII век в России прошел мимо такой живописной задачи. Действительно, можно вспомнить портрет Елизаветы Петровны с арапчонком, выполненный Г.Х. Гроотом в 1743 году, многочисленные конные портреты того же Гроота или И. Аргунова, некоторые жанровые картины (например, И. Танкова) или городские пейзажи, населенные людьми, наконец, портреты В. Боровиковского 1790-х годов. Но все это были разрозненные опыты, не решавшие задачи. Гроот воссоздает пейзажную ситуацию, практически ничем не отличающуюся от интерьерной, – пейзажное пространство здесь не завоевано. Жанровые картины Танкова рисуют идиллические сцены, в которых фигуры уподоблены стаффажу. Ту же роль играют они в пейзажах Алексеева или Семена Щедрина, в многочисленных графических городских видах, выполненных русскими и иностранными мастерами. Боровиковский практически почти не вырывается из интерьера, но ограниченного не стенами комнаты, а декоративной завесой ветвей и листьев. Ясно, что венециановские опыты гораздо принципиальнее и решительнее. К тому же его искания последовательны и несут на себе явные следы усилий, тогда как в иных (перечисленных выше) случаях художники берут готовые формы, прежде уже завоеванные предшественниками.
Один из первых выходов самого Венецианова и его героев в свободное пространство связан с курьезным случаем. Задумав картину «Гумно» (между 1821 и 1823 годами), изображающую внутренний вид большого сарая, Венецианов повелел своим крестьянам выпилить торцовую стену постройки, открыв тем самым интерьер природному окружению. Некоторые из действующих лиц оказались буквально на границе этих двух пространств, которые теперь – в отличие от того, что мы констатировали в «Утре помещицы», – находились в противоположных отношениях: внешнее буквально вливалось во внутреннее, включая в свое движение фигуры крестьян, как бы сопротивлявшихся своей статикой. Причуда барина-художника открыла новые возможности. Тут же последовали «Спящий пастушок» (середина 1820-х годов), «Весна» и «Лето» (обе-1820-е). Если в «Весне» фигура крестьянки, разрезающая своим движением воздушную среду пустынного пейзажа, казалось бы, еще не освоила его и словно вытеснена им из своих владений, а в «Пастушке» отвоеванный фигурой передний план еще не соединился со вторым и третьим, то в «Лете» эти конфликты преодолены. Пространство отдает часть себя телу, а последнее, обосновавшись в нем, уже не нуждается ни в вопрошающем жесте пастушка, ни в стремительном и грациозном шаге-полете крестьянки, чтобы слиться с далью, войти не только в ближайший пространственный слой, но и в глубину, сохранив при этом самоценность телесного бытия, пусть еще не избавившись от элементов манекенности.
Интересно, что в то же самое время, когда Венецианов производил свои опыты в имении в Тверской губернии, в Италии близкие процессы, но на основе завоеваний западноевропейской живописи начала XIX века происходили в творчестве Сильвестра Щедрина. Но этот художник шел противоположным путем: отправной точкой его движения был пейзаж, приобретший заметный оттенок жанра; слияние пейзажа и жанра происходило в условиях овладения пленэром и таило в себе признаки будущего импрессионизма, к которому неминуемо – через разные стилевые направления – шла европейская живопись. Завоевания Щедрина не прошли бесследно для русского искусства. Между тем если иметь в виду процесс сложения национальных традиций и возможный отклик на традиции уже сформировавшегося национального мирочувствия, то у Венецианова сохранялись в этом сравнении преимущества. Ибо он имел дело с российским пространством, отличающимся качеством бескрайности, и с русской природой, лишенной внешних эффектов, оголенной, но убедительно обнажающей свою внутреннюю структуру. Лишь Александру Иванову в 1830– 1850-е годы удалось на итальянской земле реализовать русское чувство пространства. Но об этом ниже.
Вернемся к Венецианову. Еще один важный шаг, сделанный им, – обнажение модели – совершается уже в поздний период творчества и по времени совпадает с теми чрезвычайно плодотворными экспериментами, которые делались в Риме Ивановым. Разница, правда, в том, что Иванов в своих этюдах обнаженных для картины «Явление Христа народу» не пользовался женской моделью. Венецианов же в 1829 – начале 1830-х годов исполнил своих «Купальщиц»: около 1832-го – «Вакханку», а позже – «Туалет Дианы» (1847). Говоря об открытиях Венецианова, было бы смешно утверждать, что художник впервые ввел обнаженное женское тело в русскую живопись. Формально этот мотив имеет давнюю историю. Не касаясь фресок Древней Руси, где в разных сценах (чаще всего Страшного суда) изображались обнаженные фигуры, в которых признаки пола передавались лишь номинально, можно вспомнить некоторые работы XVIII века. Один из самых перспективных живописцев Петровского времени А. Матвеев создает картины «Аллегория живописи» (1725) и «Венера и Амур» (1726?), с трудом справляясь с изображением обнаженного женского тела. В наследии самых значительных мастеров (например, Ф. Рокотова) встречаются вольные копии произведений итальянцев на подобные же сюжеты. Среди графических работ скульптора М. Козловского и некоторых его современников мы встречаем композиции на тему русской бани. Этот список можно было бы значительно расширить за счет ряда графических произведений, картин на аллегорические и мифологические сюжеты, особенно распространенные в творчестве художников, испытавших влияние рококо, заметив, однако, что среди работ такого рода нет шедевров – все они мало удачны, а все вместе не создают устойчивой традиции. В XVIII веке не существовало непреодолимых препятствий, которые могли бы помешать изображению обнаженного тела (в том числе и женского). Правда, мотивы эти не были особенно популярны и в живописи – в отличие от скульптуры – встречаются редко.
Ситуация изменилась к 20-30-м годам XIX века, когда работы подобного рода вошли в «большую историю» русской живописи. Я имею в виду уже упоминавшуюся «Купальщицу» и «Вакханку» Венецианова, картину Ф. Бруни «Вакханка и Амур» (1829), «Вирсавию» К. Брюллова (1832) и ряд других, менее известных произведений. Венециановские образы в этом ряду занимают хотя и скромное, но свое особое место. Казалось бы, они располагаются на обычных традиционных путях, когда обнаженная модель избирала для своего существования мифологические, аллегорические, а иногда и бытовые сюжеты и лишь усилиями художников XVIII столетия освободилась от их посредничества ради ничем не мотивированной демонстрации себя. Венецианов сохраняет внеположную модели мотивировку и соответствующие такой мотивировке детали, но главные признаки иконографической традиции он преодолевает. Прежде всего это касается самой модели, которая лишена стандартных традиционных признаков, долженствующих внушать зрителю приятные чувства своим изяществом, рафинированностью движений и изысканностью форм. В роли вакханки у Венецианова выступает раздетая крестьянка, демонстративно держащая в руке золотой кубок. Купальщица, как видно, – тоже одна из жительниц села Софонково, и хотя она выполняет предложенное ей задание, формами неухоженного тела, чертами лица вряд ли сопоставима с традиционными исполнительницами подобной роли. Все это движение в сторону от основной линии европейской живописи (трактовка обнаженного тела – лишь одно из проявлений специфичности творчества художника) свидетельствовало об особом пути Венецианова. Его своеобразие могло принести, однако, лишь локальные плоды – в пределах творчества художников венециановского круга (тем более что мастера «русского бидермейера» почти не касались мотива обнаженного тела), и если оно нашло дальнейшее продолжение, то лишь в начале XX столетия – в момент преодоления передвижнического реализма и возрождения утраченных ранее традиций. Но наследие Венецианова было трансформировано и получило эстетизирующую окраску.
Тот же знак полувековой невостребованности сопутствовал наследию Александра Иванова, который наиболее последовательно среди русских художников разрабатывал проблему бытия человеческого тела в пространстве. Идея картины, где человек в своей оголенности – и в переносном, и в совершенно конкретном смысле слова – предстает перед лицом Бога, послужила поводом для создания десятков этюдов фигур и голов, в которых (этюдах) должна была воплотиться человеческая сущность каждого участника сцены. В этих этюдах тело (обнаженное или готовое обнажиться) приобретало не меньшую выразительность, чем лицо. Человеческая плоть являлась в первозданном виде, как бы свидетельствуя об открытости, незащищенности души и тела, их возможности положиться на волю Спасителя. И хотя эта возможность еще не осознается большинством участников сцены, принимающих или готовых принять крещение и присутствующих при великом событии явления Спасителя, объективное сопричастие людей самому событию заставляет художника в каждой фигуре искать формулу душевно-телесного единства, полного соответствия телесного поведения душевному состоянию. Исследователи ивановского творчества двно уже зафиксировали это качество на примере Дрожащего, Сомневающегося, рыжеволосого юноши, повернувшего голову к Христу, Иоанна Богослова и других героев «Явления Мессии». Можно не сомневаться в том, что художник мысленно переносил собственный опыт на героев картины, ибо выстраданной верой чувствовал личное предстояние перед лицом Божиим. Опыт душевный соединяется с опытом телесным. В совершенстве владея академическими приемами, отработанными европейским классицизмом, постоянно сверяя свои пластические находки с образцами античной скульптуры, с ее одушевленной (но не одухотворенной!) плотью, Иванов овладел телесным организмом человека, ввел его в близлежащее пространство, но пока еще не нащупал механизма сопряжения тела с пространством всеохватывающим и безграничным. Этюды здесь лишь незначительно превосходят картину, где основное действие развертывается в «малой глубине» первого плана, а смысловые соприкосновения действующих лиц ограничиваются небольшим расстоянием, отмеренным фигурой Христа. Между тем пейзажные этюды, сделанные Ивановым в то же самое время, исполнены удивительного чувства пространственной бесконечности. В поздние годы художник соединил телесную и пространственную идею в многочисленных этюдах с фигурами мальчиков. Эти живописные шедевры, безусловно, были нацелены на решение синтетической задачи. Ведь прежде художник не вводил человеческую фигуру в пейзаж и в равной мере не стремился в фигурных этюдах «прощупать» глубину. Несмотря на «малость жанра», «Мальчики» определили момент взлета Иванова, а в истории русской живописи стали той заветной точкой, в которой пластически совершенное тело и бесконечное пространство нашли друг друга и претворились в образах естественного бытия.
Другой поздний цикл Иванова – Библейские эскизы – дает иной повод для размышления над нашей проблемой. Выполненные в графической технике, они не подлежат буквальному сравнению с живописной картиной и этюдами к ней. Однако в аспекте понимания не только исторической судьбы человека и человечества, но и взаимоотношения телесного и пространственного они вполне сопоставимы. В эскизах, воссоздающих как массовые сцены, так и двух– или трехфигурные композиции, индивидуальная телесность утрачивается. Но «типовое», заменяющее индивидуальное, не предполагает распада телесного и душевного (и больше того – духовного). Их единство сохраняется, но осуществляется уже в пределах «сверх-индивидуального» (о. Сергий Булгаков) начала, которым наделен образ Христа. Сам Христос (особенно в «Хождении по водам»), многочисленные старцы (Захарий, Иаков, Авраам), ангелы, благовествующие пастухам, являющиеся Марии или Иосифу, и многие другие ивановские персонажи – это идеальные герои, как бы преодолевающие индивидуальные качества, «деформирующие» богочеловеческий абсолют. Они однотипны, несмотря на возрастной и иерархически-библейский статус. Их тела утверждают себя в пространстве либо активным движением, волевым жестом, либо суровой, упрямой статикой. Вместе с тем и само пространство воплощает ту же идею всеобщности, какая была осуществлена в этюдах мальчиков. Таким образом, сохраняются те же равновесные отношения тела и пространства, которые я констатировал выше на примере более ранних произведений. Сохраняются при значительной перемене стилевых координат – в сторону условности, самоценной выразительности линии и цветового пятна. Следовательно, завоевание телесно-пространственного равновесия происходит в некоей «надстилевой» плоскости, непосредственно отражая особенности мироощущения художника.








