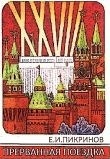Текст книги "Прерванная игра"
Автор книги: Дмитрий Сергеев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
Ивоун ждал, напрасно пытаясь угадать, что же хочет сообщить ему Дьела.
Некоторое время она точно собиралась с силами, приложив ладонь к груди, пыталась унять сердцебиение.
– У меня будет ребенок,– выдавила она.
– Поздравляю,– совершенно безотчетно, машинально проговорил он, с все большим изумлением вглядываясь в ее расстроенное лицо.
Недоумение, мелькнувшее в ее взгляде, возвратило ему трезвость рассудка.
– Простите,– сказал он.– Я сказал глупость.
– Что мне делать?– Отчаяние, звучавшее в ее голосе, полоснуло его.
"Господи, что же делать?"-мелькнуло в уме.
Теперь им вовсе не требовалось произносить мысли вслух, достаточно было обмениваться взглядами, чтобы угадывать, кто о чем думает. Да и о чем, собственно, могли они думать сейчас?
"Я должна поступить так. Ты прав, это ужасно. Но у меня нет другого выхода. Подскажи, если он есть".-"Если бы я знал, если бы я видел выход..." -"Его нет. Это не твоя и не моя вина. Не мучайся".
Их безмолвный разговор длился недолго.
– Я знаю, у вас есть необходимые лекарства и есть справочник,– первой нарушила молчание Дьела.– Вы говорили, что закупили целиком аптеку. Я должна знать, сколько у меня времени осталось на раздумья.
– Он находится там,– рукой показал Ивоун в сторону темного и сырого потолка.
–А Другого выхода все равно нет.
Они шли назад, плутая в темных переходах, попадая в каменные тупики, где совсем не было света.
Ивоун невольно думал о младенце, которому, если Дьела не примет мер, предстояло родиться и жить во тьме.
Кто посмеет осудить ее, если она не даст возможности появиться ему на свет? Даже и само выражение "появиться на свет" звучало теперь чудовищной насмешкой. Скоро все они погрузятся во тьму. Не помутится ли у них самих рассудок, не сойдут ли они с ума? Интересно, выживут ли котята, которые родятся слепыми и никогда не прозреют? Даже не будут знать, что существует свет.
–Я всегда верила: искусство есть высший смысл и содержание жизни. Если оно не поддельное, подлинное, оно живет независимо от капризов моды. Даже если люди в силу временной слепоты перестают замечать красоту полотен, ваяний, красоту и гармонию стихов, симфоний, истинные произведения все равно не мертвы – живы. И все поддельное, временное, несмотря на кажущийся успех, неизбежно умирает. В конечном итоге человечество отбирает и сохраняет все подлинно лучшее, то, без чего человек не был бы человеком, остался животным.
"Так вот с кем заочно спорил Сколт", – сообразил Ивоун, слушая Дьелу.
– А теперь я усомнилась, – призналась Дьела. – Человечество не стало лучше, добрее, гармоничнее. Искусство не спасло людей. Где и когда была допущена ошибка? Может быть, роковая. Некогда искусство восстало против ханжеского религиозного духа– средневековья. Оно возвеличивало красоту и мощь человеческого тела. В литературе это проявилось через изображение земной плотской любви.
Художники и писатели достигали того, что человек становился в полный рост – велик и могуч, равен богу. Но со временем акцент сместился. Прежнее искусство, искусство возрождения, изображало человека обнаженным, будучи уверено, что это красиво и величественно. Теперь искусство раздевает человека, чтобы унизить, насмеяться над его слабостями, над его бессилием возвыситься над собственной плотью. Почему этот поворот совершился в нашем сознании?..
Ответа на этот вопрос у Ивоуна не было.
Глава двенадцатая
Записи в дневнике Ивоуна стали совсем краткими.
"С южной стороны автомобили погребли первый ярус и ниши с апостолами. На севере подошва автомобильной горы достигла церковной ограды. Заболел Ахаз, Кажется, серьезно".
"Автомобили начали ударяться в северную стену. На юге солнечные лучи перестали попадать в окна: их заслонила гора. Даже в середине дня в храме не бывает светло, Ахазу все хуже. Жалуется на холод, просит, чтобы его вынесли на солнце".
"Ахаза похоронили в склепе. Урия сказала, что жить ей осталось двадцать дней. Очень похоже на правду".
"Перестал звучать орган. Вернее, звуки, которые Дьеле удается извлечь из него, не похожи на музыку – жалкое и бессмысленное дребезжание медных труб".
"Скоро наступит тьма. Северная и южная горы сомкнулись. По радио говорят, что купол и шпиль храма, торчащие из автомобильной горы, почти невозможно увидеть.
На вертолеты, обслуживающие туристов, нельзя достать билетов. Все жаждут острых ощущений. Ничего другого старая Пирана не может дать. Раздаются требования так же поступить с другими древними городами..."
День и ночь в храме отличались теперь только по звукам: днем грохотало, ночью наступало затишье. Изредка с высоты вдруг падало что-нибудь, гулкое эхо раскатывалось внутри собора. К таким внезапным вторжениям в ночную тишину привыкли.
Люди стали не то чтобы замкнутей, но как-то более погруженными в себя.
Начала дичать кошка. Ее истошные крики разносились посреди ночи.
– Задушить проклятую надо, – сказал Калий. – Только б попалась в руки.
Он начал охотиться за обезумевшей кошкой. Но изловить ее было не просто. Она перестала подходить к людям. И едва кто-нибудь приближался к ней, остервенело шипя, стремглав уносилась в темноту. И вновь ее дикий крик будоражил нервы.
Свет берегли. Свечи зажигали, лишь когда садились за стол. Трепетный язычок пламени озарял крохотное пространство поблизости от стола. Из сумрака выступали неузнаваемые лица. Что-то дикое появилось во взглядах людей, какая-то настороженность, ожидание.
Время определяли без часов, по звукам. Когда грохот затихал – пора было ужинать.
– Киса, киса – тщетно взывала Плова.
Кошка не показывалась, не подходила теперь даже к своей любимице.
– Она с голоду околеет, – печалилась девушка.
То ли из-за того, что наступили потемки и пламя свечного огарка было чересчур мало, чтобы видеть лицо и фигуру в полном объеме одновременно, всегда какие-то детали размазывались, растворялись, становились плоскими и вoвсе исчезали, но Плова теперь не казалась куклой. Черты ее лица выражали подлинные человеческие чувства. Может быть, из-за наступившей темноты она перестала корчить из себя красавицу. Кому теперь видна ее красота? И стала действительно красивой. Хотя сильно похудела и лицо ее заострилось. Зато в ее чертах проглянула внутренняя красота. Да и все другие лица изменились к лучшему, по мнению Ивоуна.
Плова добилась ответа. Но то было не тихое мяуканье, как раньше, а остервенелый рев обезумевшего животного. Первым не выдержал Калий.
– Пристрелю!
Он выхватил пистолет и ринулся в темноту. Громыхнул выстрел. В вышине отозвались трубы расстроенного органа, звякнула автомобильная железка.
Кошка тенью прошмыгнула сквозь освещенное пространство и скрылась. Рев ее сделался -еще более жутким и громким.
Бах! Бах! – палил в дико орущую темноту Калий.
– Прекрати стрельбу! – вскричала Плова. – У нее скоро появятся котята.
Но Калий ничего не слышал. Пули стучали по каменным стенам, звенели, попадая в оконные ниши, забитые автомобильным ломом.
Стрельба продолжалась несколько минут. Больше патронов у него не было.
Протекли двадцать дней со дня смерти Ахаза. Грохот наверху теперь доносился сюда приглушенно. Утром старушка объявила, что настал час ее кончины, и просила похоронить ее рядом с Ахазом.
Однако прошел день, настала ночь, а смерть так и не прибрала несчастную. Урия совсем расстроилась, потеряла аппетит. Более всего ее мучило, что она не сдержала слова, данного самой себе. Она так страдала, что, должно быть, от огорчения скончалась все же, хотя и не в назначенный срок.
Ни слез, ни причитаний на похоронах не было. Церемонию не стали затягивать, сберегая свечу.
Несколько дней кошку не было слышно. Закралось подозрение, не пристрелил ли ее Калий. Ивоун подумал, что для кошки это было бы лучшим исходом, а особенно для ее будущих котят, которым не суждено никогда прозреть.
Однако кошка была жива. Вскоре ее крики снова услышали все. В них не было прежнего смятения, она точно взывала о помощи. И когда ее звали, отзывалась жалким и призывным мяуканьем, откуда-то с высоты почти посредине храма, там, где находилась главная архиерейская кафедра. Каменные ступени, ведущие наверх, опирались на скульптуру горняка, очень искусно высеченную из цельной глыбы мрамора. Горняк, согнувшись вдвое, долбил киркой скалу, а собственные спину и плечи подставлял вместо опоры для лестницы. Ее каменные ступени вели наверх и царствие божие. В праздники ерхиерей поднимался по ним, чтобы с высоты читать проповедь. Голос отчетливо раздавался во всех уголках храма, поражая прихожан ясностью и чистотой звука. Кафедру эту возводили много позднее, чем был построен собор. Видимо, тот, кто руководил мастеровыми, понимал толк в акустике. Сейчас с ее верхней площадки по всем закоулкам собора разносилось призывное кошачье мяуканье.
В кромешной тьме не просто было взобраться наверх хотя бы и по ступеням: лестничные витки были крутыми, а перил не было. Перила разрушили бы гармонию скульптуры. Ивоуна сменил Брил. Он влезал наверх, судя по звукам, на карачках: прежде чем– подняться на очередную ступеньку, охлопывал ее ладошкой, чтобы определить, насколько она смещена. Кошка притихла, лишь изредка тихонько подавала голос.
– У нее котята, – объявил Брил, и негромкий голос его отозвался во всех самых дальних уголках собора.
Холодные пальцы прикоснулись к руке Ивоуна. Дьела стояла рядом, он слышал ее взволнованное и сдержанное дыхание. Несильным, но порывистым движением она стиснула его запястье. Он понял, что хотела выразить она этим непроизвольным жестом.
– Несчастные, – прошептал он.
...Трудно стало различать день от ночи. Автомобильная свалка давно погребла собор. Грохотало все глуше и глуше, а вскоре и вовсе затихло. Из сообщений по радио узнали, что свалку закрыли. Новую трассу теперь проложат поверх горы из автомобильного боя. Одновременно с этим известием передали другое: точно такую же свалку устроили в другом древнем городе. Так что Ахазу, доживи он до этого дня, не пришлось бы печалиться; его акции не упадут в цене. Вдруг начали исчезать новорожденные котята. Вначале неизвестно, куда пропал один котенок, а вскоре еще два. Кошка, то ли встревоженная пропажей своих чад, то ли по иной причине, вела себя беспокойно. Вдруг среди ночи поднимала тревогу. Ее отчаянные крики разносились по ввему храму.
Особенно неистовствовала она в последнюю ночь. Буквально не дала никому спать.
Плова напрасно пыталась успокоить ее, манила к себе: "Кис, кис". Кошка продолжала кричать, но не приближалась на голос. Шорохи и писк раздавались в разных углах из темноты, наводя страх. Пришла догадка: крысы! Ужас обуял людей. Все собрались в кучу и заперлись в одной из келий.
И вовремя. Промедли они немного, им не удалось бы спастись. То было подлинное нашествие: крысы сновали повсюду. Даже сквозь дверь слышалась их постоянная возня. Они осадили дверь и, похоже, пытались проломить ее. Потом начали грызть. К счастью, дубовые доски сплошь были окованы железом.
Осада длилась трое суток. Люди уже мучились от голода и жажды и начали опасаться, не суждено ли им погибнуть здесь, замурованными в каменной яме. Калий требовал, чтобы ему открыли дверь и дали возможность биться с крысами.
– Я их распинаю, – уверял он. – У меня ботинки с подковами.
К этому же начал склоняться и Сколт.
– Лучше погибнуть сражаясь, чем околевать с голоду.
К счастью, до этого не дошло. Крысы так же внезапно покинули собор, как появились. Куда они ушли, неизвестно.
Весь храм, все закоулки провоняли крысиным духом.
Первое время казалось, что от этого запаха можно задохнуться, но потом то ли они свыклись, то ли воздух проветрился.
Было удивительно, что воздух в соборе не застаивался. Иногда ощущалось отчетливое дуновение, похожее на сквозняк.
Ивоун давно заметил это и все время возвращался мыслью: откуда в храм поступает свежий воздух? Почему он не пропах бензином и мазутом? Почему воздух кажется влажным?
Записи в дневнике он делал теперь на ощупь, не будучи уверен, оставляет ли карандаш следы на бумаге, или же он водит им напрасно, и страницы его книжки остаются чистыми.
"Мы потеряли счет дням. Последние батареи отказали.
Что присходит наверху, неизвестно".
"Появились странные звуки. Они раздаются где-то в вышине за сводами собора".
"Нас все больше тревожат эти звуки. Они методичны в повторяющемся ритме. Тут-тук-тук, потом опять трижды: "Тут-тук-тук". Они приближаются с каждым днем. Становятся оглушительней. Похоже, они сведут нас с ума".
"Теперь это уже не отдаленное: "Тук-тук-тук", а оглушительное, грозное: "Бам-бам-бам!" Дрожат своды собора, вибрируют органные трубы. Сверху то и дело с грохотом падают застрявшие в окнах детали автомобилей".
– Догадываюсь, что это означает, – сказал Сколт за ужином, кегда назойливое "бам-бам-бам" стихло.
Молчание затянулось.
– Звуки означают, что нас вспомнили, к нам движутся.
– Хм,-произнесла Дьела.
– Вздор, – неожиданно поддержал ее Калий.
Ивоуна поразило, что тот говорил без обычного раздражения.
– Теперь-то уж ни о каком спасении и думать нечего, сказала Дьела.
– А я и не говорю, что идут спасать. Даже если бы они и захотели спасти, уже поздно. Мы на том свете.
"Очень похоже, что так оно и есть", – подумал Ивоун. Судя по затянувшемуся молчанию, и остальным нечего было возразить.
– Но кто же все-таки движется к нам? И зачем? заинтересовалась Плова. – Кому мы нужны?
– Почем я знаю. Может быть, они хотят устроить здесь филиал тартара.
Предположение Сколта никому не показалось вздорным.
"От адского грохота мы скоро сойдем с ума. Даже н подвале от него нет спасения. Что-то страшное с чудовищной силой и постоянством пробивается к нам. Скорее бы уж наступил конец. Или же это всего лишь начало наших адских мук?"
"Что-то неумолимое, безжалостное вклинилось в свод и стену восточного портала. Грохот потряс основание собора".
Вечером, когда снова наступила тишина, все выбрались из подвала, где отсиживались днем. Не поскупились: зажгли свечи. Некоторое время привыкали к свету.
Странная и поначалу совершенно непонятная картина предстала перед ними. Почти вся восточная стена, портал и часть южного фасада были уничтожены. Обломки каменных плит и кирпича вперемежку с искореженными автомобилями наполовину скрывали железобетонное тело, вторгшееся сверху и ушедшее в глубину. Все были в недоумении.
Лишь долгое время спустя явилась догадка:
Наверху прокладывают автотрассу. Это опора.
– Как жаль все-таки, что мы еще не на том свете, – сказала Дьела.
* * *
Теперь, если бы кто случайно попал в храм, он не вдруг понял бы, где очутился. Долго нужно было приглядываться, чтобы в этом хаосе рассмотреть своды и стены собора.
В оконных нишах там и сям позаклинивало автомобили, а кое-где разбитые машины свешивались вниз почти целиком. На полу повсюду навалены кучи хлама: искореженные части машин, мятые канистры, проношенные рваныа баллоны и прочая дребедень, побросанная владельцами. Повсюду раскидано битое стекло и щепа оконных переплетов. Скамьи опрокинуты. Лишь центральный проход остался меньше захламленным: сюда долетали лишь отдельные осколки разноцветных стекол да закатились два-три баллона.
Десятка два битых и давленных автомобилей вторглись в пределы собора со стороны гигантского пролома в северной стене. Да и сама бетонная опора, отрезавшая часть свода и снесшая десяток мраморных колонн, была неуместна в храме. Свечей больше не зажигали, но увиденная безобразная картина врезалась в сознание Ивоуна.
Все переселились в подвальные кельи и редко когда поднимались наверх.
Кроме Ивоуна и Дьелы.
Они сделали даже попытку направить орган. Пробрались внутрь.
Дьела, хорошо помнившая, какие лады больше расстроены, подсказывала Ивоуну. Он хоть никогда и не занимался настройкой, но в свое время описывал орган как произведение искусства и немало времени провел, ползая внутри. Поэтому сейчас, хоть и с трудом, но мог разобраться, какие тяжи от каких клавиш к каким трубам вели.
Увы, падавшие автомобили не пощадили инструмента: железные болты и тяжелые гаечные ключи залетали в нежные трубы, рвали деревянные тяжи. А в одном месте по органным трубам, должно быть, шоркнуло бортом залетевшего автомобиля и напрочь снесло несколько труб.
Починить орган было невозможно.
Видимо, наверху прошел ливень. Целые сутки журчали потоки воды, грязной, мутной, пахнущей битумом. Ивоуи шел по храму, прислушиваясь к плеску водяных струй.
Под ногами текли ручьи.
Внезапная мысль озарила его. Взволнованный, он начал руками шарить по каменному полу, отыскивая направление стока. Дождевая вода устремлялась в сторону западного портала. Туда они почти не заглядывали: там помещался один из подземных алтарей и были склады церковной утвари, большей частью пришедшей в негодность. Там же были похоронены Ахаз и Урия.
Поток воды с шумом катился по мраморным ступеням. Ивоуну приходилось соблюдать осторожность, чтобы не поскользнуться. Потом он пробирался вдоль извилистого коридора. Вода здесь уже бурлила, и напор был таким, что Ивоун едва держался на ногах. Коридор круто повернул, наклон стал сильнее. Под ногами было скользкое каменное ложе, вылизанное водой. Ивоуну пришлось схватиться за выступ стены, иначе его могло утащить в глубь подземелья. Оттуда несло сыростью и холодом. Где-то чуть впереди, шагах в десяти от него, методично повторялся один и тот же стук. Что-то массивное стучало по железу.
Ивоун догадался, что там решетка, отделяющая подвалы храма от городской канализации. Видимо, потоком воды туда унесло ящик или чурку настолько большую, что она застряла возле решетки. Бурный поток постоянно долбит ею по железным брусьям.
Это могло быть спасением. Странно, что никому из них раньше не пришло в голову искать ход в канализационную сеть.
* * *
Ивоун и Сколт вдвоем разведали, можно ли выбраться за решетку. В факельном свете прежде всего различили предмет, колотивший в железные брусья. Этс оказался пустой гроб. Сейчас, когда вода схлынула, он лежал, привалившись одним боком к решетке. Трудно теперь сказать, был ли это один из двух гробов, в которые положили Ахаза и Урию.
К счастью, решетка не могла препятствовать. Из стены, в которую она была замурована, видимо, еще в давнюю пору вывалился огромный блок. В этом месте легко пролезть даже и грузному человеку.
Начали собираться в поход.
Сколта заботило, хватит ли им -светильников. А то, что им предстоял нелегкий долгий путь, было ясно. Плана канализации у них не было, продвигаться придется наугад.
Когда все были готовы, Ивоун в последний момент объявил о своем решении остаться в храме.
– Наверху мне нечего делать.
Никто не пытался отговаривать его, все понимали, что это не минутный каприз, а обдуманное решение.
Выступать наметили утром, хорошенько выспавшись.
После ужина Брил и Плова поднялись наверх в храм.
Ивоун слышал, как они разговаривали. Потом затрещал моторчик, и слышно стало, как он передвигался по храму. Ездить можно было только по центральному проходу между скамьями, боковые нефы сплошь захламлены. Кончилось это развлечение тем, что Брил врезался в колонну, разбил коляску и едва не покалечился сам.
После завтрака навьючили на себя тяжеленные котомки. Факелы пока не зажигали. Решили зажечь только возле решетки. Начали прощаться с Ивоуном.
Последней его обняла Дьела. Он ощутил ее губы, теплые, сухие губы. То был поцелуй, о котором он столько мечтал. Ивоун молча припал к ее рукам.
– Берегите их. Они еще пригодятся там, наверху.
– Едва ли. Вы слышали: ведь и все другие старые города тоже превратят скоро в автомобильные свалки.
– Господи, не дай им заплутаться в потемках. Выведи их на верную дорогу. Пособи им, помоги выбраться.
Голос Ивоуна дрожал и сбивался, рыдания сами собой содрогали его грудь.
– Господи, пощади их, не дай им сбиться с пути.
Больше Ивоуну не о чем было просить. В древнем храме отзвучала последняя молитва.
Я перелистнул последнюю страницу. Старинный храм, погребенный под автомобилями, продолжал грезиться мне.
Я представлял его похожим на соборы средневековой Европы. Это ощущение не покидало меня все время, пока я читал.
"Небыль!" – сказал я.
Ни на Земтере, ни где бы то ни было у черта на куличках ничего подобного не могло произойти. Зачем Итголу вздумалось дурачить меня? Ведь он аттестовал повесть как историческую. Хотелось встретиться с ним и высказать ему все это, возможно, не в лестной для него форме. Не знаю, почему вдруг на меня напал такой стих. Я находился в состоянии какой-то беспричинной раздражительности.
Однако Итгол не появлялся, и яд, который копился во мне, перегорел. Я понял, что моя раздражительность вовсе не была беспричинной. В том-то и заковыка, что чудовищная, нелепая картина, изображенная в только что прочитанной книжке, вовсе не столь неправдоподобна, как бы мне этого хотелось. Нечто похожее могло случиться и у нас.
Человеку, живущему на Земле во второй половине двадцатого века, не сложно представить себе города и страны, в которых он никогда не бывал – в каждой квартире телевизор. Помню, у меня всегда вызывало досаду, сколь жалкими, игрушечно-декоративными выглядят старинные соборы и средневековые замки в окружении безликих нагромождений из стекла и бетона. Современные здания, не способные состязаться в красоте, подавляют древние постройки своими размерами. Улочки и скверы близ старых соборов всегда бывают запружены стадами автомобилей. А при тех устрашающих темпах производства, какие теперь достигнуты, и ненасытности потребления...
Одним словом, мне уже не хотелось спорить с Итголом, корить его в обмане. Может быть, он и не дурачил меня.
...Вдруг я поймал себя на том, что чувствами никак нe могу оторваться от Земли, мыслю и вижу только как землянин из второй половины двадцатого века.
Но ведь я и на самом деле землянин!
Временами меня охватывали приступы отчаяния. Хотелось ломать и крушить все вокруг. Но это состояние буйства я переживал только в воображении. Мой рассудок слишком рационалистичен; я никогда не мог целиком отдаться во власть чувств. Мне пришло на ум, что это качество родкит меня с римлянином из эпохи позднего императорского Рима. А от этой несуразной мысли протянулась ниточка к другой: в нашей земной истории уже была аналогия происшедшему на Земтере.
Нет, сходство было не в уровне техники и не в размахе производства. Оно выражалось в отношении людей к прошлой культуре. В ту пору греческие и римские храмы обращались в руины вовсе не потому, что пришли в негодность, а потому, что стали не нужны людям новой цивилизации, которая тогда едва лишь зарождалась, А спустя почти десять веков из-под праха и мусора начали извлекать погребенные богатства, поражаясь красоте и совершенству творений античных мастеров. То время – время раскопок и открытий – назвали эпохой Возрождения.
На Земтере возрождение невозможно. Для них история уже кончилась. Случилось нечто страшное, непоправимое. Не война и не ядерная катастрофа погубили их, а то, что люди начали поклоняться благополучию. Комфорт и достаток стали единственно желанным, к чему они стремились. Похоже, что цели они достигли. Но какой ценой!
* * *
А между тем мое положение определилось. Меня пригласили в земтерскую канцелярию. Чиновник вручил мне жетон – удостоверение личности.
Поселиться я мог где угодно: незанятых помещений всюду хватало, но прежде чем выбрать, я решил осмотреться. Просторные пешеходные тоннели соединяли смежные этажи. Они были безлюдны, как вокзалы метро в ночные часы. Полотно движущейся дороги скользило безостановочно вдоль наклонных галерей. Оно было разделено на полосы, скорость возрастала к центру. Принципиально в этом способе сообщения не было ничего нового, если, правда, на учитывать масштабов – земтерский метрополитен обнимал целиком всю планету. Но грандиозность технических сооружений давно уже перестала кого-либо поражать. Вообще изумление, которое якобы испытывает человек перед величием техники, всегда преувеличивалось. На самом дел.э по-настоящему можно удивиться один-два раза, а после все остальное воспринимается уже как должное. Взять хотя бы поколение наших отцов и дедов: при их жизни совершился переход от лучины и керосиновой лампы к огням гидроэлектростанций и от конной упряжки к электровозу и воздушным лайнерам. И люди ко всему привыкли.
Если разобраться, я и сам принадлежал к поколению, на чьих глазах происходила техническая революция.
А что сильнее всего затронуло мое воображение? Тайна!
Мир, где я родился, был тихим и патриархальным.
Вернее, таким он предстал мне: я родился в захолустном городишке, который, сколько ни кичился своим местоположением, сколько ни наговаривал на себя лишнего, на самом Деле прозябал на задворках истории – главные события века развертывались вдалеке от нашего города. Улицы моего детства были покрыты травой, а не задавлены асфальтом, как стало позднее. Лошадиный навоз доставлял усладу воробьям, а зимой мерзлыми кругляшками можно было кидаться вместо камней. Первое мое знакомство с чудом произошло на ближнем углу нашей улицы. К тому времени я уже видел аэроплан и автомобиль, но не они поразили меня.
На углу улиц стояла водокачка – насыпная избушка на курьих ножках. В ней даже оконца были сказочно крохотными. Воду носили на коромысле. Старшая сестра частенько брала меня с собой. Очень хорошо помню деревянный пенальчик, одним краем выставленный наружу из окошка водокачки. Сестра опускала в него копейку, пенальчик уползал внутрь – копейка исчезала. Сестра подставляла ведро под кран, из него начинала хлестать вспененная от напора струя. Когда ведра наполнялись, вода переставала течь, последние капли шлепались в пробитую на земле водомоину.
Вот этот пенальчик, проглатывающий наши копейки, и был для меня чудом, которое затмило и самолет, и автомобиль. Позднее я узнал – в будке, за крохотным оконцем, сидел одноногий инвалид, он открывал и завертывал кран, пуская воду, и забирал из пенала копейки. На них он и жил. Из-за малого роста я не мог видеть, что происходит за окошком, и все казалось мне таинственным.
Потом хибарку снесли, на ее месте поставили чугунную колонку с тугим рычагом, и за воду не нужно стало платить.
За мою недолгую жизнь наш заштатный городишко преобразился. "Вода пришла в дома",-помнится, именно гак писали в местной газете. Правда, в деревянные развалюхи на нашей улочке она так и не пришла, ее по-прежнему носили в ведрах на коромысле. Это древнее приспособление для переноски тяжестей оказалось куда живучей, чем, например, паровые двигатели: на его веку рождались и гибли империи, пески погребали пирамиды и города, появлялась и отживала техника – а коромысло оставалось. Но это мелкие частности, а вообще технический прогресс наступал на нашу улочку широким фронтом. Кино из немого стало звуковым, цветным, объемным, широкоэкранным и наконец-тоже "пришло в дома". Никак не обойтись без этой трафаретной фразы. За мои годы в наш дом чего только не приходило, и еще бы продолжало приходить, если бы он не сгнил и нам не дали квартиру в новом районе.
Планировка на всех этажах Земтера одинаковая, выбирать не из чего. Я остановился там, где меня застигла ночь: тридцать второй этаж, сектор БЦ. Чтобы прописаться и встать на учет, потребовалось совсем немногое: достаточно было опустить свой личный жетон в отверстие хлоп-регистратора и все данные обо мне сразу же поступили в вычислительный отдел адресного блока. Взамен жетона хлоп-регистратор выплюнул мне небольшую карточку. На форменном свитере, выданном мне в больнице, имелся специальный кармашек для нее.
Я стал полноправным гражданином Земтера. Меня предупредили, что в течение первого месяца я могу не являться в Т-пансионат, куда я автоматически был приписан.
Я не поинтересовался, что такое Т-пансионат. Мне почемуто не очень хотелось являться туда.
Месяц свободного времени был кстати. Мне необходимо было связаться с Итголом. Увы, в покое меня не оставили. Назавтра в квартире появился человек в форменной блузе.
– Представитель земтерского гипноцентра, – отрекомендовался он. Поскольку вы человек -новый, мне поручено проводить вас в операционное ателье,
– Это еще что такое?
– Разве вы не собираетесь надеть гипномаску?
– Гипномаску?..
Выяснилось, что все жители Земтера носят гипномаски.
Многие даже и не знают собственного лица Раз в три года проводятся всепланетпые конкурсы красоты. Победители мужчина и женщина – становятся эталонами гипномаски,
– Зачем это понадобилось?
– Для справедливого распределения счастья.
Я не поверил своим ушам.
– Разве счастье можно распределить? При чем здесь гипномаски?
– На всей планете уже в давнюю пору установлено равенство благополучия. Понятия "нужда", "бедность" позабыты. Однако люди не стали счастливы. Достаточно было человеку родиться с каким-либо физическим изъяном, как все усилия наисовершеннейшей системы воспитания, все блага, получаемые каждым, не могли сделать его счастливым. Гипномаска окончательно и навсегда уравняла людей. Даже и в давние времена люди стремились походить друг на друга. Особенно преуспевали женщины. Стоило объявиться новой красавице, кинозвезде, как добрая половина женщин гримировалась под нее: перекрашивали волосы, подрисовывали брови, вставляли искусственные ресницы, зубы, наклеивали носы... Успеха достигали немногие. Большинство не столько приобретало, сколько теряло: под гримом незамeтными становились и те крохи привлекательности, которыми наделила их природа. Фальшивая красота не сделала женщин счастливыми. (Впрочем, все это в равной мере относится и к мужчинам.) С изобретением гипномаски не нужно стало ухищряться, кому-то подражать. Теперь каждый выглядит точно так, как самый совершеннейший из людей.
– А у вас не стало больше несчастных? Все одинаково счастливы?
Он ничего не ответил, только странно взглянул на меня, будто я задал неприличный вопрос. Мне почему-то вспомнилась известная восточная поговорка: "В доме повешенного не говорят о веревке".
Больше я не затрагивал эту щекотливую тему.
Мне не очень хотелось походить на истуканно-красивого типового земтерянина, но и выделяться среди других не имело смысла. Я чуть было не дал согласие, но мысль об Игголе удержала меня. Не знаю, как ему удастся отыскать меня даже сейчас, а тем более, если я растворюсь среди миллиардов остальных земтерян.
– Я не желаю надевать гипномаску.
Чиновник изумленно посмотрел на меня.
* * *
Несколько дней я провел в ожидании Итгола. Мне никуда не хотелось выходить, но я старался как можно больше бывать на подземных улицах. Только так и можно было рассчитывать на случайную встречу с ним. Погруженный в свои заботы, я не замечал толпу любопытных, которая сопровождала меня повсюду.