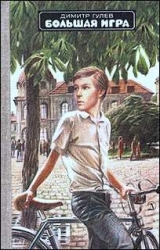
Текст книги "Большая игра"
Автор книги: Димитр Гулев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
– Не надо! – остановила его Здравка. – Не делай так, прошу тебя.
Они подошли к школьному забору, еще немного – и войдут во двор, над которым уже разносилась протяжная трель первого звонка.
«А то мне будет неприятно сидеть рядом с тобой за одной партой, – хотелось сказать Здравке. – А я хочу сидеть с тобой!»
Но она промолчала. Толковая девочка, как сказала бы ее бабушка, никогда не признается в таких вещах даже самой себе.
Здравка решила, что они с Паскалом спрячут знак под партой. И всё! Если только Досё не наябедничает учительнице Геринской, хотя, впрочем, разве они сделали что-нибудь плохое? Теперь весь класс будет им завидовать: здорово они придумали, как переходить проспект! Даже Крум и его приятели лопнут от зависти!
4
Ох уж эти девчонки, эти девчонки!
Еще вчера играли вместе с мальчиками, хоть те и были заняты порой своими мальчишескими проказами. Девочки тогда, засунув кукол в картонные коробки, прыгали через веревочку, катались на роликовых коньках или на велосипедах и вдруг…
Стоп! Большой стоп! Такой же, как нарисовал Паскал, чтобы остановить движение на проспекте.
Ветка и Венета, восьмой и девятый номера… Неужели и они когда-нибудь вдруг отделятся от общей компании, отлетят от общей стайки – и словно тысячи километров лягут между девочками и их вчерашними товарищами?
Правда, Лина гораздо старше, ровно на три года старше Андро и Крума, но почему только теперь Крум задумался об этом?
Неужели три года имеют такое значение? Лину просто невозможно узнать.
А может, ему это только кажется?
Или они с Линой сейчас как раз в том возрасте, когда разница в один год равняется пяти?
Между обедом и ужином Андро всегда норовил перекусить, и его любимая еда в это время – толстый кусок хлеба с маслом и с чебрецом. Успел не успел сделать домашние задания, тут Андро все бросает и отрезает кусок хлеба. А заодно достает из футляра блестящий тромбон и, пока медленно, с удовольствием жует хлеб, протирает инструмент, чтобы ни пылинки, ни пятнышка. Для этого у Андро припасена специальная желтая, как воск, паста, которую он бережет только для тромбона.
Сто раз, тысячу раз Крум видел, как Андро перекусывает, радовался неуемному аппетиту друга, потому что, как говорит Андро, если играешь на духовом инструменте, нужно здоровье, легкие должны быть как кузнечные мехи.
И вдруг Крум стал замечать: а ведь после обеда сестра Андро Лина не стала бывать дома! Несколько месяцев назад это не произвело бы на него ни малейшего впечатления. Дома она, в школе – какая разница? Но вот Андро проглатывает последний кусок, старательно вытирает губы, берет в рот мундштук тромбона. Расхаживая по комнате, сжимает и разжимает свои гибкие длинные пальцы. Останавливается, слегка расставив ноги. И вместе с первыми, легкими, как дыхание, звуками музыки Крум вдруг ощущает: Лины нет рядом, ушло в прошлое время, когда они играли все вместе. И по вечерам вместо Лины из школы приходит совсем другая, незнакомая и далекая девочка.
Светлоглазая, как Андро, с поднятыми уголками миндалевидных глаз и с черными как смоль волосами, Лина казалась еще тоньше и выше в своей темно-синей школьной форме. Она уходила из дома в обед, возвращалась к вечеру и на их перекрестке почти не появлялась. Свою черную кожаную сумку она носила не в одной руке, а держала сразу обеими, как будто ей тяжело, и Крум знал: сумка набита учебниками, тетрадками, книгами и всякими девчачьими штучками, она и вправду тяжелая.
Кончились летние каникулы, когда семиклассники то целые дни проводили вместе, то расставались на две, три, четыре недели. Теперь они снова ходят в школу и все идет по заведенному порядку. Крум учился в первую смену. Придя домой, он обедал и сразу же после того, как Здравка отправлялась в школу, садился за уроки. Пока задавали немного, и, если сейчас не запускать, потом, осенью, когда заданий на дом прибавится, будет легче с ними управляться. Крум занимался старательно, вникал в прошлогодний материал, листал новые учебники, вчитываясь в то, что предстояло изучать. Многое казалось ему интересным, манило, он погружался в неповторимое, ни с чем не сравнимое состояние, когда ты еще не настолько взрослый, чтобы на тебя легли неотложные заботы и обязанности, но и не настолько мал, чтобы не чувствовать, как растешь с каждым днем, с каждым новым уроком, и не испытывать приятного волнения от того, что открывается мир…
– Крум, сынок, ты разве не пойдешь гулять?
Бабушка стояла в дверях комнаты, выходящей окнами во двор, и ласково смотрела на него.
Городской шум оставался где-то наверху, а во дворе, за фасадами домов, было тихо и уютно. Слева на оконных стеклах алеет долгий осенний закат, и вместе со светом уходящего дня что-то теплое, знакомое проникает в тесное пространство между домами, и кажется, что дома приближаются друг к другу в предвечернем покое.
Бабушка что-то спросила?
Крум поднял голову.
Он зачитался, на этот раз учебником физики: не оторвешься от всех этих формул. И вдруг в ушах зазвучал тромбон Андро, а перед глазами мелькнула Лина со своей сумкой, которую она сжимала обеими руками. Такая знакомая и в то же время совсем незнакомая – без привычной школьной сумки, в туфлях на высоких каблуках, с зачесанными кверху черными блестящими волосами. Такой увидел ее Крум, когда она шла по вечерней улице рядом со стройным парнем – тем самым, кого Паскал назвал братом.

И что сейчас для него важнее?
Физика с ее законами и формулами? Лина?
Как поразила она Крума и походкой, и зачесанными кверху волосами, и ухажером!
Или бабушка, стоящая в дверях с блюдечком золотистого, еще теплого варенья из айвы, сладковатым запахом которого пропитался весь дом?
– Поешь! Попробуй!
Крум взглянул на часы на этажерке с книгами.
Скоро половина пятого.
Андро уже давно съел бутерброд с маслом и чебрецом и сейчас, наверно, занят своим тромбоном.
Спас, конечно, уже во дворе, гоняет в футбол.
– Не хочется.
– Попробуй, попробуй! – уговаривает бабушка. – Это же не еда. Только попробуй.
Крум зачерпнул ложечку варенья, вдохнул густой, теплый аромат айвы.
– Вкусно!
– Была бы Здравка дома, давно уж облизала бы блюдечко.
– Оставь ей.
– Я оставила. Пенки.
– Она любит варенье.
– Она все любит, – вздохнула бабушка. – Глазами любит.
– Как это глазами? – спросил Крум, закрыв учебник и положив его на правый угол стола, на аккуратную стопку аккуратно обернутых учебников и тетрадок. На левом углу Здравка держала свои учебники, тоже заботливо обернутые Крумом. – Как это глазами, бабушка? – повторил Крум, поняв, что она говорит не только про Здравку.
– Да так… – Бабушка провела ложечкой по густому, золотистому варенью, осевшему на дно мелкой тарелки. – Большинство людей так любит, глазами. Увидят что-нибудь, и все. Вынь да положь! А по сути им совсем это ни к чему.
– А как же еще можно увидеть это что-нибудь, – Крум подчеркнул последнее слово, – если не глазами?
И вдруг понял, что он любит разговаривать с бабушкой, когда они одни. В такие минуты она становится немножко другой и разговаривает с ним, как со взрослым. Получается, что бабушка вроде расспрашивает Крума об уроках, о товарищах, а чувствуется: мысленно она далеко-далеко, в тех годах, когда отец Крума был еще мальчиком, а может, еще дальше – в юных годах самой бабушки и деда, которого Крум знал только по фотографиям в старых альбомах с толстыми переплетами.
– Ну, иди же погуляй, поиграй, – повторила бабушка. – Игра – это ведь тоже ученье.
– Ну вот, ты всегда так: начнешь и не договариваешь!
– Что тебе сказать… Сердцем должен видеть человек! Глаза и хорошее, и плохое видят со стороны. Снаружи. Только сердце человека чувствует, что добро, а что зло.
Крум понял: пока бабушка варила в кухне варенье и от медного таза с булькающим желе шел пар, она думала о чем-то своем, о чем он ничегошеньки не знает и даже не подозревает, но что странно переплетается с его сегодняшними мыслями и даже вносит в них ясность.
– А хорошее варенье мы тоже сердцем чувствуем? – Крум вдруг развеселился и решил сбить бабушку с толку.
– Варенье для еды. А человек и варенью, и обеду тоже радуется. И набрасывается на еду, даже если не голоден.
– Это обжоры. Как Иванчо, – вставил Крум.
Ему вдруг пришло кое-что на ум, от чего он хотел бы избавиться, чтобы не выдать свое волнение перед бабушкой.
– У Иванчо хороший аппетит, потому и ест. А вот наша Здравка на все набрасывается: попробует то, попробует это, все хочет отведать, хоть ей это и не нужно.
– Вырастет, – успокоил ее Крум, – и даже диету будет соблюдать.
– Вырастет, – согласилась бабушка, едва заметно улыбнувшись тонкими бледными губами. – Но запомни, что я тебе скажу: чему человек научится, пока маленький, то с ним навсегда останется, таким и вырастет.
– Да ты философ, бабушка! – засмеялся Крум. – И маленькой тоже была философом?
– Конечно, – ответила бабушка. – А разве иначе выросли бы у меня такие внуки, как ты и Здравка?
– Только тогда ты была маленьким философом, а теперь…На языке вертелось: «Большой философ», но он понимал, что это прозвучит насмешкой.
– А сейчас старый, – договорила за него бабушка. – Старая у тебя бабушка. Ну, иди погуляй. В играх тоже растет человек. А растешь, значит, ума набираешься.
– Я возьму велосипед.
– Бери.
В темной прихожей за входной дверью у стены поблескивали спицами и рулями, звонками и рамами два велосипеда: Здравкин – белый и его – оранжевый.
– Бабушка! – Крум нажал звонок оранжевого велосипеда, и бабушка выглянула из кухни. – Бабушка! – Крум поколебался. – Я глупый, да?
Бабушка удивленно посмотрела на мальчика.
– Я все выдумываю, да?
– Хороший ты мой, – помолчав, едва слышно прошептала бабушка.
Крум почувствовал комок в горле.
Что-то властное, никогда не испытанное поднялось в его душе. Десятки вопросов, смутных, неясных, мелькали в голове, хотелось подольше поговорить с бабушкой, но Крум понимал: на его вопросы никто, кроме него самого, не ответит, это и означало, что он растет и взрослеет.
– Привет, бабушка!
– Привет! – долетело до него. В голосе бабушки чувствовалась грусть и улыбка.
Спустя годы, стоило только Круму вспомнить детство, перед ним вставал этот мягкий осенний день. Наверное, с него началось осознанное постижение Крумом самого себя, то незабываемое, невозвратимое время.
5
Детство семиклассников проходило вдали от лугов, лесов и гор, они привыкли собираться стайкой на городских перекрестках и тротуарах, на мощенных булыжником или асфальтированных улицах, они росли, не зная ночного, усеянного звездами неба, покоя плодородных полей, красоты ранних рассветов, не радуясь естественной привязанности к животным. Их мир был совсем иным. Городские дети, они знали до тонкостей марки разных машин и давно свыклись со стальным гулом миллионного города. Их понятия о пространстве определялись бульварами, проспектами и площадями, они чувствовали себя дома именно в городе, под люминесцентным освещением, среди многоэтажных зданий, оживленных улиц, магазинов, звона трамваев, рева автомобилей, под небом с крестами антенн, в парках, где деревья, кустарники и зеленые газоны были так тщательно ухожены, что казались ненастоящими.
Место, где чаще всего собирались мальчики, было заброшенным пустырем, который благодаря упорству отца Иванчо еще не застроили. Пустырь с небольшим холмом, возвышающимся на самом его краю, находился как раз в углу микрорайона. От улицы пустырь был отделен низким покосившимся забором с одной стороны и каменной стеной – с другой. За дощатым забором, посреди просторного двора, стоял желтый крашеный дом. Там на втором этаже жил Иванчо Йота.
И оттого что дом находился совсем рядом с пустырем, Иванчо чувствовал себя счастливчиком: достаточно посмотреть в окно – и увидишь, есть ли кто-нибудь из ребят на площадке. Но в том, что пустырь был рядом с домом, крылись и неприятности. Зимой тут собиралась детвора всего микрорайона кататься с горки на санках и коньках. Все старались съезжать не к кирпично-бетонной стене, а к деревянному забору: что ни говори, в случае чего, когда летишь на санках с горы, врезаешься в доски. Оттого-то доски всегда были поломанные, расшатанные, а в заборе зияли дыры. Тщетно отец Иванчо пытался залатать забор.
Летом тут же гоняли мяч. Места было все же маловато, и поэтому забивали мяч в одни ворота, состязались, кто лучше забьет и кто быстрей отобьет мяч. А ворота расположены у того же забора. Каждый неотразимый удар Спаса в каменную стену разносился по этажам орудийным залпом, жильцы так и вздрагивали от неожиданности. Удар в забор был помягче, но тоже хорош: одной-двух досок в этой и без того сильно расшатанной изгороди как не бывало!
Высокий, сутуловатый, словно стесняющийся своего роста, издерганный бухгалтерской работой, отец Иванчо смотрел на свой дом как на оплот спокойствия и независимости. Каждую субботу и воскресенье он надевал старые брюки и возился во дворе или в доме, стараясь починить, что только можно. То менял черепицу на крыше с риском поскользнуться и грохнуться на каменные плиты во дворе, то подмазывал известкой цоколь, то красил оконные рамы, а весной белил известью стволы плодовых деревьев в саду. Больше всего хлопот доставлял ему все-таки забор – отец то и дело прибивал и укреплял расшатанные доски, и все это время Иванчо должен был стоять рядом и помогать отцу. Жильцы нижнего этажа палец о палец не ударили, чтобы навести порядок во дворе и в доме. Больше того, они беспрестанно хлопотали, чтобы дом снесли, а на пустыре построили большой жилой массив. Так что упорство отца Иванчо помогало мальчикам сохранить площадку для игр, но с другой стороны, он постоянно воевал с озорниками, которые не оставили в заборе целой доски.
«Ну какой смысл сохранять эту развалину, когда каждый метр земли в городе стоит так дорого! – доказывали жильцы нижнего этажа разным комиссиям, которые приходили осматривать дом и пустырь. – Ведь не архитектурный же памятник перед нами».
«Зато какой дом! – мысленно спорил с ними отец Иванчо. – Крепкий, ухоженный. И двор – не двор, а сад. Не зря ведь висит табличка у входа: „Дом образцового содержания“. Находятся же такие, кто вознамерился его снести, чтобы получить квартирку, прийти на готовенькое! Да они и новое жилье мигом запустят!»
И он прибивал доски, снова красил их, обивал железом, долговязый, худой человек в очках с проволочной оправой, съехавших на кончик носа, и в шерстяной шапочке, сползшей на затылок…
У Иванчо сжималось сердце при виде отца, а отец все ворчал:
– Не разевай рот, не стой сложа руки. Не притворяйся, что ты не видишь, куда нужно руки приложить! Учись трудиться! Ты и твои приятели все прахом пустите. И дом, и забор готовы сломать. Доски целой не осталось!
Иванчо молчал. Помогал отцу. Тайком вздыхал. Сердце разрывалось: именно в воскресенье, в самое лучшее беззаботное утро, отец обязательно находил какое-нибудь неотложное дело и не оставлял сына в покое. Отвертеться под предлогом, что надо учить уроки, или закрыться в комнате не удавалось. Вот и старался Иванчо хоть немного сохранить забор, вставая в ворота, прилагая отчаянные усилия, чтобы отбить точные удары Спаса. Зимой только он один съезжал на санках не к поломанному забору, а к бетонной стене, вытянув вперед ноги, чтобы защитить от удара санки…
Сейчас, подходя к пустырю, к потемневшей от дождей' стене, Крум сразу услышал глухие удары футбольного мяча. Спас был явно не один, и в воротах перед забором, как всегда, стоял Иванчо.
Крума так и подмывало пройти мимо дома Андро. После того вечера, когда он увидел Лину с братом Паскала, Крум ни разу не заходил к Андро. Бабушкины слова открыли ему что-то новое в нем самом, о чем он и не подозревал. Теперь, когда он услышал удары мяча, не было желания делать крюк и пройти мимо дома Андро и только потом направиться сюда, на пустырь, как ему хотелось раньше. Крум не понимал, что с ним, но был уверен: как бы он ни поступал, что бы ни делал, надо быть честным прежде всего перед самим собой, а уж потом перед другими.
«От людей убежишь, от себя – нет», – любила повторять бабушка. И еще: «От страха убежишь, от стыда – нет!»
Обойти дом Андро, никому ничего не объясняя, сразу направиться к пустырю – тоже как-то глупо. В то же время, хотя он знал, что Лина сейчас в школе и ему все равно ее не встретить, а может быть, именно поэтому не заходить к Андро было так заманчиво, сладостно-мучительно, что Крум поддался охватившему его настроению.
Обычно Лина возвращалась позднее, и Крум чувствовал ее приближение, еще не успев увидеть. Всем казалось, что он всецело поглощен игрой с друзьями, а Крум почти не сводил глаз с горбатого мостика. И вдруг его охватывало какое-то странное волнение. Появлялась тонкая фигурка Лины, обхватившей обеими руками сумку. Крум мгновенно преображался. Вот он – притворно сосредоточенный, взволнованный, оживленный… А все его существо – глаза, уши, колотившееся сердце – устремлялось навстречу девочке, которая медленно приближалась по тротуару.
Никто не кричал: «Лина идет из школы!» На улице и на пустыре тоже все было по-прежнему. Андро, например, даже не замечал появления сестры, а Круму в эти мгновения казалось, что все на свете переворачивается: внутри у него что-то кричало, рвалось, ликовало. И новый день, в сущности, начинался для него только сейчас.
Он и сам не понимал, что с ним происходит. Впрочем, Крум не очень-то задумывался над тем, что почему-то так волновало его. Так было до того вечера, как Крум увидел Лину с незнакомым парнем. Крум с мальчиками, как обычно, был в тот час на пустыре. Лина прошла мимо, даже не взглянув на недавних своих приятелей. Андро тоже было не до сестры. А у Крума все внутри похолодело, как будто он вдруг оглох, или нырнул в морскую пучину, или, наоборот, стремительно поднялся ввысь на самолете. И долго еще, пока Лина и незнакомый парень не скрылись за углом, он все проваливался куда-то, а потом вдруг ясно осознал: вчерашнее, привычное исчезло. Так Крум вступил в пору возмужания, но возмужания безрадостного, когда понимаешь, что ты уже не тот прежний и никогда не вернется беззаботность, в которой ты пребывал до вчерашнего дня и с которой еще не расстались твои друзья.
6
За спиной Крума послышался знакомый звонок, скрип-нули педали, мягко зашипели шины, и, не поворачивая головы, Крум узнал Яни. Больше никто не умел подъезжать так незаметно, неожиданно, и никто другой не произносил Крумово прозвище так: «Боцка», нечто среднее между «т» и «ц». Крум, Яни и все их приятели учились вместе с первого класса, хорошо знали друг друга, и давно уж никто не обращал внимания на то, как произносит Яни некоторые слова, когда он волнуется. Учителя тоже привыкли к этому. Это было нечто свойственное только ему, как и красный пионерский галстук, который он не снимал никогда.
– На пустырь, да? – спросил Яни, поравнявшись с Крумом.
Подражая Круму, он купил велосипед тоже оранжевого цвета. Велосипед у Яни всегда сверкал чистотой. Над крылом приделана фара, и сумка с инструментами находится под сиденьем, а не в багажнике – все как у Крума. Единственная разница – сине-белый греческий флажок, который Яни прилепил к раме, там, где у Крума пестрела яркая фабричная марка «Балкан».
– На пустырь!
– Ребята уже играют?
– Играют, – подтвердил Крум.
Яни искоса взглянул на приятеля.
Они ездили на велосипедах одинаково медленно, немного даже лениво, время от времени почти замирали на месте, не поворачивая руль для равновесия, соблюдая дистанцию, оба высокие, сдержанные, молчаливые. Только Крум был более светлым, не светлоглазым, а именно светлым, а Яни – типичный южанин, смуглый, со своеобразным овалом лица, прямым носом и густыми вьющимися волосами.
Сильный не по годам, замкнутый, Яни был загадочно молчалив, и мальчики не знали, что это – стеснительность или вообще таков у Яни характер, но впечатление о недоступности Яни еще более усиливалось. Яни открывался только в обществе Крума. Ему единственному отдавал он свою молчаливую, но верную и неизменную дружбу, и все знали: что бы ни случилось с Крумом, попади он вдруг в беду, рядом обязательно окажется Яни. Сначала его называли Грек, и только Крум упорно звал друга Яни, только Яни. Постепенно приятели, а скоро и весь класс привыкли к необычному, звонкому и краткому имени своего одноклассника.
Много лет назад, когда они пришли в первый класс, учительница Николова стала вызывать их по списку в журнале и спрашивать, где кто родился, кем работают родители, а сама внимательно поглядывала на каждого. Яни, помнится, так ответил на ее вопросы: «Родился в Софии, в Болгарии, но мы из Эллады, из города Лариса, а отец работает на заводе электрокаров».
В классе засмеялись – первый общий ребячий смех, который тут же сдружил их, и, вчера еще незнакомые, мальчики и девочки сразу почувствовали себя сплоченнее. Так же будут они смеяться вместе и во втором, и в третьем, и в старших классах и так же умолкать под спокойным и усталым взглядом учительницы.
Но тогда смех еще не успел замереть, как Иванчо встал из-за парты и крикнул: «Скажи: „Спас!“» – «Спас!» – не поняв, в чем дело, отчетливо повторил Яни, мягко произнося звук «с».
Класс снова залился смехом.
Учительница, терпеливо выждав, пока они успокоятся, тепло произнесла: «Садись, Яни!»
Яни сел. Он сел рядом с Крумом – совсем случайно, просто, входя в класс, они оказались рядом: светленький, аккуратный Крум и смуглый, черноглазый Яни. С тех самых пор уже столько школьных лет, каникул, зим и весен они неразлучны…
Удары мяча, голоса Спаса и Иванчо слышались все отчетливее.
– Что ты лупишь изо всех сил? – доносился усталый голос Иванчо.
– Сейчас опять повалит забор, – заметил Яни, медленно вращая педали велосипеда.
На мгновение все затихло. Потом, прежде чем Крум и Яни успели понять, что произошло, с пустыря донесся глухой удар, сопровождаемый сухим треском и криком Иванчо, одновременно ликующим и унылым:
– Попал!
Крум и Яни быстрее заработали ногами. Через минуту перед ними открылся пустырь с темным забором в глубине. Спас и Иванчо повернули головы, несколько мальчиков поменьше тоже перестали играть в мяч и уставились на забор.
Толстая доска вылетела почти под прямым углом, в образовавшейся щели застрял новый футбольный мяч Спаса – из кусочков светлой и черной кожи.
– Ну, все, забору конец, – оценил положение Яни. – Потрясающий у него удар!
Несмотря на все старания отца Иванчо, забор здорово был расшатан, и при каждой попытке вытащить застрявший мяч доски ходили ходуном.
– Подожди! – остановил Спаса Иванчо. – Подожди, так ты совсем забор повалишь.
С необыкновенной при его полноте ловкостью Иванчо перепрыгнул через забор. Отошел в сторону. Поднял сжатую в кулак правую руку. Нацелился. Напрягся и, молниеносно опустив руку, толкнул мяч плечом. Мяч вылетел на пустырь. Но зато теперь в дыре между досками застрял сам Иванчо.
– Пропади ты пропадом! – рассвирепел он, пытаясь вылезти.
Потом, убедившись в тщетности своих усилий, подался вперед, резко наклонился и, с треском выломав еще две соседних доски, выбрался.
Крум и Яни, облокотившись на велосипеды, молча наблюдали за происходящим.
– Ну, вот и все! Готово! – удивленно проговорил Иванчо, с невинным видом разглядывая доски, точно сломал их кто-то другой. – Вот уж теперь отец расшумится!
То, что отец Иванчо станет ворчать и в ближайшую субботу снова примется чинить забор, было настолько в порядке вещей, что мальчики снова принялись за игру, а Спас взял мяч. Он то ловко подбрасывал его ногой, то отбивал головой.
– Ну, вы идете? – спросил он Крума и Яни, не отрывая глаз от мяча.
Крум обернулся к Яни:
– Тебе хочется погонять мяч?
Яни безучастно пожал плечами. Он во всем следовал Круму и сейчас, как обычно, ждал, что тот решит. Конечно, можно и мяч погонять. А велосипеды оставить в стороне, у стены, чтобы какой-нибудь нечаянный удар не попортил спицы.
Но Круму играть не хотелось. Он все еще не мог отделаться от своих мыслей, все ощущал во рту сладкий и липкий запах айвового варенья. Смутное беспокойство и волнение не покидало его, а потому ему не сиделось на месте. А что может быть в таком случае проще, если у тебя есть велосипед? Знай себе крути педали. Монотонно шуршат шины, проносятся мимо машины, сверкает во всем своем осеннем великолепии заходящее солнце, а рядом молча крутит педали Яни и, как это бывает только у настоящих друзей, не стесняет его ни своим молчанием, ни говорливостью.
– Поехали!
Мальчики въехали на холм. Огляделись. С минуту постояли неподвижно, прислушиваясь к мерным ударам мяча, – Спас подкидывал мяч ногой, потом отбивал головой, снова ногой, снова головой. Слышалось недовольное ворчание Иванчо из-за сломанного забора, визг и крики малышей, возившихся со стеклянными шариками. Можно ехать куда глаза глядят, все улицы принадлежат им, и, как только Крум дал сигнал – нажал на звонок – и поехал вниз по улице, Яни быстрее завертел педалями, стараясь не отставать от товарища.
7
Не было поблизости ни лугов, ни лесов, до горы Витоши добраться нелегко, а мальчикам так хотелось побродить на просторе!
В маленьком скверике поставили скамейки, оградили газон, насыпали песок в песочницы, и в скверик стали приходить в основном женщины с малышами. Пенсионеры тоже целыми днями сидели в сквере со своими авоськами. И матери из-за своих отпрысков, а тем более старики не выносили громких мальчишеских криков, не говоря уж об их веселых играх.
Стало быть, мальчикам оставались тесные дворики, уличные тротуары, запруженные машинами проспекты, пустырь да школьный двор – правда, просторный, но заасфальтированный до самого забора, без единого деревца или кустика. Здесь можно было играть и в футбол, и во что угодно, но мальчиков не тянуло туда – какая там игра! Терялось ощущение свободы, охватывала какая-то скованность, точно просто продолжалась большая перемена…
Яни никогда не спрашивал, куда они направляются, поэтому Крум мог спокойно крутись педали и не оглядываться. Время от времени он слышал тихое шуршание шин за собой, ощущал присутствие друга – Яни неукоснительно следовал за ним.
Как только мальчики миновали узкие, сравнительно тихие улицы, где чувствовали себя хозяевами, Крум подался вправо. Ехали у самого края тротуара, а машины, поравнявшись с мальчиками, уносились вперед. Каждое неосторожное движение влево было рискованно: если даже зажатый потоком машин водитель заметит их вовремя, ему едва ли успеть свернуть в сторону. Если Здравка каталась вместе с ними, Крум никогда не ездил сюда и не разрешал ей выезжать на проспект. Договорились раз и навсегда: хочется поиграть в школьном дворе – слезай с велосипеда, пройди пешком опасную зону проспекта и по мостику, тоже пешком, толкая велосипед перед собой, перейди на другую сторону.
Школьный двор иногда все же манил, просторный и безопасный, особенно к вечеру, когда расходились по домам младшие школьники и никто не мешал, делай что хочешь: повороты, восьмерки, зигзаги – любые выкрутасы. Собиралась целая команда мальчиков, у всех «балканы» – и совсем новенькие, и видавшие виды. Кое-кто мог похвастаться французскими, английскими и итальянскими великами, но таких было немного, и они не возбуждали зависти то ли потому, что владельцы «балканов» были более дерзкими и искусными велосипедистами, то ли потому, что всякие гам задаваки и пижоны, как выражался Иванчо, вообще не очень-то имели здесь вес.
Собирались и девочки, и мальчики, приходили зрители с соседних улиц полюбоваться искусством своих товарищей и время от времени тоже сделать на велосипеде круг-другой.
Более скромное место во дворе занимали обладатели роликовых коньков, по-своему не менее искусные, чем велосипедисты. То стремительное, то медленное и равномерное жужжание роликов неизменно носилось над двором, сдавленным с одной стороны фасадом школы, с другой – жилыми домами.
Издали вся эта шумная вереница походила на пеструю карусель. Порой жильцы возмущались шумом и жаловались и школу, но директор школы, энергичная женщина, долгие годы работавшая учителем, неизменно отвечала: «Двор для детей, двор для игры! Где им еще поиграть, если не здесь!» И сразу пресекала все жалобы и объяснения.
Сейчас Крум, как обычно, направился к школьному двору. Недалеко от большого моста, по которому тянулись бесконечные потоки автомобилей, троллейбусов и трамваев, Крум свернул влево, к крайней полоске шоссе. Он сделал предупредительный знак левой рукой, и водители дали им с Яни возможность спокойно проехать.
На мосту они слезли с велосипедов. Прошли сквозь густое скопление автомобилей и только на другом берегу реки снова сели на велосипеды. Невдалеке, по направлению к центру города, бросалось в глаза старое здание райсовета. Стены здания недавно покрасили в светло-желтый цвет, колонны и оконные карнизы – в коричневый, и на фоне унылых соседних зданий дом этот привлекал глаз. Только ли глаз? Или сердце тоже? «Главное, сердце», – частенько говорила бабушка Здравка.
«Но почему я точно в первый раз его вижу?» – подумалось Круму.
Здание было совсем недалеко от перекрестка и их пустыря, и Крум не раз слышал от бабушки о своем деде, печатнике с белыми усами и тонким благородным лицом, но никогда еще не переступал порога райсовета. В его сознании мемориальная мраморная доска на доме никогда не связывалась ни с ним самим, ни со Здравкой, ни даже с бабушкой. Крум знал, что память о деде – неделимая часть жизни их семьи, его самого. Не зря ведь его часто зовут внуком Крума Бочева, а Здравку – внучкой Крума Бочева. Ну и что из этого? Крума, признаться, это мало волновало.
До сегодняшнего дня, до этой минуты.
Но почему?
Может, и вправду увидел старый дом не глазами, а сердцем?
– Ты всегда смотришь на этот дом, когда мы проезжаем мимо, – сказал Яни, замедляя ход.
Может быть, друг почувствовал его волнение?
– Покрасили его, – пожал плечами Крум.
Значит, он всегда посматривал на здание райсовета. Конечно, в такие минуты в памяти сразу возникал дедушка. Крум отчетливо представлял, как дед выходит из здания, неспешно шагает домой, энергично, уверенно и в то же время плавно, – говорят, у Крума походка точно такая.
Было приятно, что райсовет отремонтировали. Старый дом стал строгим и красивым, не похожим на другие дома на проспекте, единственным в своем роде.
– Надо как-нибудь зайти туда посмотреть, – небрежно заметил Крум.
– Сходим! – улыбнулся Яни.
Мальчики двигались справа, по краю тротуара, но теперь уже не было необходимости пересекать улицу. Свернули в первую прямую улочку и, не слезая с велосипедов, оказались в школьном дворе.
Велосипедистов здесь было немного. Любителей летних роликовых коньков и того меньше, только изредка слышалось длинное «жжжи» – и снова все замирало. Было еще рано, вернее, Крум и Яни пришли слишком рано – вторая смена в школе еще не кончилась, а кому охота играть под строгими взглядами учителей, поглядывающих в распахнутые настежь окна? Шумная ватага в школьном дворе под этими взглядами невольно чувствует себя скованно.








