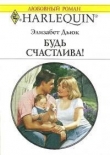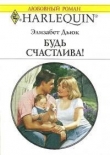Текст книги "Развод по-французски"
Автор книги: Диана Джонсон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)
Она была счастлива и озабочена одновременно, ее угнетало сознание хрупкости человеческого счастья, ощущение – как она говорила сейчас, – что надвигается что-то такое, что способно отнять его. Неужели это будущий ребенок, еще один заложник судьбы? В автобусе парень в синей рабочей блузе, в сущности, совсем мальчишка, уступил Рокси место. Она удивилась, надулась, подумала, что ее приняли за старуху. Не может быть, чтобы был виден ее живот. Вероятно, ее обступает растущее воинство неприятностей. Она снова подумала, что счастье по самой своей природе бросает вызов биологическому детерминизму и потому хрупко, недолговечно, как бактерии, которые не могут долго существовать вне живого организма.
Нажав кнопку кодового звонка, она вошла в переднюю дверь дома номер двенадцать по улице Мэтра Альбера. В подъезде выудила из сумочки ключи, отперла застекленную дверь, ведущую на лестницу. Она помедлила, подождав, пока дверь захлопнется, потом стала медленно подниматься по ступеням, стараясь сосредоточиться на мыслях о том, как это трудно будет с детской коляской и с пакетами подгузников, как хорошо, если бы был лифт, – словом, старалась занять голову никчемными мыслями, чтобы отогнать нехорошее предчувствие. Когда она открыла дверь, в прихожей стоял Шарль-Анри. У стены виднелись два чемодана. Весь воздух вокруг него был словно насыщен смятением, страстью, страхом. При ее появлении лицо его вспыхнуло от стыда и боли. Она сразу все поняла или ничего не поняла. «У меня было такое ощущение, – говорила мне Рокси, – будто мне отсекли голову, и все, что я знала прежде и чувствовала, все кровью пролилось на землю. Чемоданы упакованы, он уходит».
Сначала она твердила себе, что отъезд Шарля-Анри – это очередной бзик, которыми полна жизнь всякого художника, может быть, переменились его творческие планы или сугубо французские обстоятельства, до которых ей нет дела. Он мог взбеситься из-за какого-нибудь политического события или нежелательной встречи, хотя был человеком добродушным. Ей нравились перепады его настроения, загадки его темперамента.
Но сейчас она чувствовала, что он не вернется.
– Ты куда? – спросила она.
– Не знаю. Не знаю, Роксана. Я позвоню. Прости. – Он схватил свои чемоданы и пошел вниз, не оглядываясь.
Первые дни прошли так, как будто ничего не произошло. Шарль-Анри не звонил, и Рокси не звонила ему, потому что не знала, куда звонить. Она впала в молчаливое оцепенение, ее можно понять. Мы привыкли считать, что в жизни все так или иначе образуется. А когда что-нибудь случается и наш оптимизм ставится под сомнение, весь мир вокруг делается похожим на фильмы катастроф – крыша рушится, с чудовищной скоростью летят обломки оконных рам и все такое. Я ее понимаю.
С другой стороны, что ты хочешь, если совершаешь глупые поступки, например, выходишь замуж за иностранца и живешь не дома, в Америке, а где-то еще? Люди привыкли считать, что при таком раскладе трудно надеяться, что все у тебя образуется. Поэтому я не удивляюсь.
Честно говоря, я не совсем секла, чего она так переживает.
– Ты думаешь, у него роман или что? Зачем ему уходить? – допытывалась я. – Разве вы не ладили? Разве были неприятности?
– Не думаю, – отвечала она. – По-моему, все было замечательно. Ну да, я не француженка, но это единственное.
Это еще что значит – «Ну да, я не француженка»? Мне было обидно за ее маленькие американские недостатки, ведь они и мои тоже. Дженет Холлингсуорт заставила меня задуматься над ними.
Нужно утешить ее, это само собой.
– Ты должна поговорить с ним.
– Ни за что! – отрезала она.
Из ее ответа, такого неамериканского, я заключила, что Рокси пребывает в особом состоянии духа, когда простое недоразумение между супругами возводится в степень разрыва. Шарль-Анри уехал за город, отсутствует всего пару дней, даже не считает необходимым позвонить – вот и все, что, по-моему, произошло. Его отъезд – только завязка истории, отнюдь не развязка. Рокси всегда была склонна к преувеличениям. Я попробовала даже разозлить ее, чтобы она ожесточилась, но все было напрасно.
* * *
Шли дни, а Рокси по-прежнему скрывала от всех, что Шарль-Анри бросил ее.
– Есть у меня хорошая приятельница Анн-Шанталь Лартигю, – сетовала она, – но попробуй сказать ей, что Шарль-Анри завел любовницу или ушел от меня, – как она отреагирует? Наверняка усмехнется: «Естественно!» Это так по-французски. У них в крови по любому поводу говорить «естественно», как будто кругом сплошное вероломство. Можно даже подумать, что так предначертано свыше. Во мне, наверное, сидит что-то специфически американское. Я бы никогда не сказала «естественно».
– Дело не в тебе, пойми, это с ним что-то творится, – твердила я. – Ты должна поговорить с ним.
Мы сидели за уличным столиком в «Погребке надежды», трехлетняя Женни лазила по плетеным стульям, нервируя здешнюю собачонку, и улыбалась умственно отсталому мальчику, который постоянно болтался в кафе.
– Опять ты со своим глупым американским оптимизмом, – возражала Рокси. – У тебя нет никаких оснований это утверждать. Все твой менталитет. Американский менталитет.
– Не пойму я тебя. Муж приходит домой и говорит, что едет за город, а ты отвечаешь: ах вот оно что, ну ладно, между нами все кончено. Так, что ли?
Мне казалось, что должны быть взаимные упреки, слезы, сцены. Я решительно не понимала ее покорности, не понимала, почему она так безропотно принимает поведение Шарля-Анри. Рокси вся светилась блаженным светом смирения, хотя они даже не объяснились. Мне оставалось надеяться, что все между ними уладится и станет на свои места – так лодка, идущая наперерез набегающему крупному валу, вздыбится, помедлит на гребне, рискуя опрокинуться на бок или же стать торчком и кормой пойти ко дну, и потом плавно опустится в подошву волны.
3
У сердца свои резоны, каких никогда не постичь разумом.
Паскаль. «Мысли»
Еще несколько слов о характере Рокси и моем собственном. Про нее всегда говорили и говорят, что она чересчур романтична и легко ранима. Что до меня, то я, мол, практична, склонна рассчитывать наперед – значит, «сильная». Людей сбивало с толку то, что я обещала стать «хорошенькой», следовательно, должна быть глупенькой. Хотя Рокси сейчас очень красивая женщина, в затянувшейся юности она выглядела простецки, не обращала внимания на свою внешность, много читала и писала, вместо того чтобы почаще мыть голову, и таким образом завоевала репутацию «сообразительной». Думаю, что мы обе умницы, только Рокси ставят это в заслугу, а мне нет.
Сначала я опасалась, что в тяжелые для Рокси дни ее сентиментальность, податливость и склонность обольщаться только усугубят ее положение. Другие на ее месте (то есть я) сразу попрыгали бы с лодки жизни и поплыли что есть сил к безопасному берегу, тогда как ее, растерянную, потерявшую способность к борьбе, уносит в открытое море. Она доверяла мужу, а он жестоко обманул ее доверие. Нет, не этого ожидала бедная Роксана в такой критический момент, когда ей предстоит скоро родить второго ребенка и когда уже приготовлена комната малышу, и одеяльце, и яркие игрушки, которые подвесят над кроваткой, и странные предметы туалета для нее самой, предписанные медиками (пояса? бандажи?).
Роксана всю жизнь мечтала жить во Франции, не знаю почему. Наверное, еще в детстве она испытала безотчетное чувство неприкаянности и невзлюбила город и страну, где родилась. Как малые дети верят, что их приносят аисты, так Рокси уверовала, что она чужая, что принадлежит другим местам, другой расе. Помимо «Святой Урсулы», у нее в спальне висел большой постер, рекламирующий какой-то исторический фильм под названием «Jules le Grand» – «Жюль Великий». На нем была изображена вечерняя площадь Согласия, цепочки фонарей, запряженные лошадьми экипажи, катящиеся по мокрой листве. Довольно банальный сюжет, снятый, вероятно, с верхних этажей отеля «Мёрис». Кроме того, подружка по школе подарила ей маленькую Эйфелеву башню, привезенную из летней поездки во Францию, – своего рода символ удовлетворения культурных потребностей, чего я, младшая сестренка, совсем не понимала.
Надо ли говорить, что на предпоследнем курсе Роксана отправилась за границу, правда, не в Париж, а в Экс-ан-Прованс. Она была в восторге от города, хотя там толклось такое множество соотечественников, что ей не удалось попрактиковаться с французским. Все равно, когда она вернулась домой, у нее был довольный, слегка таинственный вид, словно она не осмеливалась делиться с нами опытом по части гусиной печенки, улиток и любовных приключений. Я воображала, что именно любовные приключения придали ей самоуверенность и светскость, но я ошиблась. Она была счастлива, что научилась различать романский стиль и готику и читать «Пари-матч». Теперь жизнь в Санта-Барбаре казалась ей пресной.
Рокси познакомилась с Шарлем-Анри, когда с друзьями совершала пешие переходы в Пиренеях. Он был идеальным французом: худощавый блондин с вьющимися волосами, свитер, живописно завязанный на груди, и... кажущееся полное безразличие к женскому полу. Они переписывались два года после ее возвращения в Калифорнию. Потом, когда Рокси решила остаться в университете на дополнительный год, Шарль-Анри приезжал к нам в гости и покорил всех. Еще бы! Так ловко гоняет мяч на корте, такой высокий (повыше наших-то, заметила Марджив) и вдобавок в совершенстве владеет английским. В то время никто из нас не видел живого француза. Надежды относительно Рокси соединились с нашим невежеством, и мы безоговорочно одобрили ее выбор. И не ошиблись: он в самом деле очень, очень мил и неплохой художник. Шарль-Анри всегда держал себя хорошо, во всяком случае, учтиво и независимо. Эта учтивость и независимость как раз и раздражали Рокси. Он и теперь повел себя хорошо, если учесть, что именно он сбежал из дома с замужней чешкой-социологом – так мы теперь называем разлучницу, хотя это и не совсем справедливо.
Предательство по отношению к родным обычаям и культуре – откуда это у Рокси? Разве ей плохо жилось в Америке? Почему она предпочитает Toussaint Дню Всех Святых? Разве это не одно и то же? Я не могу разделить ее преклонение перед всем европейским. Я вижу в Европе много плохого. Это моя беда, мое проклятие. Даже когда я была маленькой девчонкой, мне недоставало одной привлекательной женской черточки – легковерия.
4
Я говорю о том ужасе, который охватывает ее, когда она видит себя оставленной тем, кто дал клятву беречь ее.
«Адольф»
Насколько мне известно, Шарль-Анри не давал о себе знать всю неделю. Роксана не заговаривала о нем и держалась подчеркнуто спокойно. Она показывала мне Париж и водила к своим друзьям. Семья Шарля-Анри тоже ничего не знала, но Рокси волей-неволей придется сказать им, что стряслось. В воскресенье после моего приезда его родные ждали нас к ленчу, и она приедет без мужа.
Свекровь Роксаны, мадам Персан, живая, энергичная матрона лет под семьдесят, взяла за правило каждое воскресенье собирать у себя своих пятерых детей с их семействами. В этот круг попала и я на время пребывания в Париже. Сама Сюзанна Персан – невысокая, белокурая общительная женщина (француженки за сорок сплошь блондинки), зато потомство у нее рослое и спортивное: Фредерик, Антуан, Шарлотта, Ивонна и Шарль-Анри, самый младший. Все они красивы, отлично одеваются и не расстаются с сигаретами. Месье Персан, как я слышала, управлял заводом, который что-то там производил – не интересовалась, что именно. Сейчас он ушел со службы и проводит все время в Польше или Румынии вместе с другими отошедшими от дел французами, консультируя восстановление заводов и ремонт оборудования. Мне не довелось повидать его. Он не приезжал на свадьбу Шарля-Анри. Видимо, события, касающиеся его младшего сына, не стоили того, чтобы тащиться за океан. Или ему просто не нравятся американцы. Нам это не известно.
В будние дни Сюзанна живет в просторной квартире в доме прошлого века на улице Ваграма. Стены у нее увешаны потемневшей масляной живописью, какую нередко коллекционируют в Санта-Барбаре, наследственными гобеленами, набором фаянсовых блюд. Мебель, сохранившаяся со времен Людовика XV, покрыта выцветшей парчой и потертыми вязаными чехлами. Кривизна линий и осыпающаяся позолота, эти следы былого величия, усиливают впечатление похожести на пришедший в упадок мотель где-нибудь в Нью-Джерси. На взгляд американца, впервые попавшего во Францию, обстановка чересчур вычурна и претенциозна, и лишь потом он смекнет, сколько Людовиков было их королями, – значит, здесь это норма.
У Сюзанны под Шартром есть также уютная вилла с теннисным кортом, где на уик-энд собирается семья. С кем бы из французских пар я до сих пор ни познакомилась, у каждой есть по меньшей мере три недвижимых собственности – две в деревне (по одной с каждой стороны) и парижская квартира. Шато под Шартром не является наследственным владением, передающимся от поколения к поколению от самого Карла Великого. Оно приобретено в 1950 году в результате удачного дельца, которое провернул месье Персан.
Итак, в воскресенье Рокси, Женевьева и я сели в электричку, идущую в Шартр. На Женни было нарядное темно-синее платьице и белые носочки. Рокси отчаянно нарумянилась, а я по ее указанию взяла теннисную сумку. По сей день помню эти яркие румяна, которые понадобились сестренке, чтобы показать, как ей хорошо, и скрыть мрак и тревогу, поселившиеся в ее сердце.
Французские родственники Рокси по-прежнему называли ее l'américaine, подразумевая, видимо, что свойства ее характера типичны для всех остальных ее соотечественников, причем как в положительном, так и в отрицательном смысле: откровенность и бестактность, порывистость и неосторожность, щедрость и мотовство, самобытность и неотесанность. Она заработала хорошие очки в их глазах на своих успехах во французском и покорила их сердца намерением обратиться в католицизм.
– Вы, конечно, протестантка, милочка, – заметила мадам де Персан при первой же встрече. – Хорошо, что не что-нибудь экзотическое, например, квакерша.
Рокси не снесла оскорбительного замечания. Дело касалось веры.
– Президент Герберт Гувер был квакером, – возразила она.
– Да, разумеется, выдающийся президент, – поспешила вежливо согласиться мадам де Персан, словно всегда помнила этот важный факт. Однако вопрос повис в воздухе.
– Мои родители конгрегационалисты, – объяснила Рокси, но свекровь все равно казалась озадаченной. Потом, очевидно, решила, что не стоит вдаваться в особенности вероисповедания, о котором она впервые слышит, и переменила тему. Персаны вообразили, что обращение Рокси в католицизм проистекает из чувства долга перед супругом. Поскольку ей предстояло убить в себе зачатки суровой протестантской природы, это рисовалось им определенной духовной жертвой. В сущности же католицизм вполне устраивал Рокси, особенно нравилась ей музыка и пышные одежды священников. Честер и Марджив были в ужасе.
Мы, молодежь, были удивлены, что принадлежность Шарля-Анри к католицизму тяжким грузом легла на совесть наших родителей, отнюдь не религиозных фанатиков и вообще людей широких взглядов. Неслыханная, уходящая в глубины сердца и истории неприязнь к римскому престолу вдруг выплеснулась наружу, предрекая Рокси ежегодную беременность и ежедневное посещение мессы. Их воображение ярко рисовало бедную девочку в черном, судорожно перебирающую четки, ползущую на коленях к месту чудесного явления Богородицы в Лурде.
– Я вовсе не собираюсь становиться ревностной католичкой, – отбивалась Рокси. – Вам, наверное, приходит на ум Ирландия. Это в Ирландии всем заправляют пасторы, а не во Франции. Французы – те избрали таблетки от похмелья.
– Я хорошо помню, как росли дети католиков, – вторила Марджив. – Они дождаться не могли, когда кончится пятница. Уже в пять минут после полуночи они набрасывались на гамбургеры.
Мы были озадачены нелогичностью их рассуждений – при чем тут гамбургеры?
Марджив объясняла:
– Католикам запрещено есть мясо по пятницам. Поэтому они с нетерпением ждали субботы. Боже, это же лицемерие! Как можно принадлежать церкви, которой ты не отдаешься душой и телом?
– Шарль-Анри – человек вообще не религиозный, – упорствовала Рокси. Это подтвердилось. Шарлю-Анри было безразлично, где пройдет обряд бракосочетания.
Их венчали в конгрегационалистской церкви. Потом был прием в саду у наших родителей, потом еще один – изысканный, как сообщила Рокси, – прием в загородном доме у Персанов, которые отметили торжественное событие. Мать Шарля-Анри и одна из его сестер приезжали на свадьбу в Калифорнию, но никто из нас не поехал во Францию. В конце концов Роксана все-таки перешла в римско-католическую веру, но произошло это не под давлением мужа. Она обожала литургию и связанные с ней обряды.
В то утро, когда мы собирались в Шартр, Рокси безумно нервничала. Ее пугал визит и еще больше – перспектива открыться свекрови, необходимость рассказать, что муж оставил ее. Она знала, что сам Шарль-Анри и не подумает распространяться об этом, не захочет огорчать мать и расстраивать воскресный обед неприятными разговорами. Увидев, что Шарля-Анри с нами нет, и уловив тревогу в лице невестки, она спросила как бы между прочим, между приветственными поцелуями: «Alors, где же mon enfant?»[3], – на что маленькая Женевьева откликнулась: «Я здесь, grand-mère!» Бабушка, конечно, имела в виду своего младшенького.
– Еще никого нет? Мне хотелось бы поговорить с вами, – сказала Роксана.
– Вы не первые. Антуан с детьми уже здесь. Труди пока еще не приехала. – Труди – это жена Антуана, немка. Сам Антуан – интересный высокий мужчина, правда, начинающий лысеть. – А это, конечно, твоя младшая сестра Изабелла? – сказала мадам де Персон, оборачиваясь, чтобы обнять незнакомую родственницу. Рокси забыла представить меня.
Потом прибыла Шарлотта с семейством, шумная красавица лет тридцати с большим конским хвостом белокурых волос – она постоянно то дергала его, то встряхивала головой, как резвая кобылка. Верхняя губа у нее чуть-чуть выступала вперед, что немного портило ее (видно, здесь меньше уделяли внимания зубоврачебному искусству, не то что у нас, в Санта-Барбаре). Дети у Шарлотты, напротив, бледненькие и тихие, и все с двойными, нанизанными друг на друга именами: Поль-Луи, Жан-Фернан, Мари-Одиль. Кажется, я правильно их нанизала.
Поодаль, у края сада, в парусиновом шезлонге сидел пожилой господин в соломенной шляпе с широкими, как у доярок, полями. Он, не вставая, помахал нам рукой. Мне объяснили, что это l'oncle[4] Эдгар, брат Сюзанны. Из других родственников никого не было.
Все отнеслись ко мне с большой доброжелательностью, старались объясняться на английском, тщательно выговаривая звучные согласные на манер лондонских телекомментаторов. Показывая мне дом, Шарлотта остановила мое внимание на книге, относящейся к эпохе «Льюиса Четырнадцатого», как она произнесла для меня имя короля. «Точ-на-а», – подтвердил ее муж Боб, используя английский сленг. Несмотря на имя, он – чистокровный француз. Обращаясь к Рокси, они переходили на французский, и мне, признаться, было странно слышать ее чужую, непонятную и немного искусственную речь.
Был июнь, стояла жара, но тем не менее было решено размяться на корте. Сначала Антуан играл с Бобом, потом я с Бобом в паре играла против Шарлотты и Антуана. Они очень прилично играли, и это удивило меня. Не знаю почему. Они тоже были удивлены моей хорошей игрой. (В числе планов насчет моей будущности был и такой: сделать меня чемпионом по теннису. Но и эта надежда родителей не сбылась: я терпеть не могла тренировки.) Сидя на своем наблюдательном пункте под деревьями, дядя Эдгар громко хлопал в ладоши. Рокси тоже радовалась моей победе. Сама она не играет, никогда не играла и до беременности. Она сидела за столиком, поставленным на площадке из плитняка перед стеклянной дверью, ведущей в столовую. Она разговаривала с Сюзанной, и на лице у нее застыла любезнейшая улыбка, которой она пыталась скрыть от других растерянность и отчаяние.
Какие бы чувства ни обуревали бедную Роксану, она должна была притворяться безмятежной и общительной и перед обедом, когда подали вермут, и во время самого обеда, состоящего из soupe aux moules[5], телячьей ножки с белой фасолью, салата, сыра, tarte aux fraises[6]. Сюзанна кивнула служанке, та убрала прибор, предназначенный для Шарля-Анри, и никто даже не поинтересовался, где он. Да и какой им резон интересоваться? Он мог уехать по делу или просто где-то задержался.
Вблизи l'oncle Эдгар не показался мне безумно старым. Ему было под семьдесят, может быть, уже семьдесят. Высокий, плотный, импозантный, благородная седина, глубоко посаженные глаза и нос с горбинкой – он был по-своему очень красив. Когда все пошли к столу, я заметила, что он прихрамывает. Потом разглядела гипсовую повязку у него на голени. Никто не сказал, что с ним.
За столом я чувствовала себя крайне неловко: все присутствующие из вежливости старались говорить по-английски. Были вынуждены говорить на чужом языке только потому, что некая особа не потрудилась выучить их собственный. Меня посадили рядом с дядюшкой Эдгаром, и когда он спрашивал, не подложить ли мне еще сыру или мяса, я мычала через нос «oui» или «non», притворяясь, будто я понимаю по-французски и им нет необходимости насиловать себя.
– Забавная история с вашим сенатором, – сказал дядюшка Эдгар. Я не сразу поняла, о чем он.
– Ну, с тем, который вел дневник, – пояснил Антуан.
– В подробностях описывал, как он гладил коленки у молодых женщин, – продолжал дядюшка Эдгар. – Эротические фантазии – это такая интимная вещь... А теперь ему придется это сугубо личное тащить на публику, в суд.
Все засмеялись.
– Нет-нет, – вставила Шарлотта. – Перед этим он потащит свои записки другим сенаторам.
От нас с Рокси, наверное, ждали комментариев, но мы молчали.
– Да, чрезвычайно забавно, – согласилась Сюзанна. – Боюсь, бедняге придется порассказать кое-что о своих друзьях.
Снова раздался смех, причину которого я не сразу уловила. Лишь потом сообразила: дело касалось того, что мы, американцы, слывем порядочными ханжами, тогда как французы славятся на весь мир терпимостью ко многим вещам, например, к забавам старых сенаторов с молоденькими женщинами.
– Черт возьми! Мне не хотелось бы, чтобы мои коллеги прочитали, что я о них думаю, – добавил дядя Эдгар.
Персаны были само радушие. Они заразительно смеялись и одинаково хорошо смотрелись в этой изысканно убранной, обшитой деревом комнате, и все-таки я чувствовала себя не в своей тарелке. Казалось, что я маленькая, беззащитная девочка. Казалось, вот-вот придет няня и уведет меня, потому что взрослым надоело мое щебетание. Понятно, с каким облегчением я увидела, что решимость моих родственников тает по мере того, как таяла вторая бутылка красного вина. «Элеонора Ангулемская вовсе не была племянницей...» – сказал дядя Эдгар, и это было последнее, что я поняла. За столом разгорелась оживленная дискуссия на родном языке о каком-то событии французской истории, сопровождаемая отчаянной жестикуляцией.
Потом пили кофе на террасе. Шарлотта не выпускала сигарету изо рта. Это странно, она неплохо передвигается по корту. Она поведала, что недолго жила в Англии, когда ей было четырнадцать лет, и что англичане жульничают в теннис. Я усомнилась. «При спорном мяче обязательно как бы передвинут линию в свою пользу», – настаивала она. Теперь-то мне понятно: то, что французы говорят про англичан, похоже на то, что они говорят про американцев, когда нас нет. То, что мы называем «уйти по-французски», они называют «filer a l'anglaise» – «уйти по-английски». Кухню в жилой комнате почему-то называют «cuisine américaine». И конечно, если вероломство, то непременно английское – vice anglaise.
Антуан в саду перекидывался мячом со своим сынишкой и тоже курил сигарету за сигаретой. Роксана, видно, намеревалась остаться до конца дня, чтобы поговорить с Сюзанной с глазу на глаз. Кто-то предложил пойти на ярмарку антиквариата, открывшуюся в Шартре.
Я взяла Женевьеву и отправилась со всеми. Рокси пожелала остаться, чтобы помочь с посудой и вообще привести дом в порядок. Не в правилах Персанов отказываться от таких услуг. День, похоже, прояснился, ничто не предвещало бури. Ярмарка тоже благоприятствовала настроению, потому что Антуан наткнулся на один шкафчик, он давно за таким охотился.
Когда мы вернулись и подошли к калитке, перед нами вырос не кто иной, как сам Шарль-Анри. Он был бледен и мрачен, мрачнее тучи, не такой рассеянный и радостный, каким я его помнила. Встретив нас, он вроде бы удивился.
Может быть, рассчитывал повидать мать одну, но ведь он должен был знать, что мы будем здесь. Я подумала было, что он приехал объясниться с Роксаной, сказать, что произошла ошибка. Напрасные надежды! Шарль-Анри наспех поцеловал мать, небрежно кивнул остальным и укатил на своем «рейнджровере». Прошло немало дней, прежде чем Роксана получила весточку от него, законного супруга и самого любимого человека на свете.
В поезде на обратном пути в Париж Рокси разрыдалась, как это делают актрисы в кино, и долго плакала, пряча лицо в платок. В вагоне было много семейных групп. Дети бродили между сиденьями, таращась на странную тетю.
– Я знаю, это глупо, прости, – наконец сказала она. – Я не могла себе представить, что он явится. Это было так неожиданно, я не сумела найти верный тон.
– Что он сказал?
– Ничего. Совсем ничего! – Но я чувствовала, что она что-то скрывает. Потом Рокси выпрямилась и выпалила зло: – Да, сказал. Никогда не прощу ему этого.
Большего я не могла от нее добиться.
5
Я сам слишком американец, и мне постоянно не хватает денег.
Генри Адамс
Если отвлечься от незавидного положения, в котором очутилась Рокси, мое пребывание в Париже поначалу обещало быть интересным. У меня не было дурных предчувствий, я вообще не заглядывала в будущее. Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что примерно в то же самое время, когда у Роксаны начались неурядицы и когда я приехала в Париж, чтобы поддержать ее, наша матушка Марджив Уокер получила в Санта-Барбаре письмо от некой Джулии Манчеверинг, искусствоведа в музее Гетти.
По парижскому телевидению в ту пору крутили дублированный сериал «Санта-Барбара», благодаря которому в представлении рядовых французов наш городок вырос до мифологических масштабов. В этой мыльной опере на фоне залитого солнцем прибоя, пышных пальм-вашингтоний и роскошных патио, обсаженных яркими бугенвиллеями, белокурые богатые, как на подбор, калифорнийцы разыгрывают стереотипные душераздирающие страсти.
На самом же деле Санта-Барбара – это не Лос-Анджелес и не северная Калифорния, а старое псевдоиспанское, мало чем примечательное поселение. Большую часть детства я провела на Среднем Западе, где отец преподавал политологию в небольшом колледже. Когда он женился на Марджив, мы и переехали в Калифорнию. Мне тогда было двенадцать, и мне очень понравился новый дом, больше, чем старый.
Мой отец, преподаватель местного отделения Калифорнийского университета, и моя мачеха, носящая чудное имя Марджив, живут сейчас в типично калифорнийском, то есть скромном, постройки сороковых годов бунгало с видом на океан и выходом на пляж, в престижном районе на авеню Мирамар, среди богатых особняков. Вернее сказать так: благодаря своему местоположению наш дом стоит гораздо больше, чем он того стоит. У отца и мачехи достало удачливости или дальновидности приобрести его после сильного, разрушительного шторма, когда цены на прибрежную недвижимость резко упали. Вдобавок им одолжил энную сумму отцов дядюшка. Уильям Эшрик торговал старой европейской живописью. Картины потемнели, были достаточно неотчетливы и отлично сходили за наследственную собственность в дворцах-асиендах в Монтесито – той части города, где селится киношная публика, считающая себя слишком изысканной, чтобы жить в Голливуде. Особым спросом пользовались изображения мучеников за веру, тот же святой Себастьян, утыканный стрелами, а также тяжелые, мрачные пейзажные виды. Сам дядя Уильям, ныне уже покойный, закупил оптом целый склад этих средненьких итальянских и испанских творений в тридцатые годы, когда знатоки покупали импрессионистов и экспрессионистов. Но он тоже знал свой рынок и свой товар. Полотна, которые он сбывал, не слишком религиозные и не слишком сентиментальные, достаточно облупились и потрескались, чтобы выглядеть ценными. На одной из этих картин и была святая Урсула, дева-великомученица.
В своем письме Джулия Манчеверинг спрашивала об одной картине из коллекции дядюшки Уильяма (большая часть ее была распродана после его смерти). Работая над книгой об иконографии святой Урсулы, она проследила происхождение некоего полотна, изображающего предположительно великомученицу. Это полотно в тридцатых годах было продано антикваром с улицы Бак, причем продано, по имеющимся данным, нашему родственнику Уильяму Эшрику и, очевидно, фигурировало в перечне его имущества, составленном по его кончине.
«Полотно размером приблизительно 100 см на 140 см, с изображением молодой женщины с поднятой рукой, сидящей за столом (святая Урсула?). Лицо святой (?) обращено направо, к зажженной свече. Позади нее драгоценности, едва видимые в свете свечи, в том числе знак королевской власти неизвестного назначения».
По случайному стечению обстоятельств как раз в это время у Марджив на курсах по истории искусств начали изучать французскую живопись семнадцатого века, хотя и бегло, так как считалось, что она малозначительна. Вместе с тем музей Гетти недавно стал приобретать французов, чего раньше в Штатах не делалось. По-видимому, мрачная религиозность итальянской живописи как нельзя лучше подходила к убранству неоготических особняков, в которых обитали американские миллионеры прошлого века, или же пристрастие французов к обнаженным нимфам и к веселящимся парочкам на качелях оскорбляло в ту пору наше нравственное чувство. Так или иначе французская живопись сейчас в моде.
Воодушевленная этим поворотом во вкусах, Марджив сообщила в музей Гетти, что их описание действительно напоминает картину, которую их дочь Роксана взяла с собой в Париж. (В скобках было отмечено, что дочь похожа на женщину на картине.) Картину она отдала своему мужу-французу в качестве свадебного подарка. Завязалась переписка, о которой Рокси понятия не имела. Музейная дама выражала надежду позаимствовать «Святую Урсулу» на время или по крайней мере посмотреть ее. Не исключено, писала она, что картина принадлежит кисти одного из учеников французского художника Жоржа де Латура, чью выставку планирует устроить музей.