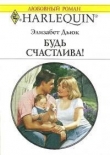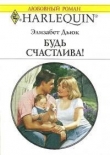Текст книги "Развод по-французски"
Автор книги: Диана Джонсон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
– И я так думаю? – спросила я.
– Вы, американцы, уверены, что вы самая свободная страна на земле. Очевидно, потому, что вам об этом постоянно и подобострастно говорят. Но это не так. Если, допустим, вам указывают на высокий уровень преступности, вы отвечаете, что это цена, которую вы платите за свободу. Возникает вопрос: какую свободу? свободу чего? Какая же это свобода, если человек, идущий по улице, не чувствует себя в безопасности?
Я не заслужила такого выговора. Почему я должна отвечать за недостатки своего народа?
– Говоря об американцах, вы, надеюсь, не имеете в виду меня? – едва не возмутилась я.
– В вас столько американского, Изабелла, – сказал Эдгар.
– Поскольку французы одержимы идеей свободы, liberté, почему бы вам не выпустить Тельмана?
– Я убила его! – раздался театральный возглас Рокси. Она дремала и проснулась с этими словами, как будто видела сон. – Он хотел вернуться! Вернуться ко мне, я знаю. Иначе зачем он вчера пришел сюда?
Если Рокси думала, что Шарль-Анри хотел вернуться к ней, тем лучше для нее, хотя в том, что его убили как раз в этот момент, заключалась жуткая ирония. Может быть, он действительно хотел вернуться, очень может быть... Наша убежденность, что Рокси не убивала мужа, приносила нам облегчение, а ей придавала силы. Даже Персаны понимали, что она не виновата, что Шарль-Анри пал жертвой своих собственных эротических прихотей. Хотя застрелил его все-таки американец. Из пистолета. Мы все это знали.
Священное сердце Иисуса Христа Господа нашего возлюбим, восславим и сохраним здесь и повсюду, ныне и присно и во веки веков. Иисус Христос, молись за нас. Святой апостол чудотворец Иуда, молись за нас. Святой апостол Иуда, помогающий беспомощным и страждущим, молись за нас.
Молитву сию твори по девять раз в день девять дней подряд, да будет она услышана.
* * *
Когда Рокси забылась в тяжелом полусне, ей приснилось, что этой молитвой она убила Шарля-Анри. Она твердила ее по девять раз в день в течение девяти дней, и Бог заглянул ей в душу, разгадал подспудное, неосознанное побуждение и внял ему.
От меня не ускользнул тот факт, что прессе, соседям, знакомым, друзьям, просто любопытным говорили, что убил l'américain. Никто не сказал, что Шарля-Анри убил муж его любовницы. Нет, говорили только, что убил американец. Так говорили все: Эдгар, Анн-Шанталь, Сюзанна, наш представитель по связям с общественностью Антуан, газеты.
До глубины души пораженная действенностью ее молитвы и неисповедимыми путями Господними, Рокси почувствовала потребность посоветоваться со священником. Она сказала Марджив, что хочет пройтись одна, перешла под вечер через мост Архиепископа и, пройдя аллеями, углубилась в огромный полутемный собор Парижской Богоматери.
Там ей явилось видение будущего. Только там она начала осознавать, что она – вдова, а вдова – это не то же самое, что оставленная мужем, разведенная жена. Что теперь она может получить обратно из «Друо» свой комод и «Святую Урсулу», что никакого развода не будет. Всем своим существом она сопротивлялась благодарному чувству освобождения – иначе она не человек, а чудовище. Она вслушивалась в себя, измеряла температуру своих переживаний, чтобы убедиться, что не испытывает ни радости, ни удовлетворения от смерти Шарля-Анри. И тут же подумала, найдется ли у нее черное платье.
Облегчение, освобождение – это не то же самое, что удовлетворение или радость. Она не рада, твердила Рокси себе, она опустошена. Она искала прибежища в церкви, потому что дома, лежа в постели, ей было невыносимо трудно противиться натиску беспорядочных дурных мыслей об удачных последствиях свершившейся трагедии.
Несколько минут ходьбы, и Рокси дома, взволнованная, сияющая – не потому, что она поговорила со священником, а потому что на древних плитах собора у нее отошли воды и вот-вот надо ожидать схваток. Предстоящее событие, благородное усилие, которое потребуется от Рокси, чтобы увидел свет еще один заложник судьбы, хрупкое свидетельство того, что жизнь продолжается, – все это успокаивало и ее, и всех нас. Легкий ветерок волнения развеивал терпкие запахи цветов и поминальной снеди – печенки и сыров, – заполнившие квартиру. Марджив звонила Сюзанне, мы то и дело пытали Рокси, как она себя чувствует, и отвечали на звонки с выражением соболезнования, тщательно взвешивая нашу радость по поводу скорого рождения ребенка и скорбь по поводу смерти его отца.
Около полуночи, после двух сильных приступов, Честер и Марджив повезли Рокси в clinique maternelle[180].
Я перемыла чашки и бокалы, оставшиеся на столах, и опять легла спать на диван, поставив около себя телефонный аппарат. Навязчивые сны преследовали меня всю ночь. Мне снилась Санта-Барбара, угол бульвара Моралес и Десятой улицы, недалеко от бензозаправки. У меня в машине кончился бензин, я иду на заправку, вдруг, чуть не зацепив, мимо меня проносится автомобиль. От страха у меня душа уходит в пятки, и я мучительно гадаю, не хотел ли человек за рулем совершить наезд, или это просто неосторожность с его стороны. Здесь выходит заправщик и говорит: «Вы не знаете, кто это был?» Сон был такой натуральный, отчетливый, я ясно видела бледно-желтое солнце над городом и, проснувшись, не сразу могла сообразить, что я в Париже, на диване в Роксиной квартире. Рядом надрывался телефон.
40
Занималась заря, и я уже мог различить отдельные предметы раскинувшегося передо мной пейзажа.
«Адольф»
Была пятница, и это звонил Роджер. Голос у него был вкрадчиво-деловой, словно бы говорящий, что хватит на переживания и одного дня и теперь снова надо включаться в деловую гонку.
– Сегодня аукцион. Ты приедешь?
В суматохе и слезах последних дней я почти забыла о картине, о «Друо», о деньгах, но вчера вечером он успел шепотом сказать мне:
– Знаешь, Изабелла, я думаю, нам надо продавать «Урсулу», пока не определен юридический статус сегодняшнего положения дел. Таким образом мы всегда можем сказать, что Шарль-Анри тоже был за продажу, как и Рокси. Одному Богу ведомо, какие непредвиденные сложности возникнут, если Персаны будут настаивать, что картина – часть имущества Шарля-Анри. Продавая картину, мы делаем только то, что он сам санкционировал. Пусть Рокси говорит что хочет, мы должны продать «Урсулу» до того, как определится ее новый юридический статус. Лучше, если это будет fait accompli[181], как говорят французы.
Это происходило за кулисами «Дома Друо», мы не знали, что официальные лица заверили Роджера, что на аукцион приезжают крупные торговцы, представители разных музеев, коллекционеры и распродажа будет успешной.
Вероятно, слухи об интересе со стороны хранилищ и о том, что человек из «Кристи» ведет переговоры с Роджером, повлияли на руководство «Друо», потому что они наметили новую стартовую цену, гораздо выше прежней. Уверенная атрибуция «Кристи» и заманчивая перспектива больших денег произвели ощутимое впечатление на участников аукциона.
– Если у Рокси пойдет гладко, я пойду с тобой, – сказала я.
Сама Рокси не подавала вести, зато из гостиницы позвонил отец и сказал, что ее уложили в постель, но в три часа ночи, когда они уходили, сильные схватки еще не начались. Голос у него был сонный и немного раздраженный из-за того, что его разбудили.
– Ты приедешь на аукцион? – спросила я.
– Не знаю. Как Марджив. Она, наверное, захочет посидеть с Рокси.
– Тогда я пойду с Роджером.
– Да нам там нечего делать, – возразил он. – Мы же не собираемся покупать «Урсулу».
Но я ощущала потребность быть. У меня было какое-то суеверное чувство, будто все развалится, если меня не окажется на месте и я не прослежу за делами лично. Мне надо было быть одновременно в нескольких местах.
Из-за тесноты мы с Роджером с трудом пробились в зал, где должна была состояться распродажа картин. В атмосфере купли-продажи, удачи и проигрыша, азартной, почище, чем в покере, игры людям отводилась второстепенная роль. Здесь господствовали неодушевленные предметы, здесь правили деньги, соперничество, страсти. Привозили и увозили сотни предметов, выставленных на продажу, гудящие по-французски толпы протискивались через двери в залы, люди глазели на украшения в стеклянных футлярах и разбитые клавесины.
Наша «Урсула» была, судя по всему, заманчивая штука. Она привлекала более серьезную и изысканную публику, чем та, что собиралась купить всякие старинные вещицы в зале напротив, но и эти ожесточенно толкались, занимая место. Втиснувшись в зал, я увидела тут и там знакомые лица, которые не заметила сначала, – Стюарта Барби и Эймса Эверетта, беседующих с толстым седым господином в отлично сшитом костюме, и – к моему удивлению – Антуана и Шарлотту де Персан с мэтром Дуано, адвокатом Шарля-Анри. Помимо них, были также мэтр Бертрам, месье Десмонд, тот, кто оценивал «Урсулу» для Лувра, и группа мужчин в спортивных пиджаках и с галстуками-бабочками, приехавших, очевидно, из Санта-Барбары, может быть, из музея Гетти. Мне потребовалась минута, не меньше, чтобы вспомнить, кто такой этот моложавый лысеющий мужчина с длинными ресницами. Неужели министр культуры, с которым меня познакомили в опере? Он самый. Вот это да, как сказала бы миссис Пейс. В темном костюме с двумя разрезами на пиджаке, он стоял немного в стороне, оживленно разговаривая с двумя другими мужчинами в темных костюмах. Те поставили свои кейсы на пол, и это заставляло вспомнить шпионские картины, где всегда обмениваются кейсами. Потом к ним подошел месье Десмонд.
Через чье-то плечо я помахала Антуану и Шарлотте.
– Не думала, что вы приедете.
Антуан едва заметно нахмурился, словно не ожидая встретить меня здесь, помолчал, прежде чем ответить.
– Полагаю, что на мне лежит теперь обязанность проследить, чтобы Роксины affaires велись должным образом, и защищать интересы моей племянницы и ребенка, который скоро появится на свет. – Он неуверенно пожал плечами. – Хотя сейчас трудно сказать, что значит «должным образом».
– Ребенок вот-вот родится! – воскликнула я. – Может быть, уже родился.
– Да, твоя мать звонила. Мама тоже поехала в больницу. Ребенок поднимет ей настроение.
– Мэтр Бертрам здесь, адвокат Рокси, – видели?
– Да, я разговаривал с ним. Он сообщил, что сегодня выставлена на продажу крупная работа Пуссена.
Так вот почему здесь министр культуры, подумала я, – присматривает за национальным достоянием Франции.
Несколько рядов стульев в зале было занято именитыми аукционерами. За ними живой массой колыхалась толпа. Я отнюдь не маленького роста, но, зажатая людьми со всех сторон, я даже подиум не могла как следует рассмотреть. Роджер, который выше меня и стоял на более удобном месте, и тот тянул шею. Мы с трудом понимали, что происходит впереди. Стоя на возвышенности, аукционист показывал рукой на стену и быстро говорил. Его объяснения вдруг прерывались негромкими возгласами, потом аукционеры едва слышными голосами называли сумму – первый, третий, пятый... под конец оставалось только двое, и вот резкий стук молотка – полотно продано. Под говор участников торга, обменивающихся впечатлениями, на стену устанавливали следующую картину, и процедура повторялась снова. Так перед нашими глазами прошли работы Ватто, Inconnu[182], Лепотра, Бугро, Розы Бонёр...
Возбуждение в зале росло с каждой новой картиной, и с каждой новой картиной во мне усиливалось беспокойное желание, чтобы все поскорее кончилось. Как никогда прежде, я чувствовала себя пешкой, беспомощным зрителем неприятного представления. Неужели сейчас принесут «Святую Урсулу», стук аукционного молотка решит ее судьбу и она исчезнет, как и все остальные? И это в тот момент, когда Рокси лежит где-то в родильном доме и стонет от боли, не зная, что ее картину продают? Продают, продают... Мы же предаем ее, вдруг осенило меня.
Когда в зал внесли и бережно установили на стенд большую мифологическую картину, изображавшую охотников в тогах в погоне за оленем, публика стихла. Выходит, важные шишки собрались здесь не ради «Святой Урсулы», как я думала, а ради этого Пуссена. Аукционист говорил деловым, торжественным тоном:
– Диана-охотница... Обратите внимание на цветовую гамму... надеюсь, шесть миллионов франков – не слишком высокая цена для начала?
Какой-то мужчина, сидевший за два ряда от меня, сделал знак, но я не видела других аукционеров, которые один за другим стали набавлять цену... Десять, семнадцать, двадцать пять... Аукционист с невозмутимым лицом объявил сорок миллионов франков, настала мучительно долгая пауза. Потом неуловимый стук молотка обозначил победу одного и поражение других, и Пуссена бесцеремонно вывезли из зала, как какого-нибудь «Неизвестного». Аукционист позволил себе распрямиться, сделать глубокий вдох, прерваться на полминуты. Эймс Эверетт, увидев меня, подмигнул. С улыбкой кивнул мне министр культуры, наверняка вспоминая, где он меня видел.
Еще несколько картин – и вот наконец «Святая Урсула». У меня забилось сердце, когда я увидела ее удивленное, немного недовольное лицо. Я тщетно поискала глазами Роджера, но кожей чувствовала его волнение. Мы стояли, дрожа от волнения.
– Латур! – услышала я голос аукциониста. Не «школа Латура», не «последователь Латура», а именно «Латур». Имя звенело у меня в ушах. – Кто-то назвал двести тысяч?
Казалось, не прошло и минуты, как «Урсула» пошла с молотка за десять миллионов франков. К концу борьба шла между двумя покупателями. Один – мужчина, стоявший с Эймсом и Стюартом, другой – американец в твидовом спортивном пиджаке с галстуком-бабочкой. Я так и не поняла, кто кого переиграл. Я не сразу смогла перевести сумму в доллары. Казалось, вот-вот выпрыгнет сердце. С ума сойти, почти два миллиона долларов!
В ту же минуту я сообразила, что нам не придется делиться с Персанами. Понимает ли это Антуан? Я видела его остекленевшие глаза и губы, что-то говорящие Фредерику. Я лихорадочно считала деньги. Половина родителям – остается миллион, миллион на четыре части – мне, Рокси, Роджеру, Джудит. В итоге – двести пятьдесят тысяч долларов! Может быть, не сразу, а потом – все равно. Папа, конечно, даст мне взаймы, чтобы я могла сейчас же купить супницу, не ту, что украдена у миссис Пейс, а другую такую же. Я представляла, сколько всего я могу накупить на четверть миллиона долларов. Такая удача – может, она хоть немного согреет Рокси душу? Нет, скорее наоборот, ей сделается еще горше от сознания, что наживается на смерти любимого. Я хотела выйти из зала, подышать воздухом, но видела, что не протиснусь сквозь толпу. Аукционист продал еще десять картин, и наконец все было кончено.
– Изабелла? – сказал Стюарт Барби, подходя ко мне, когда публика начала растекаться. Он старался улыбнуться, но лицо его кривилось от огорчения. Я заметила это еще раньше, когда он разговаривал с Эймсом. – Изабелла, я так рад за Роксану. Хоть в чем-то повезло бедняжке...
– В чем дело, Стюарт? – спросила я.
– Конрада арестовали, – прошептал он. Конрад – это его друг, англичанин-парикмахер.
– За что?
– За ограбление.
Я прекрасно понимала, как это делалось. Стюарт отдавал фотографии старинной посуды Конраду и сообщал, кому она принадлежит (без задней мысли?). Конрад передавал фото своему дружку-антиквару, который демонстрировал их клиентам. Затем Конрад «шел на дело» и выкрадывал понравившуюся клиенту вещь. Может быть, именно Конрад и «навестил» Сюзанну после того, как мы сказали Стюарту, какой у нее восхитительный фаянс.
Я подумала, не стоит ли потребовать от Стюарта возвратить хотя бы супницу миссис Пейс. Давай назад, могла сказать я, или расскажу обо всем полиции: как я сделала фото, как отдала карточку тебе и устроила кражу, сказав торговцу, что хочу купить супницу. Верни ее, иначе тебе не поздоровится. Потом я решила, что ему, пожалуй, лучше не знать о моей роли в раскрытии преступления, а супницу полиция и без меня вернет хозяйке. Да, но какова роль самого Стюарта? И при чем тут бумаги миссис Пейс? Смешно подумать, что ЦРУ заправляет воровской шайкой, специализирующейся на старинном фарфоре.
– Он просто стоял около одного дома в Шартре, – продолжал Стюарт. – И вдруг подъезжают flics[183] и заграбастывают его.
– Bonjour, mademoiselle! – прервал его, подходя, министр культуры. – Мисс Уокер, если не ошибаюсь? Значит, вы тоже интересуетесь художественными сокровищами Франции?
Я не слишком верую в Бога, во всяком случае, меньше, чем Рокси, и все равно трудно сомневаться, что некий милосердный космический промысел посылает мне маленькое утешение. Со мной разговаривает сам министр культуры. И это еще не все. Я порадовалась, что догадалась приодеться и взять «келли».
– Пришла поинтересоваться судьбой моего небольшого Латура, – сказала я как можно спокойнее.
– Так Латур – ваш? Вот как! Сам-то я хотел посмотреть, куда уйдет великий Пуссен... Что до Латура... Так говорите, Латур – ваш? – За его приятной дипломатической улыбкой скрывалась озабоченность.
– Это была семейная собственность. – Я чувствовала на себе иронический взгляд Стюарта. Ну что ж, разве не так?
– Чрезвычайно интересно! И вы знаете, кто купил?
– Пока еще нет... Вы не знакомы с моим братом и его женой? – Ко мне подошел сияющий Роджер с повисшей на его руке Джейн. Они обменялись с министром, месье Лелеем, приветствиями.
– А как обстоит дело с вывозом картины? Ведь она – наше национальное достояние. Очевидно, в Лувре что-то прохлопали. Надо будет этим заняться... – продолжал министр. – В Лувре займутся. Странно, что там не разобрались в этом деле. Я прослежу.
Я снова почувствовала досаду. Неужели опять встанет вопрос о разрешении на вывоз?
– Может быть... Надеюсь, вы не очень стеснены временем, мадемуазель? Не согласитесь ли вы пообедать со мной? Мне бы очень хотелось... как министру... поближе узнать историю этой прелестной французской работы – как она попала в ваше семейство и вообще... Может быть, сегодня или в ближайшие дни. Что вы на это скажете?
Я исподтишка наблюдала за ним. Было ясно, что говорит не чиновник, а мужчина. Я, разумеется, согласилась, хотя не сегодня. У меня сестра рожает, объяснила я.
– В таком случае позвольте ваш numéro de téléphone[184], мадемуазель, – сказал он, вытаскивая изящную carnet[185] от «Гермеса».
Когда Роджер, Джейн и я вернулись на квартиру к Рокси, там отчаянно заливался телефон. Ребенок родился, назвали Шарлем-Люком, вес три с половиной килограмма. Мать и младенец чувствуют себя хорошо. Мы тут же отправились в родильный дом посмотреть на ребенка и сообщить Рокси радостную новость.
На похороны в холодный серый понедельник Рокси надела черный костюм – очевидно, новый, судя по тому, как хорошо он сидел на ее слегка располневшей фигуре, – и была потрясающе красива. На руках у нее был маленький Шарль-Люк, весь в кружевах и плотном белом одеяле, как будто было крещение, а не похороны. Во время церемонии она ненадолго передала крохотное покрасневшее сморщившееся существо Честеру, который с гордостью стал разглядывать внука, а сама занялась Женни. Бедная девочка в маленьком синем пальтишке, отороченном мехом, беспокойно вертелась, напуганная печальными лицами родственников и гостей, которые собрались в это холодное зимнее утро среди внушительных гранитных памятников кладбища Монпарнас.
Магда, естественно, на obsèques[186] не пришла. Нам сказали, что она еще в больнице. Тем не менее в стороне, за ивняком, мне померещилась незнакомая женская фигура с черной вуалью. Мне почему-то вспомнились похороны Джона Ф. Кеннеди – я видела их в документальном фильме. Думаю, что Рокси тоже думала о них, хотя нас тогда еще и на свете не было, потому что она переняла от Джеки вид убитой горем, но достойно несущей свой крест вдовы. У могилы она опустилась на одно колено. Позади нее, как бы несколько отделившись от Персанов, стоял мэтр Бертрам. Народу было много: мадам Коссет с Антуаном и Труди, Ивонна, Шарлотта и Боб, Фредерик – правда, без жены, Сюзанна, тоже вся в черном, и, к моему удивлению, месье де Персан, высокий сухощавый мужчина с седыми усами. Он сердито глядел на нас, по американскому обычаю не стеснявшихся своих слез. Господи, как церемонны они были в своих траурных костюмах – как церемонны и сдержанны до самого конца!
Шарля-Анри убил американец. Я знала, что они ни на секунду не забывают об этом. И его жена, американка-неумеха, не сумела предотвратить трагедию. Что с них взять, думали они, детей младенческого племени, обитающих в колыбели убийц и воров художественных ценностей (и воров старинного фарфора, добавили бы они, если бы знали). Как было бы хорошо, если бы маркиз Лафайет не поехал туда.
До чего прекрасна Рокси, она теперь навсегда с ними, вдова сына, мать внуков; вдова почитаема во Франции как символ верности, безутешного горя и стойкости. Она стояла немного в стороне от Персанов и в стороне от родителей, одинокая в своей глубокой печали – рядом только внимательный, готовый помочь мэтр Бертрам.
– «Je suis la ténébreuse, la veuve, l'inconsolée, – шептала она, опустившись на колено. – Pleurez! Enfants, vous n'avez plus de père»[187]. – Позже она сказала мне, что это слегка перефразированные строки Нерваля.
Заботливо поддерживая Рокси под локоть, мэтр Бертрам помог ей встать. Скорбное лицо словно светилось изнутри умиротворением и уверенностью. Наверное, у нее было все, что она хотела. В ту минуту я увидела человека, который получает все, что хочет.
В могилу полетели комья земли.
– Господи, Из... – услышала я шепот Марджив. – Теперь Рокси может вернуться домой.
Может быть, вернется, мелькнула у меня мысль, может быть, нет.
Рокси не нужно искать и выбирать. У нее есть все. L'américaine. Она может иметь что угодно. Она самодостаточна. Она родила детей и выжила и еще будет рожать. Она может менять континенты, языки, религии, роли.
Я думала о том, как совершенна Рокси, лилия долин, в своей красоте, и как у нее есть все, что душе угодно. Мне вспомнились Мария и Марфа, сестры Лазаря, из библейской истории, которую мы с Рокси услышали, когда ходили в воскресную школу. (Мы спросили родителей, почему они не ходят, они объяснили, что ходили, когда были маленькие.) Из библейской притчи я извлекла мораль, которая была прямо противоположна намерениям евангелистов, и – ошиблась, как героиня романов Генри Джеймса, читанных мною по рекомендации миссис Пейс. Знаю, от меня ждали, чтобы я была Марией. Но Марией на самом деле была Рокси.
41
Не снимай башмаков, будь готов пуститься в путь.
Монтень
Скованные скорбью, отгороженные от мира обычаями, связанными со смертью близкого человека, и заботами о маленьком Шарле-Люке, мы не сразу узнали, что положение Тельмана, арестованного французской полицией, вызывает не только сострадание, но и возмущение американской общины в Париже. Нам об этом сказал Роджер, поддерживающий связь с коллегами-адвокатами, и подтвердила миссис Пейс. По ее тону я поняла: она разделяет общее мнение, что с Тельманом обошлись слишком сурово, гораздо суровее, чем, скажем, с каким-нибудь корсиканцем или североафриканцем, оказавшимся в таком же положении. Взрывы ярости у тех существ – факт естественный, и потому реагировать на них надо если не прощением, то пониманием, снисходительной терпимостью, отвечающей нецивилизованным нравам их стран. А американец-юрист с деньгами вызывает враждебное чувство и заслуживает самого серьезного наказания.
Возмущение парижских американцев делом Тельмана искусно подогревалось его коллегами, которые не уставали рассказывать, каким унижениям подвергался бедняга со стороны гулящей жены и ее любовника, этого французского нахала. Мало кто смог бы вынести такие издевательства, что уж говорить о Дуге, человеке ранимом, с тонкой душевной организацией, которому последнее время приходилось вести отчаянную борьбу с мошенничеством в спорных имущественных процессах.
Разнесся слух, что намечается провести собрание заинтересованных американцев и рассмотреть возможность организации массового протеста в связи с делом Тельмана – письма в газеты, делегации к министру иностранных дел Франции, может быть, вмешательство американского посла.
Придя, как обычно, помочь Рандольфам по дому, я застала там сборище озабоченных граждан: те же служащие «Евро-Диснея», которые были на вечеринке с коктейлями, десяток адвокатов, Стюарт Барби и Эймс Эверетт, Дэвид Кросуэлл, преподобный Дрэгон, миссис Пейс и даже наш посол Лео Барлей, которого я раньше видела только издали. Для них-то и попросила меня накупить у traiteur[188] закусок Пег Рандольф.
Я пришла, нагруженная пакетами, и скромно, как и подобает служанке, направилась в кухню.
– Мы не должны упускать из виду, что это – американскийгражданин, – говорил Клив Рандольф. – Они считают его виновным и требуют, чтобы он доказал, что он не преступник. Это совершенно неприемлемо, это против наших правил. Виновен, пока не доказано обратное,– мы не можем мириться с этим положением кодекса Наполеона.
Когда я вошла, в комнате повисла тишина, точно в библиотеке. Все обернулись ко мне. Я слышала, как хрустнули у кого-то костяшки пальцев. Подошла Пег. На лице ее было приличествующее случаю выражение, и человек, перенесший несчастье, должен был оценить ее сочувствие. Этого и ждали от меня, свояченицы потерпевшего и самой по себе героини – или по крайней мере участницы нашумевшего происшествия во Дворце Спящей красавицы.
– Ему необходима помощь психиатра, – сказала Пег.
– Знаю, – ответила я, отходя к двери в кухню. Мне еще надо было нарезать кусочками паштет из печеного угря и разложить маслины в лиможские миски.
– Из ревности... на любовной почве, – слышались голоса.
– Что бы вы делали, если бы вашу жену трахали? – сказал кто-то.
– Возникает еще один вопрос, – продолжал Клив Рандольф. – Имеет ли право правительство другой страны поступать с американским гражданином как ему заблагорассудится?
– Боюсь, что имеет, – вмешался посол, тщетно пытаясь утихомирить своих соотечественников. – Помните тот случай, когда в Сингапуре нашего подростка избили палками? Даже президент просил о милосердии, но это не помогло.
– Это просто показывает, за кого держат нашего президента, – презрительно сказал Клив Рандольф. – И понятно почему.
– Американские граждане обязаны подчиняться законам той страны, где они находятся, – повторил посол. – Проблема в том, что мы имеем дело с человеком, у которого расстроена психика. Ему нужна срочная психологическая реабилитация. В сущности, он не виноват в этом ужасном преступлении.
– Конрада, друга Стюарта Барби, тоже арестовали, – прошептала Пег мне в кухне.
– Основные права человека... – слышала я голос Эймса Эверетта, слышала, как его поддержали другие, как повышались голоса, видела, как запылали возмущенные лица. Я вспомнила разговор об основных правах человека с Эдгаром. «Люди, которые сегодня верят в права человека, – говорил он, – это те самые, кто лет двадцать назад – нет, больше, чем двадцать, – верил в рабочий класс. Потом рабочий класс стал зарабатывать больше и поправел. Возникла необходимость поставить вопрос шире». Что до меня, то я в жизни не видела никого из рабочего класса.
Затем мне вспомнилась заваруха в «Городском глашатае». Теперь эти люди нацепили картонные значки из «Евро-Диснея» с написанными на них именами, а сами значки были похожи на мышонка Микки.
Когда я, сестра вдовы убитого и прочее, внесла паштет из копченого угря и сыр бри, в комнате снова воцарилось смущенное молчание. Все думали, что я жажду крови. Мне, конечно, не хотелось, чтобы Тельмана освободили, но они правы: он – человек с расстроенной психикой. Дочь своих родителей, Калифорнии, Америки, я понимала, что они правы: ему требуется помощь. Что это – доброта или безразличие? Интересно, что думает Рокси.
Мне нравились открытые, доброжелательные лица моих соотечественников, к тому же красивые, как у пилотов дальних линий или у мужчин с рекламных листов ювелирных изделий. Что ни говори, печать родных мест навсегда остается в сердцах, умах и языке людей, сказал Ларошфуко.
Казалось, что все мы стараемся выбраться за пределы Америки, но что-то тянет нас назад. Сумею ли я преодолеть это подводное течение, влекущее нас обратно на родину, преодолеть ее магнетизм? Сумею, думала я, сумею хотя бы на время. Но вот насчет Рокси я не уверена.
И еще мне подумалось, что мы не стали бы есть паштет из копченого угря, будь мы в Санта-Барбаре. Правда, я сама к этому времени отведала угрей, змей, потрохов, мозгов, улиток, моллюсков, устриц, белых грибов, белого овсяного корня и крошечных птичек, которых кладут в горшочки с гусиной печенкой и едят с головой... А чем кормят в тюрьме Тельмана? Что едят в Сараево?
Как бы то ни было, я не могла долго оставаться у Рандольфов, поскольку обещала взять несколько пакетов дарственных прокладок «тампакс» и губной помады для сараевских женщин, а потом поужинать с отцом и остальными. Завтра они уезжают. Эдгар с воскресенья в Загребе. Надеюсь, у меня не вечно будет щемить сердце. Не знаю, не уверена.
Все эти американцы, пересаженные на французскую почву, тоже ели маленьких пичужек – забыла, как они называются. Что говорят об этом защитники прав животных? Они против гусиной печенки. Против того, что гусям засыпают в горло зерно через воронку, чтобы у них раздулась печень. А я, как я отношусь к гусиной печенке? Интересно, американцы остаются американцами, когда попадают в чужую землю, или становятся другими, как, например, лейтенант Колли, отдавший приказ уничтожить все население вьетнамской деревни, или, если уж на то пошло, я сама – молодая женщина без родины, которая собирается поехать в Загреб, собирается пообедать с министром культуры, собирается пить апельсиновый отвар и всерьез заняться французским?
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
[1] Шаль, фуляр, шарф, кашне (фр.).
[2] Повседневные заботы о своей внешности (фр.).
[3] Ну и... мой ребенок? (фр.).
[4] Дядя (фр.).
[5] Суп с мидиями (фр.).
[6] Клубничный торт (фр.).
[7] Ученик Латура (фр.).
[8] Напиток с мятой (фр.).
[9] Зд.: Скажите на милость! (фр.).
[10] Зд.: Что! Это оригинально! (фр.).