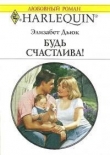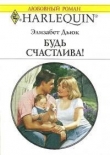Текст книги "Развод по-французски"
Автор книги: Диана Джонсон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
Калифорнийцы тоже любят рестораны, в этом нет ничего странного. Почему же мне казалось, что мое неуемное любопытство выходило за грани принятого? Например, я поймала себя на том, что потратила сто восемьдесят нелегким трудом заработанных франков на новый путеводитель по парижским ресторанам, когда у Рокси уже есть «Го и Мийо» и «Путеводитель Мишлена», пусть прошлогодний, а мне самой надо отложить деньги на гуманитарную помощь Сараево. В интересе калифорнийцев к ресторанам нет ничего особенного, присущего только им, но я чувствовала, что сама могу легко дойти до края и пойти дальше. Это похоже на то, как в постели мы стараемся продлить удовольствие, не сговариваясь, шепчем друг другу «еще, еще!», хотим отодвинуть или повторить миг яростной последней дрожи – момент разрядки (s'éclater).
Шрам на левом запястье у Рокси был заметен и напоминал браслет или отметину после пытки. На правом же – всего лишь тонкая белесая полоска. Теперь она надевала платья с длинными рукавами и часто одергивала их. Никто не увидит эти рубцы и ничего не узнает, но для меня они были постоянным упреком. Я гораздо больше времени проводила теперь дома и все время следила за Рокси. Мы вместе смотрели французское телевидение, такое же глупое, как и американское. Собственно говоря, оно и есть американское, потому как крутят наши второразрядные полицейские боевики и старые мелодрамы.
Горечь и апатия у Рокси постепенно проходили. Это физиология, говорила она, приближение родов, когда выделяются гормоны, побуждающие к устройству гнезда, и ты тупо спокойна, как корова.
– Думаю, они еще вернутся, мои проблемы. Но сейчас не хочу о них думать. Ты не поверишь, но я могу работать. Когда испытываешь легкое беспокойство, лучше пишется. Вот если чересчур сильно беспокоиться, тогда ни строчки из себя не вытянешь.
Да, Рокси хорошо работалось. Она сказала, что одно ее стихотворение взял какой-то журнал на Среднем Западе – то ли в Мичигане, то ли в Огайо. По мере того как настроение у Рокси повышалось или по крайней мере выравнивалось, мое стремительно падало, и началось это после ее дурацкой попытки самоубийства. В Париже становилось холодно, а я терпеть не могу холода. В Калифорнии в это время я каталась бы на лыжах, а здесь шел дождь и рано, уже в четыре, темнело, а в восемь утра еще висел кромешный мрак, словно ночь откусывала по кусочку дня, а я находилась где-то за Полярным кругом. Монументальные фигуры на площади Согласия маячили как черные тени, поблескивая от дождя. Чтобы не промокнуть, надо было надевать сапоги и пальто. В конце ноября выпал один прекрасный день – лег первый снег. Я проезжала площадь на 24-м автобусе в сумерки, когда как раз зажигались фонари, и в этом розовато-сером свете медленно падали снежинки.
Было так красиво, что на глаза у меня навернулись слезы. Потом я поняла, что мне просто грустно, грустно от этого сумеречного света и от вида снежинок, таких легких, недолговечных, обреченных.
Раздражало и то, что иногда на улице я слышала о себе – bon coup. Обычно я не обращаю внимания на такие вещи. Привыкла к тому, что говорят об американцах. Но вот один раз Ив знакомит меня со своим приятелем, тот дружески улыбается и говорит ему: «Elle, le bon coup américain?» Фраза засела y меня в голове. Может быть, он хотел сделать мне комплимент, но для таких комплиментов я слишком пуритански воспитана. Мне не нужно было лезть в словарь, потому что значение этого выражения более или менее одинаково во всех языках – что-то вроде «ничего американочка, с такой я бы перепихнулся».
Когда подступало плохое настроение, я начинала думать о пустоте моей теперешней жизни в качестве мастерицы на все руки, этакой Пятницы в юбке, – я тебе и собак выгуливаю, я и подруга с укороченным рабочим днем («любовница»), и bon coup. Мне нравилось, что я так бездарно провожу дни, совсем не задумываюсь о своем будущем. Публичные разглагольствования Эдгара насчет долга и ответственности наконец достигли моих ушей. Я решила поступить на кулинарные курсы и принять участие в каком-нибудь общественном начинании.
Рокси придумала, как помочь Боснии. Вместе с несколькими американками и француженками она кинулась организовывать сбор тампаксов и губной помады для женщин в Сараево. «Знаешь, такие мелочи иногда помогают выжить, – говорила она. – Я так ушла в свои горести, что забыла о других людях в мире с их реальными проблемами». Я услышала в этих словах голос Марджив. Когда мы подрастали, она любила повторять эти слова. Рокси сочиняла тексты листовок и плакатов, следила за печатанием, вместе с другими добровольцами разносила их по книжным лавкам и расклеивала на стенах. Она целые часы проводила у телефона, убеждая журналистов поместить объявления в газетах. Сначала эта затея показалась мне смешной – посылать губную помаду и прокладки туда, где можно подорваться на мине, когда пойдешь за ними. Потом поняла: пусть мины, пусть бомбы, у женщины все равно будут месячные – если ей повезет и они будут. Я, правда, предложила посылать контрацептивные средства, но идея показалась слишком смелой. Смысл кампании заключался в том, чтобы женщины Франции покупали полезных предметов больше, чем им самим нужно, и оставляли добавочную часть в указанных местах на улицах и в аптеках, а благотворитель с грузовиком соберет их по всему городу.
Я накупила тампаксов на двести пятьдесят франков и оставила их в «Монопри». Тонны и тонны губной помады были собраны для помощи страдающим женщинам. Другие мои попытки участвовать в кампании были так же малоэффективны, как и расстановка стульев в отдаленных муниципальных залах Эври и Вильмуассон-сюр-Орж, где должен был выступать Эдгар, если мне удавалось приехать туда заранее.
Эдгар представлял меня по-разному. До начала собрания где-нибудь в церкви или местном зале он говорил: «Mon assistante[99], мадемуазель Уокер». Тем, кто знал его семью, представлял меня так: «Вы знакомы с мадемуазель Уокер? Свояченица Шарля-Анри». Или: «Свояченица моего племянника, приехала из Санта-Барбары, Калифорния». Мне было не по себе от этой многоликости, но и то хорошо, что он меня не прятал. Так чем же вы все-таки занимаетесь, мадемуазель Уокер?
В те дни, когда Эдгар выступал, мы не ездили к нему. По окончании собрания его обычно окружали представители СМИ, озабоченные граждане, единомышленники, и он для каждого находил время. Я одна отправлялась домой или слонялась в сторонке. А он тем временем продолжал говорить: «Я отвергаю лицемерие наших политиков, которые поддерживают свой имидж героев-гуманистов несколькими пехотными взводами, но в глубине души считают, что никакие обстоятельства не должны отрицательно сказываться на наших отношениях с Германией или на Маастрихтском договоре. Во всяком случае, никто не принимает в расчет моральную сторону проблемы. В этой стране под маской прагматизма царствует цинизм». Наверное, и в моей стране тоже.
Однажды Эдгар приехал на традиционный воскресный обед к Сюзанне. Как всегда, мне поручили погулять с детьми, на этот раз, помимо Женни, с детьми Фредерика и Антуана. Перед обедом Эдгар уединился с сестрой в библиотеке, я слышала их смех, когда надевала Женни зимние сапоги, а жены приехавших хозяйничали на кухне и в столовой. За обедом мы не обменялись с Эдгаром ни одним многозначительным взглядом.
За столом он вдруг говорит:
– У меня два лишних билета в оперу на вторник. Пупетта не приедет. Как ты, Сюзанна, не хочешь? А вы, Роксана?
Я уже знала к тому времени, что имя жены Эдгара – Амелия, но все звали ее Пупеттой. Она предпочитала жить в деревне.
– Нет, merci, у меня будет трудная неделя, – отказалась Сюзанна.
– Ну, значит, пойдут наши американочки – Роксана и Изабелла. – Тут он повернулся ко мне и улыбнулся такой обаятельной и чисто родственной улыбкой, что я почти забыла, что передо мной человек, который так умело ласкал мою a foufounette, норку.
– Мне придется сесть с самого края ряда, иначе никто не проберется мимо меня, – засмеялась Рокси, похлопывая себя по животу.
Как бы я себя чувствовала, подумалось мне, если бы Сюзанна и Рокси пошли с Эдгаром в оперу во вторник вечером, в то священное время наших свиданий? После я спросила его об этом, сожалея о ревнивой нотке, прозвучавшей в моем голосе, но он сказал, что Сюзанна не любит оперу, это всем известно.
Я ни разу не бывала в опере, но Рокси уже успела побывать в Париже на нескольких спектаклях. В Калифорнии тоже ставят оперы – в зале Дороти Чендлер в Лос-Анджелесе, но меня никто ни разу туда не пригласил. В этот вечер давали «Maria Stuarda» – о Марии Стюарт, королеве шотландской, которую французы считают героиней. Спектакль показывали в Бастилии, но не в той, что во время Революции штурмовал народ, потому что ту Бастилию разрушили, а в современной – огромном, похожем на кита стеклянном сооружении, в котором ставят оперы и балеты.
Все было потрясающе. Эдгар и другие мужчины были в смокингах. Я не первый раз видела мужское вечернее платье. Мальчишки в старших классах надевали на вечера смокинги, но взятые напрокат; они казались чуточку старомодными на тех, кого каждый день видишь в джинсах. И все равно мальчишки делались, как мне тогда казалось, очень красивыми, хотя какими-то тощими и немного похожими на балаганщиков. Но взрослые господа в вечернем платье – совсем другое дело. Я не ожидала такого великолепия: твердые бритые подбородки, запах сигар, породистость, важная походка, говорящая о данной им власти. Само торжественное появление этих людей в опере, само их присутствие свидетельствовало об интересе к культуре и больших деньгах. Эдгар назвал некоторых присутствующих: вот это – кандидат в президенты от социалистической партии, там министр культуры и его предшественник, там знаменитый кутюрье, там директор Бастилии. По спине у меня пробегала горячая дрожь, непроизвольно возникало даже сексуальное чувство, а от музыки перехватывало горло. Других – Рокси – влечет сюжет, последовательность событий, меня же возбуждает близость власти, значительность личности, причастность к политике. Мне нравились даже супруги этих знаменитостей, стройные дамы в дорогих, обшитых золотом, с буфами, платьях, и все как на подбор блондинки. А я брюнетка, безнадежная брюнетка. Однако самой красивой женщиной была Рокси, розовощекая, сияющая, в свободном сером шелковом платье, единственном, которое она могла натянуть на себя. Мужчины заглядывались на нее, завидуя, наверное, тому, кто сделал ее такой. Незнакомые думали, что это Эдгар. Поднимаясь по лестнице, она опиралась на его руку.
– Mes nièces américaines[100], – сказал он министру культуры. – Мадам де Персан, мадемуазель Уокер.
– Américaines, bravo! – приветствовал нас министр. – Mes hommages, madame[101], – обратился он к Рокси, целуя ей руку. Рокси была на седьмом небе.
Когда я всерьез задумывалась о ней, меня всю мутило при мысли, до чего она дошла и как хотела умереть. Это значит, что я никогда не пойму ее до конца. Непреодолимое отчуждение возникло между Рокси и мной, вернее – между мной и всеми другими людьми, потому что я не понимала их, а они не понимали меня. Каждый был сам по себе, все мы одиноки, как и утверждал Жан Поль Сартр в книге «La Nausée», «Тошнота», которую я едва одолела. Это книга о человеке, которого тошнило от необходимости думать.
Эдгар, с которым я потом поделилась, покачал головой.
– Читай Вольтера, дитя мое, или максимы Ларошфуко.
В антракте произошло что-то поразительное, точнее, поразительное только для меня, потому что любой расценил бы это как обычное общение, светский разговор, вежливый обмен мнениями. Я хочу сказать, что со мной заговорил не кто иной, как сам министр культуры!
– Mise en scène[102] напоминает мне Пиранези, – заметила Рокси.
Эдгар распространялся о том, что Мария Стюарт, королева шотландская, – одна из самых вздорных женщин в истории, но не потому, оговорился он, что какое-то время жила во Франции.
– Вы не находите странным, что надписи сделаны не только на французском, но и на английском? – спросил меня министр, хорошо сложенный, моложавый лысеющий господин с длинными, типично французскими ресницами. – Не представляю, о чем думал прежний министр культуры, – продолжал он, понизив голос и кивнув на мужчину, стоявшего неподалеку. – Он у нас великий ревнитель чистоты родного языка и гонитель английского.
– Да, у него страдальческий вид, – согласилась я, потому что у экс-министра в эту секунду было такое выражение, будто он сел на что-то острое.
– Вы непременно должны побывать в старом дворце Гарнье, – говорил мой министр. – Мы по-прежнему любим его больше всего. Там по-прежнему ставят балеты... Вы любите балет? А скоро будем ставить и оперы.
Этот разговор замечателен по меньшей мере тремя особенностями. Я чувствовала, как от довольно низкого выреза моего платья поднимается кверху горячая волна удивления, минутной незащищенности и удовольствия. Первая особенность: разговор означал, что я могла сносно отвечать по-французски, чтобы убедить собеседника, что со мной стоит разговаривать. Вторая: помимо bonjour, mademoiselle, друзья Эдгара обычно редко удостаивали разговором такую молодую и похожую на секретаршу особу; значит, теперь я выгляжу более взрослой и равной им. Третья: от меня ожидали мнения об опере, следовательно, мой вид показывал, что я чувствую музыку. Да, у меня было мнение, хотя я его не высказала (опера мне безумно, безумно понравилась). Мне было достаточно, что я разговариваю с месье министром, причем без малейшего намека на снисходительность с его стороны. Для меня это был переломный психологический момент. Может быть, первый раз я поверила, что пробьюсь в жизни. Министр продолжал болтать пустяки, как обычно болтают внимательные мужчины с женщинами, заместитель премьера правительства Франции во время entracte в Парижской опере – с Изабеллой Уокер из Санта-Барбары, со мной!
Когда после антракта мы снова занимали свои места, Эдгар привычно коснулся моего локтя. Убеждена, он был непроизвольным, этот собственнический жест, секундный импульс заявить свои права и поддержать меня. Наверное, никто ничего не заметил. Рокси тоже не заметила? Думаю, да, не заметила. Она была счастлива: вечер в опере, министры, мужчины в смокингах, сознание, что она принадлежит к Персанам, – я никогда не видела ее такой сияющей. Чувствовалось, что ребенку в ней идет на пользу это радостное волнение в крови и, если он способен слышать в утробе матери, музыка Доницетти, утверждающая человеческий гений и любовь к жизни.
26
Несчастный не столь несчастен, как он думает, счастливый не столь счастлив, как надеется.
Ларошфуко
В тот вечер я была счастлива, но плохое настроение не проходило. Мне становилось в тягость, что я так долго, дольше, чем когда-либо, нахожусь вдали от семьи, быть может, я даже скучала по тем, кто был в Калифорнии. Отсюда печаль и пустота, которую я чувствовала все сильнее и сильнее и которую заполнял только Эдгар – постель и ужин, и полное взаимопонимание, когда он, гладя мои волосы, давал советы и подбадривал, а я раскидывала ноги.
Шарль-Анри приезжал теперь по субботам и забирал Женни в деревню. В воскресенье он привозил ее в Шартр. Рокси ухитрялась не встречаться с ним ни в один из этих дней. В субботу я одна готовила Женни к поездке, а в воскресенье он уезжал от Сюзанны раньше, чем мы попадали туда. С тех пор как Шарль-Анри ушел из дома, Рокси вообще видела его только три раза: когда он случайно появился у матери в мой первый воскресный обед у нее, потом – когда они вместе были у адвоката, и, наконец, в больнице. Правда, иногда они разговаривали по телефону, но всегда по-французски и всегда о том, как и когда забрать Женни. О том, что Рокси разговаривает с Шарлем-Анри, я узнавала по хнычущим ноткам в ее голосе.
Думаю, у меня тоже будет когда-нибудь ребенок, но сейчас мне кажется, что это верный способ заставить мужчину возненавидеть тебя. Заведя ребенка, ты лишаешь его, мужчину, юношеских радостей, отнимаешь свободу. Конечно, он то же самое делает с тобой, это факт. Потом ни она, ни он не хочет отказываться от ребенка, но и это не приносит им счастья.
После нашей встречи в кафе «Вид на собор» мы виделись с Шарлем-Анри еще несколько раз. Он был обходителен и сдержан. Было видно, что вся его жизнь теперь где-то там, где Магда Тельман и его живопись. Он не слишком интересовался подробностями мировой при разводе, оставляя их Антуану и мэтру Дуано. Беспечность и безразличие бывшего мужа к материальной стороне развода раздражали бывшую супругу, но у меня вызывали симпатию к Шарлю-Анри. Я должна была презирать его за жестокость по отношению к Рокси, но на самом деле он нравился мне и я почти желала ему удачи с новой женщиной.
Французские юристы решили, что Стюарт Барби оценил «Святую Урсулу» неточно, и в конце концов все сошлись на том, что каждая сторона проведет оценку имущества Рокси и Шарля-Анри. Я так поняла договоренность, что если оценки сторон не совпадут, то суд пригласит независимых экспертов, а если совпадут, то бракоразводный процесс пойдет своим чередом при общем признании, что финансовые проблемы решены.
Оценщики-французы вместе с Антуаном де Персаном явились к нам в середине ноября. Рокси отказалась встречаться с ними, и я была вынуждена и принимать их, и выслушивать их негромкие переговоры между собой, из которых я мало что разобрала. Антуан был настроен дружески, но переводить мне не счел нужным и сказал лишь: «Ça va, Isabel?[103] Поганое это дело, правда?»
– Très jolie, superbe[104], – отозвался о комоде усатый господин.
Это меня порадовало, потому что высокая стоимость комода как бы снижает цену картины. Рокси может отдать его Персанам, а себе оставит картину Уокеров. Эксперты осмотрели Роксину посуду, стол и другие домашние вещи вроде телевизора и ковров, включая тот самый коврик из спальни, на котором я (слава Богу, не они) различала ржавые разводы от смытой крови. Они несколько раз возвращались к комоду, выдвигали ящики – искали подпись мастера.
– Ce n'est pas signée[105], – сказал один. Я догадалась, что это плохо, снижает ценность вещи.
Потом пришел эксперт из Лувра. Поглядев на картину, он покачал головой:
– Ecole de La Tour[106]. Нас это не интересует. – Я почувствовала невольную обиду за нашу святую. Это означало, кроме того, что картину выставят на аукционе. С другой стороны, если она не нужна Лувру, то не будет препятствий с выдачей разрешения на вывоз и купить ее может кто угодно, например, японец или американец.
В этот же день я резко поговорила с Антуаном. Сама удивляюсь, как я не сдержалась.
– Какое же это паскудство, что Шарль-Анри забирает Роксину картину. Ей от него ничего не нужно. Она ничего у него не взяла бы, даже самую малую малость. Тем более вещь, к которой он привык с детства.
Антуан остолбенел. Я с удовлетворением видела, что мои слова задели его. Эксперт из Лувра, месье Десмонд, торопливо отвернулся и с нарочитым вниманием уставился в картину, словно он глухой и ничего не слышит. Я продолжала наседать.
– Мало того, что бросил ее, когда она в положении. Так теперь, видите ли, он еще и собственность отнимает. Он что, хочет, чтобы у его детей не было мебели и картины? Хочет, чтобы все это уплыло какому-нибудь иностранцу? Дерьмо собачье – вот он кто. И кто только его надоумил?
– Шарль-Анри поручил вести его дела мне.
– Ну, значит, ты собачье дерьмо!
Не знаю, что сказали бы друг другу Рокси и Шарль-Анри, но я была удивлена не меньше Антуана, что именно мне выпало начать обмен любезностями между нашими семьями. Конечно, я поступлю по-калифорнийски, если скажу, что они должны знать наше мнение обо всем происходящем, мое мнение. До сих пор они даже полагали, что нас не волнует судьба картины. Антуану было стыдно, и он ничего не сказал.
Тем не менее через несколько дней commissaire-priseur[107] переправил в «Аукционный дом Друо» письменный стол, обеденный стол и несколько гравюр. Теперь, когда пришла пора расстаться со «Святой Урсулой», Рокси оставалось только надеяться, что вещи будут проданы подороже и ее половина составит приличную сумму. Тем временем у Роджера появилась гениальная идея: мы с ним подаем иск на Рокси и Шарля-Анри, которые формально еще состоят в браке, о взыскании с них картины. Из-за дополнительных юридических сложностей продажа картины откладывается на неопределенное время. Рокси была в восторге от этой идеи. Забавная ситуация: мы живем вместе с Рокси, живем душа в душу, я подаю на нее в суд, и она сама подливает масла в огонь.
Аукционеры из «Друо» уже поместили «Святую Урсулу» в каталог, чтобы выставить ее на продажу вместе с другими работами этого жанра. Дату аукциона предполагалось наметить, когда будет собрано достаточное количество картин. Поскольку соглашение о том, что выручка будет поделена пополам, уже состоялось, то процесс о разводе мог начаться в любое время.
– Не продавайте этот фаянс, – посоветовал commissaire-priseur Рокси, которая оказалась дома, когда он пришел. – Много вы за них не получите, а вещицы хорошие. Рекомендую оставить их у себя.
– Скажите это моему мужу, – фыркнула Рокси.
В «Доме Друо» решили, что «Святую Урсулу» можно выставить на распродажу северофранцузской живописи, которая пройдет через месяц. В дополнение к каталогу срочно была отпечатана специальная брошюра. Аукционисты знали, что картина пойдет хорошо, и назначили отправную цену восемьдесят тысяч долларов. Услышав такую сумму, Рокси поняла, что никогда не сможет откупиться от Шарля-Анри. Она, не откладывая, позвонила родителям, умоляя дать ей взаймы сорок тысяч, но те тоже были сражены наповал.
После того как увезли мебель, квартира стала до странности голой. Зияния отзывались молчаливым укором, красноречивая пустота кричала о катастрофе. Я возмущалась несправедливостью не меньше, чем Рокси, а может быть, и больше. Возросшая ценность «Святой Урсулы» внесла новый элемент в обычные при разводе враждебные отношения – корысть. Я рассказала об этом Эдгару, но по-прежнему молчала о том, что Рокси резала себе вены.
– Женщины вообще не задумываются о последствиях. Поэтому они в шоке, когда последствия наступают.
Не знаю, насколько это верно. Он хотел сказать, что ввезенный во Францию предмет подпадает под французские законы. Рокси должна была об этом думать. Но почему Персаны злонамеренно не хотят знать, что картина всегда была в нашей семье, что она принадлежит многим людям, а не одной Рокси, что это семейная реликвия, тогда как для них «Урсула» – пустое место? Эдгар пожал плечами. Есть такое особое парижское пожатие плечами. И есть у французов особое отношение к законам о собственности.
– Ты выдвигаешь моральные аргументы, когда говоришь о Боснии. Почему же отказывать моральным аргументам в семейных делах?
– Когда я говорю о Боснии, я выдвигаю прагматические аргументы, основанные на опыте истории... Но не будем ссориться, chérie[108], из-за какого-то canapé[109] и уродливой святоши.
– Да, о сексе ты говоришь, а о деньгах не хочешь.
– Естественно, я же француз. У вас, американцев, все шиворот-навыворот.
Приблизительно раз в две недели, иногда чаще Эдгар посещал собрания, которые устраивались в муниципальных залах или церквах, неотличимых от подобных помещений в Америке, – такие же светло-коричневые стены, такая же гулкость, такие же ряды металлических стульев. Часто бывали «круглые столы»: трое-четверо мужчин из этого округа, обязательно хоть одна дама и Эдгар. Из того, что говорилось, большую часть я не понимала, но темы постепенно прояснились – уроки истории и роль религиозного сознания. Скоро я убедилась, что сам Эдгар – человек религиозный, по крайней мере формально верует в Бога и исповедует католицизм, не слишком ревностно, но искренне.
Сначала меня это поразило. В Калифорнии я не стала бы гулять с парнем, который ходит в церковь. Того, кто говорит о Боге, автоматически причисляют к лицемерам. Но лицемерие лицемерию рознь. Есть, например, французское лицемерие или, если выразиться мягче, непоследовательность: веровать в Бога и нарушать одну из заповедей – прелюбодействовать. Я завела с миссис Пейс разговор на эту тему, не упоминая, конечно, Эдгара и себя.
– Понимаете, у французов благочестие более развито, – сказала она. – У нас, в Америке, как заметил еще Мэтью Арнольд, две формы благочестия: самоистязающее и самодовольное. Французы, как видно, придумали третий тип – светское благочестие.
– И оно искреннее?
– Я думаю, что все три – искренние. Самоистязание всегда искренно. Нет ничего более искреннего, чем чувство правоты, autrement dit[110] – самодовольства. Почему бы и светскому благочестию не быть искренним?
Когда подобный разговор зашел с Эдгаром, он процитировал Мольера:
Господь иные радости земные осуждает,
Но с ним договориться можно без труда.
Моя душа была поражена двумя этими самыми болезнями – самоистязанием и сознанием собственной правоты. Я никогда не чувствовала себя большей американкой. Мы даже сцепились с Ивом из-за этого. У него странный взгляд на Америку. Он убежден, что вся наша жизнь находится под контролем Джона Эдгара Гувера.
– У него был компромат на любое значительное лицо в Вашингтоне. У него спрашивали, надо ли Джону Кеннеди выдвигать свою кандидатуру в президенты. Эйзенхауэра тоже выбрали с его участием. Гомик, а следовательно, и параноик – что с него взять? Правда, он здорово побаивался Боба Кеннеди, поэтому Боба и кокнули... Знаешь, у нас тоже есть задрыги, которые спят и видят, чтобы США управляли Францией. Чтобы мы смотрели только комиксы, рисовали дурацкие диснеевские картинки и пили кока-колу.
– Никто вас не заставляет это делать, вы сами, – возражала я. – Я вот, например, не смотрю комиксы, а вы смотрите. Почему?
– У тебя к ним иммунитет, потому что ты на них выросла. А у нас это эпидемия, как лихорадка в джунглях Амазонки.
Какую культурную угрозу может представлять диснеевский фильм, думала я? Есть более опасные вещи.
– Французы сами культурные агрессоры! – горячилась я. – Всюду продвигают свою культуру.
– А американцы слишком много улыбаются. Ты вот все время скалишь зубы.
После этого я старалась улыбаться реже.
В начале декабря, недели за две до положенного Рокси срока и назначенной даты аукциона в «Друо» (в этом совпадении Рокси увидела иронию судьбы), позвонили родители. Они заказали билеты и будут в Париже. Не зарезервируем ли мы номера в гостинице, чтобы это не была какая-нибудь дыра, но и не слишком дорого? Марджив посоветовала посмотреть в отеле «Два континента», который она помнила по прошлогодней поездке.
Это известие мы встретили со смешанными чувствами. К моим примешивалось удовольствие от перспективы повидать их (и показать себя с заученными французскими фразами, лакированными ногтями и скромной, как у балерины, прической). Неужели мы с Рокси – единственные американские дочери, которые любят своих родителей? Так оно и выходило по читанным мною книгам. В общем, я чувствовала удовольствие и вместе с ним страх. Страх перед тем, что они скажут, узнав о Роксиной болезни – так я стала называть ее дурацкую выходку. Страх перед их возмущением тем положением, в какое попала Рокси, и перед шумом, который они поднимут из-за уплывающей из рук картины. Страх перед неизбежным ростом напряженности и грядущим конфликтом. Страх перед тем, что они скажут. Короче, я чувствовала удовольствие и страх. Рокси заявила, что не чувствует ничего, кроме страха, главным образом из-за Роджера.
Марджив и Честер добавили, что с ними едут также Роджер и Джейн. Это выбивало почву из предположения, что они едут просто в гости. Нет, они ехали, чтоб начать войну – или по крайней мере юридическую борьбу – за восстановление справедливости, как они ее понимали. Они не бросят своего ребенка на произвол иностранного закона и отживших предрассудков о привилегиях мужчин.
– У Женни есть собственный паспорт? Я имею в виду американский? – спрашивает Марджив. – Надо, чтобы она имела американский паспорт.
Зловещий вопрос. Что, если они собираются похитить Женни?
Нам с Рокси не нужно было ничего обсуждать перед приездом родителей, хотя я знала, что между нами существуют некоторые недоговоренности. И главное – я не сказала Рокси, что Марджив и Честер понятия не имеют о ее попытке покончить с собой. Может быть, она была бы рада моему молчанию, а может быть, ей хотелось, чтобы они знали, чтобы кто-нибудь взял на себя ответственность и позаботился о ней.
* * *
Я не люблю ни к кому обращаться с просьбами, потому что просьбы всегда выходят боком и люди потом начинают сторониться тебя. Но я чувствовала доброе отношение Сюзанны де Персан к себе, и теперь, когда Рокси снова пала духом и вот-вот приедет Роджер, пришла пора поговорить с ней. Я была почти уверена, что она поможет советом. Она была достаточно расположена ко мне. Что до Рокси, то отношение Сюзанны к ней было более сложным – отставная жена любимого сына, иностранка и т.д. и т.п., хотя при всем том она решительно поддерживала невестку, имея, вне всякого сомнения, в виду общение с Женни и будущим ребенком.
Сюзанна тепло относилась ко мне и, казалось, понимала щекотливость моего положения – сразу оказалась в сердцевине семейных дрязг, без языка, без определенных видов на будущее. Как и миссис Пейс, ей хотелось немного пообтесать меня, но если та прямо критиковала мое платье или делала замечание по поводу несвежих перчаток, то Сюзанна делала это косвенно, намеками, с помощью поощрения и похвалы. «Знаете, Изабель, у вас такие красивые руки, когда на ногтях лак», – говорила она. Или: «С туфлями на высоких каблуках ваши длинные ноги просто потрясающи». Да, теперь у меня всегда была пара чистых перчаток и пара туфель на потрясающих шпильках, словно приглашающих пришпилить меня. Я пошла к Сюзанне, разодетая в пух и прах, – в том же наряде я ходила обедать с миссис Пейс к «Пьеру-трактирщику», сделав вид, что не бывала в этом ресторане.
После обеда я взяла Женни из садика, и мы отправились на улицу Ваграма – это был обязательный еженедельный визит бабушке. Прекрасная возможность поговорить с Сюзанной наедине, объяснить, в каком состоянии находится Рокси. Я говорила, что Рокси принимает близко к сердцу продажу картины, что это плохо сказывается на ее здоровье, что, мне кажется, продажу нужно отложить. Могла бы я сама взять обязательство выплатить половину ее стоимости в рассрочку, за несколько лет? Может быть, нашим семьям встретиться, когда приедут родители (Роджера я не упомянула), и обсудить сложившуюся ситуацию?
– Изабель, дорогая, ни вам, ни мне не надо ввязываться в имущественные споры. Чем скорее они кончатся, тем лучше. Оставим все проблемы адвокатам. Я понимаю, Роксана расстроится, но это не скажется на ребенке.