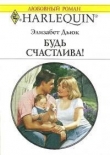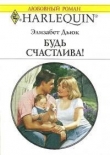Текст книги "Развод по-французски"
Автор книги: Диана Джонсон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
Париж, город удовольствий, развлечений etc., где четыре пятых населения умирают оттого, что не достигли счастья.
Никола де Шамфор
В отличие от миссис Пейс Эдгар был против снятия блокады на поставку оружия в Боснию и потому конфликтовал с теми французскими интеллектуалами, которые придерживались мнения, разделяемого также американцами, что пусть боснийские мусульмане защищаются своими силами и средствами. Эдгар считал, что Франция совместно с другими странами – членами НАТО должна осуществить военное вторжение в Боснию, хотя оговаривался, что и такое вмешательство запоздало и может не дать результатов.
Стало известно, что боснийские сербы, согласившись на отвод своей артиллерии из района Сараево, сейчас тайком снова подтягивают ее к городу и обстреливают окрестные селения и деревни. Эта коварная акция потрясла Рокси, как будто орудия были нацелены на улицу Мэтра Альбера. Кожа на ее лице, и без того покрасневшая с беременностью, еще больше потемнела. Глаза метали огонь возмущения. Она постоянно возвращалась к боснийской теме, сидя за кофе в «Погребке надежды» с Тэмми или Анн-Шанталь, а то затевала разговоры на рынке.
С тех пор как у Рокси начались нелады с Шарлем-Анри, всем обитателям площади Мобера словно выпало пережить многосерийную семейную катастрофу. Сначала было драматическое бегство Жерома Лартигю, театрального сценариста, с американской редактрисой. Поступок этот, свидетельствующий о кризисном переходе за пределы среднего возраста, соседи расценили по меньшей мере как антифранцузскую выходку. Тридцатилетняя Анн-Шанталь, его жена, была совершенно убита и несколько недель ни с кем не разговаривала. Потом разошлась с мужем Тэмми де Бретвиль, американка, как и мы, а совсем недавно сербско-хорватская пара Джуна и Серж, который раньше был послом Сербии. Они так бедны, что продолжают жить в одной квартире, отдельно и в разное время ходят на рынок за капустой и репой, каждый со своей корзиной.
Тэмми и Анн-Шанталь написали красноречивые рекомендации для разводного досье Рокси, но политика их интересовала мало.
– Это же варварство! Как могут люди так поступать? – восклицала Рокси при очередном нападении сербов на мирных жителей. Эти дни она была буквально помешана на мысли о человеческом вероломстве.
– Mais[74] сербы никакие не варвары, – возражала Анн-Шанталь. – Вспомни, как над ними издевались во время войны. Хорваты истребили миллионы сербов, поэтому ничего удивительного – они мстят за своих.
– Всех наших предков всегда кто-нибудь истреблял! – горячилась Рокси. – До чего дойдет мир, если люди не хотят забыть прошлое!
– А мусульмане – знаешь, чего они добиваются? – гнула свое Анн-Шанталь. – Им нужен исламский плацдарм в Европе. Ты об этом подумала?
– Ничего подобного! – Рокси была непреклонна. – Боснийские мусульмане нецерковные люди.
– Alors[75], надеюсь, ты готова нацепить на лицо покрывало?
Последнее время я не очень ладила с Рокси. Она стала чересчур придирчивой в отношении того, что считалось моими обязанностями, вернее, она считала, что это считается моими обязанностями. Я же, со своей стороны, тоже начала считаться. Мне казалось, что она должна быть мне благодарна и не критиковать по мелочам. В конце концов я не заставляла ее сломя голову идти за француза, беременеть, разводиться, попадать в финансовый переплет. Я всю дорогу вела себя по-людски, можно сказать, была ее ангелом-хранителем. У бедной Женни есть один настоящий родитель, это я, и нечего девочке целыми днями торчать в противном детском садике. Поскольку Рокси не работает – она частенько не ходила в свою мастерскую, болталась по комнатам с тряпкой в руке, – это вовсе не обязательно.
– Ну и сиди с ней! – огрызнулась Рокси.
Дела с разводом шли туго, и она, естественно, нервничала. Теперь ей уже казалось, что, не скажи она, что хочет отправить «Святую Урсулу» в Штаты, никто даже не вспомнил бы о ней. Адвокаты пришли к выводу, что, за исключением более или менее приличного комода и стола, доставшихся от Персанов, картина – единственный ценный предмет, находящийся в совместной собственности супругов, следовательно, должен быть поделен между ними, следовательно, должен быть продан.
Возмущению Рокси не было пределов. «Чудовищно! – соглашались парижские американцы. – Даже в примитивных обществах семья мужа возвращает приданое, если отсылает женщину в родное племя».
– Не всегда, – возразила антрополог Рене Ретт-Вэли своим тоненьким голоском. – В некоторых районах Индии не возвращают коров и вдобавок сжигают отвергнутую невесту на костре.
Мы не имели представления о том, какую панику в умах наших калифорнийцев посеют причуды французского законодательства. Стюарт Барби оценил «Урсулу» в сорок тысяч долларов. Брат Шарля-Анри, Антуан, настаивал, однако, на повторной оценке. «Это обычная процедура. Известно, что эксперты нередко расходятся во мнениях. Мы должны иметь полную уверенность».
Возможность вторичной оценки привела Рокси в негодование. Она означала, что Персаны считают, что картина стоит дороже, что экспертам-американцам нельзя доверять или что Роксана сознательно занижает цену, чтобы ей было легче откупиться от Шарля-Анри. Но даже при сорока тысячах долларов Рокси не наскребла бы двадцати тысяч, чтобы заплатить ему, а другого имущества, которое потянуло бы на эту сумму, У них не было. Рокси стала звонить Честеру и Марджив и просить у них помощи, хотя заранее знала, что они не могут потратить двадцать тысяч на вселяющую уныние религиозную картину, которая и без того принадлежит им.
Роджер вообще взбесился, узнав новости. Сомневаюсь, что он хоть раз внимательно рассмотрел «Святую Урсулу», зато в нем жила воинственная вера, что картина досталась нам со стороны отца и в известном смысле не является собственностью Рокси. Марджив потом рассказала о реакции Роджера, но я и без нее представляла, как вульгарно кипятился брат, подзуживаемый Джейн. «Какого черта! Это моя вещь, моя и Изабеллы. Класть я хотел на французские законы, будь они...»
Марджив втайне рассчитывала, что Честер встанет в позу донкихота и внесет залог за картину, причем вовремя, чтобы она успела попасть на выставку, хотя прекрасно понимала, что они не могут себе позволить потратить такие деньги, а если бы могли, то потратили на что-нибудь ощутимое.
– Бедная Рокси, – сказала она после одного из многочисленных телефонных звонков из Парижа, – она надеется, что святая Урсула сотворит чудо.
– Чего я не могу усвоить, – сказал Честер, едва скрывая раздражение, – так это почему ему вообще что-то полагается. Он же виновная сторона и не отрицает этого.
– Я тоже этого не понимаю, – согласилась Марджив.
– Может быть, тебе стоит просто взять и привезти ее? – говорил мне Роджер по телефону. – Кто тебя остановит?
Что это изменило бы, если бы я так и сделала? Тогда это было совсем нетрудно. Предотвратило бы грядущую трагедию? Я была чересчур эгоистична, думала только о своих удовольствиях и замечательной жизни во Франции.
– Я не могу сейчас приехать. Помогаю миссис Пейс в срочной работе. Я обещала... я должна... обязательства... обстоятельства... – У меня язык заплетался от ужаса при мысли о возвращении в Калифорнию. – Почему бы тебе самому не приехать?
– Может быть, и приеду. – Злился он, конечно, не на меня, но в тембре его мычания мне слышались нотки, воскрешающие наши подростковые ссоры между ним, мной, Рокси и Джудит, когда родители брали сторону родных детей, хотя обычно старались не попасть в эту ловушку.
У себя в конторе Роджер тщательно изучал нормы международного права, касающиеся произведений искусства. Мы с Рокси вряд ли узнали бы брата в компании его коллег-адвокатов, когда профессиональные разговоры расцвечивались искорками корыстолюбия. Роджер смотрел на картину просто как на семейную реликвию, но в кругу коллег она становилась предметом судебного разбирательства, пробным камнем для ловкого обращения с законом, поводом показать себя патриотом и профессионалом.
– Ты, главное, не пори горячку, – советовал он Рокси. – В законе такие случаи четко не прописаны. С одной стороны, завещательный отказ или подарок не являются совместной собственностью. Ты выходила замуж в Калифорнии, где признается общность владения имуществом, так что в принципе тебе невыгодно разводиться здесь. Зато судьи в Калифорнии скорее примут во внимание моральную сторону проблемы. Французы же совершенно безразличны к личным обстоятельствам и всему такому, когда дело касается имущественных споров. Я считаю, что мы должны еще раз взвесить идею твоего возвращения домой. Это даст нам возможность снова поставить вопрос о том, что ты имеешь право привезти картину. Кроме того, это прояснит вопрос об опеке. Калифорнийский суд, вероятно, решит его в пользу лица, имеющего американское гражданство.
– Все это замечательно, – заметил Честер, – но беда в том, что она хочет жить во Франции.
– Дай человеку сказать! Рокси считает, что ей как никогда нужен совет Роджера, – сказала Марджив, ни на секунду не усомнившись в том, что рано или поздно Рокси, как всякий нормальный человек, вернется в Америку.
Вот небольшая сценка того же времени, касающаяся нашей картины élève de la Tour[76], сценка, о которой мы не могли знать.
Шестнадцатый округ Парижа. Большая комната, повсюду книги, мебель эпохи Директории и великолепная terre cuite[77], изображающая трех муз, у одной отбита рука.
– Вы видели Латура? – спрашивает Стюарт Барби у Фила Джейкоба. Они в квартире Стюарта. Джейкоб – пожилой американец, знаток искусства, давно живущий в Париже, известный тем, что был знаком с Сутиным.
– Ни под каким видом, – говорит Джейкоб. – Лучше, если я вообще не буду его смотреть.
– Что так?
– Персаны уже просили меня оценить его, я отговорился занятостью. Мой осмотр произведения взвинчивает на него цену. Они, конечно, это понимают. Сам факт осмотра картины ставит ее в ряд, возможно, подлинных работ Латура.
– По чьей просьбе, позвольте спросить, вы отказались от предложения Персанов?
– Нет, не позволю, – смеется Джейкоб. – К тому же вы сами прекрасно знаете. Кстати, вы давно видели нашего друга Десмонда?
Наши отношения с Рокси оставляли желать лучшего. Симпатичная кожаная «келли» по-прежнему стояла между нами, поскольку была в глазах Рокси знаком моей неверности по отношению к ней.
Но независимо от этого Рокси порой вела себя очень странно. Накануне первого страшного происшествия она прибежала домой взъерошенная, раскрасневшаяся, бормоча что-то несуразное, словно наглоталась наркотиков.
– Я из Шартра. Понимаешь, ходила в Школу изящных искусств – посмотреть рисунки Деллабеллы. Но музей закрыт. Ладно, думаю, махну-ка я в Шартр, может, найду его. А так его будут искать только через неделю, представляешь? Я даже не знаю, когда Шарлотта его привезла, одна она даже дом Сюзанны не найдет, из своего Нейи редко вылезает. Он, конечно, заблудился. Побежал за какой-нибудь птичкой или, наоборот, стал от лисы прятаться...
Я едва-едва сообразила, что она говорит о пропавшем котенке Шарлотты.
– Лисы не едят кошек, – успокоила я ее.
– Да, и кошки еще лазают по деревьям... Скажи, Из, я не умру... ну, когда буду рожать? Я знаю, от этого сейчас не умирают, но все же... Сколько котенок может прожить один в лесу, как ты думаешь?
– М-м... долго. Если выносливый.
– Так вот, я его не нашла. Нашла кошечку, мертвую. Ее, видно, машиной сбило. А она с ошейником. Глаза выкатились. Рыжая такая, не сиамская... Знаешь, мне, наверное, надо было поговорить с тем мужиком, мужем Магды. Надо было успокоить его, выслушать до конца. Может, он что-нибудь знает, что-нибудь придумал... Я там все тропинки исходила. Вокруг того места, где паркуются. Шарлотта наверняка тоже оставляла там машину... Ты только погляди на мои ноги – опять распухли, это опасно. Надо сходить к врачу... Хорошенькая рыжая кошечка с ошейником. Ее тоже кто-нибудь ищет. Беременным вредно смотреть на мертвого. Я это чувствую. Это не просто сказки старых бабушек – что на ребенка действует абсолютно все. У меня такое чувство, будто маленькому передалось что-то ужасное. Если он к тому же слабенький, он не захочет родиться. У меня как будто сверлит в этом месте. – Рокси прикоснулась к тому месту на боку, где начинался живот. – Слушай, посмотри на мои лодыжки, а? Может, тут токсины какие, от которых умирают. И ребенок тоже.
– Надо позвонить доктору. Или Сюзанне.
Как странно, подумалось мне, что мы обращаемся к Сюзанне, хотя она участвует в заговоре против Рокси, пытается отнять ее вещи, да еще кормит ее врага. Нам обоим не хватало матери, особенно Рокси. У меня есть миссис Пейс.
22
Аппетит приходит во время еды.
Рабле
Рокси обезумела от горя, зато я была счастлива. Я поняла это в ходе ежегодного самоанализа, которым занимаюсь не на Новый год, а двадцать третьего октября, посвящая ему пять минут. Это день моего рождения. Я пришла домой поздно, после собрания в Четырнадцатом округе, где выступал Эдгар. Воздух был свежий, но не очень холодный, деревья заиндевели, на небе вышла луна, заливая все вокруг каким-то обещающим серебристым светом и легкой молочной дымкой. На улицах было полно народу, как в погожий полдень, и я была счастлива.
Счастлива, если только вообще можно осмелиться и сказать, что ты счастлив. Вернее, не сказать: «Вот оно, счастье», – а просто оглянуться назад, на прошедшие месяцы, и увидеть, что ты изменилась, как меняется человек, чьи мысли заняты не столько самим собой, сколько событиями и вещами, происходящими помимо него. Всматриваясь в прошлое, я поздравила себя с тем, что не бросила работу у Эймса Эверетта, у Рандольфов, у других, хотя давно пора ее бросить, потому что она больше не нужна мне и занимала вторую половину дня. Мне больше не хотелось выгуливать Скэмпа, хотя я привязалась к нему, и Женни тоже. Иногда я брала пса с собой, когда ходила в детский сад за девочкой, совмещая таким образом обе обязанности. И все же я чувствовала, что способна на большее. Я не бросала работу только потому, что дала обещание, хотя подозревала, что нужна только Эймсу, который любил днем позабавиться со своим дружком, инструктором по гимнастике.
Да, я была счастлива. У меня была полнокровная сексуальная жизнь, романтическая тайна, разнообразные интересы. Неизвестность печальной развязки моего романа – разве он мог кончиться иначе? – не пугала меня, так как была делом отдаленного будущего. Впереди меня ожидали французский язык, новые книги, культурные открытия, на которые меня постоянно подталкивала миссис Пейс, растущая привязанность к маленькой Женни. Меня окружали красота (Париж) и искусство, и первый раз в своей биографии я зажила интеллектуальной жизнью, признаваемой другими. Конечно, это была интеллектуальная жизнь в зачаточном состоянии, но и такой отнюдь не способствовали ни школа в Санта-Барбаре, ни университет в Южной Калифорнии – во всяком случае, кинематографический колледж, во всяком случае, условия обучения для женщин.
Изабелла, ты можешь стать кем хочешь, всегда говорили мне окружающие – Честер, Марджив, учителя. Они говорили, но я-то знала, что это не так. Их словно объединял некий заговор заблуждения. «Здоровая хорошенькая американская девушка – ты можешь стать кем угодно». Но я не хотела становиться кем угодно. Мне не светило сделаться балериной, пианисткой, врачом или кинозвездой. Другие вероятные перспективы: администратор по кадрам, психолог и т.п. – вызывали у меня отвращение. Таких ужасов я бы не перенесла.
Рокси легче, она всю жизнь мечтала стать поэтессой. А мне не хотелось сосредоточиваться на чем-то одном. Никакая работа не давала простора моей любознательности. Не в какой-то конкретной области, а огромной, всепоглощающей любознательности вообще. Если бы я попробовала выразить это чувство словами, мне бы не поверили и посоветовали: «Пораньше встанешь – побольше узнаешь».
Я пытаюсь описать подъем, удовлетворение и некоторое тщеславие, охватившие меня в день рождения. Первый раз в жизни меня интересовало все на свете. Я почувствовала, что Калифорния не интересна – не потому, что там нет новых книг, интересной работы и хороших любовников, нет голливудских концертов и модных магазинов «Фредерик», а потому, что некому подсказать, как их найти и как ими воспользоваться. Если не знаешь, как это все найти, то можно провести годы и годы, не догадываясь о том, что ты потерял. Если бы я поведала это Честеру и Марджив, они бы взбеленились, начали бы говорить, что с самого моего детства пытались водить меня на всевозможные культурные мероприятия, но я только дулась и оставалась дома, чтобы побаловаться травкой.
Не хочу сказать, что я перестала быть истинной калифорнийкой, но я знаю и другое. Пример? Пожалуйста. Сейчас я читаю роман турецкого писателя Билге Карасу. Так вот, в Калифорнии я бы в руки не взяла книгу, написанную каким-то Билге, хотя разыскать ее там наверняка можно.
Разговаривая с кем-нибудь из знакомых Эдгара, я могла небрежно обронить: «Да, читаю сейчас турецкого модерниста Билге Карасу, Кальвино и голландца Сеса Ноотебома». Я не врала, я действительно их читала, но, конечно, в переводе. Раз или два я заметила, как у дяди Эдгара приподнялась бровь, и бросила дурацкое хвастовство.
Однажды миссис Пейс сказала мне:
– Изабелла, вы хорошо чувствуете литературу. Вам нравятся произведения Ноотебома?
Я ответила, и начался оживленный разговор о романистике. Миссис Пейс беседовала с явным удовольствием, держалась со мной на равных и только иногда поправляла меня, если я уносилась в чересчур широкие обобщения. Рокси с удовлетворением наблюдала за моим культурным ростом или по крайней мере за тем, как у меня выравнивается характер. Я поняла это по отдельным репликам во время ее разговоров с Марджив и Честером.
Вот я сижу с Ивом и тысячей других в одной из аудиторий Центра Помпиду. Из громкоговорителей, развешанных по стенам, доносится нестройное детское пение, журчание бегущего ручья, звучные аккорды органа, сливающиеся в какофонию небесных сфер, катастрофическую астральную музыку. Звуки словно выскакивают то слева, то справа, то сзади. Музыка отчасти тревожная, напоминающая о пропавшем котенке, раздавленном внутри громкоговорителя, отчасти мягкая, успокаивающая. Я думаю о котенке Шарлотты, о распухших ногах Рокси, об Эдгаре, о том, что в Санта-Барбаре я вряд ли стала бы слушать музыку Штокхаузена. Вся картина – как будто конспект моей новой, парижской жизни.
Сочинение Штокхаузена, как я догадываюсь, немца, сменяет музыка какого-то англичанина, которая гораздо приятнее на слух. Ив закатывает глаза, стараясь вслушаться в новые звучания. Ив похож на всех других, сидящих в зале, взъерошенных, напряженных. Аудитория неотличима от тех, кто собирается в Южнокалифорнийском университет. Разница лишь в том, что здесь присутствует Изабелла Уокер, которая раньше ни за что не согласилась бы, чтобы ее видели среди зануд.
Я упомянула голливудский «Фредерик» потому, что теперь я ношу дорогое французское белье, самое вызывающее и изящное, какое только могла найти. Парижские бюстгальтеры мне впору и сидят отлично: грудь у меня поменьше, чем у Рокси. Одно время я даже игриво подумывала, не ограничиться ли поясом и чулками, обрамляющими венерину дельту (кстати, чтобы сказать «подчеркнуть» – достоинства фигуры, например, – французы используют выражение mettre en valeur, то есть, грубо говоря, «выставить на оценку»). Но потом решила, что это будет чересчур.
Миссис Пейс, Рокси, Эймс Эверетт и другие знакомые догадываются о моем романе. Они знают, что у меня кто-то есть, но ни одна живая душа не подозревает, кто именно. Эймс расценивает это как грязь и гнусность. Когда я ухожу от него, отправляясь в обход моих клиентов и опаздывая к миссис Пейс, он, вероятно, думает: нет, Изабелла не такая добродетельная, как Роксана, она просто шлюшка, от нее иногда так и несет безоглядным распутством, несмотря на ее интеллектуальные претензии. У меня даже создается впечатление, будто он знает, что я только что выпрыгнула из постели. В его манерах появляется отчужденность, хотя женщины его нисколько не интересуют. Он как бы становится Иродом, а я Саломеей. То, что ему представляется моей склонностью к пороку, которая одновременно отталкивает и притягивает его, – всего лишь дневное любовное свидание с моим тайным поклонником.
Эдгар – любовник страстный и смешной, хотя почему смешной, сказать трудно. Он смешит меня в постели и доставляет мне удовольствие. Ни того ни другого по отдельности недостаточно, чтобы влюбиться в мужчину. Когда есть и то и другое – этого тоже недостаточно. Должно быть что-то еще. Мне было приятно, что его знают, что с ним заговаривают. Франция – маленькая страна, французы смотрят одни и те же теледебаты, читают одни и те же газеты. Газеты каким-то образом связаны с жаждой его объятий по вторникам. Мне нравится, когда он разглядывает меня. Он говорит, что помнит каждую родинку на теле у женщин, с которыми спал (умалчивая о том, сколько их было), – такая уж у него хорошая зрительная память.
Иногда у меня возникает опасение, не слишком ли я податлива и сладострастна, чтобы оставаться привлекательной для Эдгара. Ведь мужчины, говорят, только о том и мечтают, чтобы своими ласками разбудить спящую красавицу, снежную королеву. Со мной особых стараний не нужно, я не ледышка. Я не могу притвориться, будто не кончила, но могу отодвинуть оргазм, если буду думать о постороннем. Впрочем, это слишком большая жертва с моей стороны, даже если вдруг захочу сделаться куртизанкой, ибо именно от них требуется фригидность. Моя прямая, откровенная сексуальность – не мешает ли она опытному, искушенному любовнику?
Я попыталась поговорить на эту тему с Эдгаром, хотя ему явно не хватало некоторых ключевых английских слов. Хорошо, что разговор хоть рассмешил его.
Иногда мне самой смешно думать о том, что Бог сверху наблюдает за нами, видит, как я, раскинув по подушке повлажневшие волосы, обхватываю ногами за шею пожилого мужчину или, наоборот, стою на четвереньках, упираясь локтями, а он берет меня сзади, покрывая меня своим телом, входит в меня и одновременно ласкает рукой мой клитор – двойное возбуждение, как будто тебя трахают сразу двое, например, два солдата-турка, о которых пишет Билге Карасу, турецкий модернист, создающий образ темного города как метафоры души и рекомендованный мне миссис Пейс.
Эта книга – о пытках и политических репрессиях, темы, которые близки Эдгару. Я старалась найти французский перевод, чтобы он прочитал, как безымянные изверги каждую ночь выбирают наугад на улице красивого юношу и забивают его до смерти. От того ничего не остается – сплошное кровавое месиво. Потом приходят другие и посыпают его останки опилками. Это ужасное зрелище вселяет в людей страх и покорность. Так, наверное, и происходило в Горажде, где сербы резали мусульман, и Рокси, как загипнотизированная, всматривалась в кадры телехроники. Она своими глазами видела на экране страшную реальность, но отказалась прочитать литературное описание пытки, сказав, что это «чересчур чудовищно».
23
«Смотри, – сказал я себе, – какой-то несчастный терпит беду или борется со смертью... концом пути, который не приносит ни утешения, ни покоя».
«Адольф»
Вскоре после моего дня рождения, в четверг, я осталась на ночь у Эдгара. Он уехал с последним поездом в Авиньон, а я лениво бродила по квартире, потом почитала книгу Токвиля, лежащую на тумбочке возле кровати. («Стыдно сказать, – говорил Эдгар, – никогда его не читал. Должен признаться, что Соединенные Штаты мало меня интересовали. Всегда считал Америку страной упущенных возможностей. Но теперь, став другом американки, я, кажется, изменил мнение. У Токвиля изумительный афористический дар. Послушай, Изабелла, что ты скажешь об этой мысли? „Простые вкусы, размеренные обычаи, семейные привязанности и любовь к родным очагам во Франции считаются главными условиями спокойствия и благосостояния государства. В Америке же, напротив, полагают, что эти добродетели приносят только вред“».)
Мы поспорили о том, стоит ли наложить запрет на демонстрацию американских фильмов во Франции. Эдгар убежден, что стоит.
– Если они такие плохие, почему же народ ходит на них? Раз уж вы так любите покой и порядок? – возражала я.
– Между американцами и французами есть существенная разница. Вы считаете, что, если люди чего-то хотят, это надо разрешить. А потом казните себя, что увлеклись тем, что на самом деле презираете. Мы же, французы, полагаем, что людям нужно не то, что хорошо, а то, что легко. Да, потакать лености – не самое лучшее свойство человеческой натуры. Поэтому мы позволяем другим избавлять нас от дурных привычек и воспитывать полезные.
– Французы задыхаются в роскоши, – заметила я. – Вы так роскошествуете и гурманствуете, что куда там!
– Ну что ж! Мы вознаграждаем себя за наш покладистый характер.
Наши споры оставляли во мне беспокойный осадок. Кто я, в конце концов, – вместилище всех американских пороков и добродетелей? Когда Эдгар ушел, я стала перелистывать Токвиля. У него сказано: «Счастливые и имеющие власть не бегут из страны». Это верно? Приложимо к Рокси и ко мне?
Потом я уснула. Когда проснулась, было уже утро. Рокси не ждет меня дома, если мы заранее не договорились, что мне надо побыть с ребенком, и вообще не интересуется, где я. Иногда я даже не спускаюсь к ней позавтракать до ее ухода с Женни в детский сад. Так что по утрам она меня часто не видит.
В утренние часы в Париже чисто и сыро. Вовсю трудятся уличные уборщики в ярко-зеленых блузах, прочищая стоки пластиковыми метлами. Когда ровно в половине девятого я вышла из метро, мимо «Погребка надежды» проплывали машины. В «Погребке» уже сидели ранние пташки – кто пил кофе, кто coup de rouge[78]. Пробежал человек, натягивая на ходу рабочую робу, но улицы были еще пустынны. А в половине десятого за прилавками и конторскими столами внезапно начали появляться люди, даже непонятно, как они там оказались. Только несколько недель спустя я сообразила, что они работают поблизости от тех мест, где живут, поэтому переездов мало. Зовущий аромат кофе и свежих булочек, розово-золотая полоска в небе, неудержимое желание посидеть в «Погребке», думая о Париже и любви. Но любовь все равно останется неразгаданной тайной. Что заставляет туженщину любить этогохилого человечка? Вон там полный француз любовно протягивает руку, помогая сойти с подножки автобуса миниатюрной седой восточной женщине с утиными ногами, обутыми в девчоночьи туфельки с ремешком, – как они познакомились? Странности любви пьянили меня во время каждой автобусной поездки, во время каждой прогулки по Люксембургскому саду – и на каждом шагу свидетельства слепоты любви и ее чарующей проницательности.
Счастливая, я покупаю «Фигаро», слишком консервативную на взгляд Рокси, но зато самую легкую по языку, и одолеваю новости из Боснии. Эдгар иногда пишет сюда по четвергам. Господи, да я с ними совсем недавно познакомилась, с этими двумя людьми, которые упоминаются на первой и второй полосе «Фигаро»! Я торжествовала от сознания, что умей я говорить по-французски (полнейшая невозможность!), то могла бы, в принципе, напомнить этим двум важным персонам, что я – Изабелла Уокер, что мы встретились, когда... и т.д. То есть у меня есть повод заговорить с бывшим министром и архиепископом! Потрясающе! Там, в Калифорнии, Изабелла Уокер вообще ни с одним деятелем не была знакома.
Допив чашку café au lait[79], я прошла на улицу Мэтра Альбера и набрала код входной двери, стараясь припомнить, видела ли меня Рокси вчера в этом платье. Если видела, то поймет, что я не ночевала дома. А-а, какая разница, решила я, пойду прямо к ней, потом переоденусь.
Но я могла подняться к себе, и не заходя к ней...
Я отперла дверь в квартиру, прошла в кухню. Не найдя там Рокси, снова подумала пойти к себе, но не пошла. Заглянула в холодильник, положила на стол «Фигаро», чтобы она почитала, когда вернется... Я ведь могла уйти, повторяю, могла – сверлит сейчас страшная мысль. И еще я с испугом думаю о капризах случая, о том, какие штуки выделывает он с человеком.
Потом я услышала «бух!». Не могу подобрать другого слова, чтобы передать тот тяжелый глухой звук, как будто уронили что-то мягкое или упал человек, звук, похожий на тот, что мы слышали в детстве, когда кто-нибудь из нас падал с кровати.
Я прошла в гостиную. Немного удивляли две вещи: что это за шум и зачем Рокси так рано повела Женни в садик. Оглядываясь назад, я не могу восстановить ни цепочку своих мыслей, ни причин того, почему я медлила, медлила... Машинально я постучалась в Роксину спальню и, не услышав ответа, приоткрыла дверь, заглянула внутрь и увидела Рокси, лежащую около кровати, всю в крови.
Как правильно пишут репортеры – в густой липкой луже крови с перепачканной рукой и щекой.
Кровотечение, мелькнуло у меня в голове стертое слово, но сейчас оно наполнено реальным содержанием. Я кинулась вперед, дотронулась до Рокси. Рука у нее была теплая. Она пошевелилась, дрогнули потемневшие веки, можно было подумать, что она притворяется. Я не знала номера парижской неотложной помощи, но на аппарате был указан телефон пожарной охраны. Задыхаясь, я кричала в трубку: «Моя soeur, sang, vite!», потом выдавила: «Venez rapidement, s'il vous plait!»[80]– и дала им адрес. Я попыталась поднять Рокси, втащить ее на кровать, но не смогла. Она как будто впитала всю кровь с пола и отяжелела, словно намокшая губка. Она лежала на пропитанной кровью подушке, липкой, темно-красной, как томатный соус, и такой ненастоящей, точно в фильме ужасов. Мне казалось, что я уже вижу под ней плод...
Я бросилась в ванную за полотенцем и, возвращаясь, сообразила, что кровь у нее идет не из влагалища, как я думала, а из запястий. Точно! На обоих запястьях виднелись глубокие порезы и еще на тыльной стороне ладони, где Рокси начала резать, забыв, что надо вскрыть вены повыше запястий. То есть если действительно хочешь умереть. Из страшных ран сочилась кровь, пузырясь, как пена. Мои окровавленные руки оставили отпечатки у нее на щеке, до которой я случайно дотронулась, и на шее, где я пыталась нащупать пульс. Одно запястье было порезано сильнее другого, и, схватив с туалетного столика шерстяной шарфик, я туго его обмотала. Я помнила, что надо еще зажать руку над локтем, по-французски это, кажется, называется турникет, но я не знала, как это делать.
Те минуты коренным образом изменили мою жизнь, взгляды, характер, судьбу.
К счастью, я сохраняла ясность мыслей, потому что думала и о номере «Скорой помощи», и о венах, и о зажиме на предплечье. Я обмотала одним чулком от колготок руку Рокси над локтем и туго стянула. Если Рокси умрет, кровь сразу остановится? Если кровь еще течет из запястий, значит, она жива? И еще я думала о ребенке – умрет ли он до Рокси или после нее, и сколько у него осталось времени. Странно, что она решила погубить ребенка после стольких месяцев, или это трагическая случайность? Впрочем, случайно оба запястья не режут.