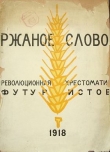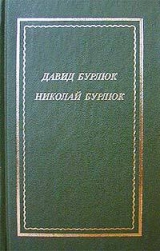
Текст книги "Стихотворения"
Автор книги: Давид Бурлюк
Соавторы: Николай Бурлюк
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
Мир в поэзии Д. Бурлюка – это как бы огромный организм, некая вечно живущая субстанция, единая физиологическая система. И существование его обусловлено не отвлеченными идеями и умозрительными ценностями – философскими, этическими, эстетическими, политическими и т. д., – а некими органическими процессами, ощущением собственной самодостаточности, уравновешенности, стабильности. Этот мир под стать самому Д. Бурлюку, он – как бы его гигантский автопортрет, каждая деталь, каждый элемент его несет на себе черты автора.
Со свойственной ему прозорливостью Д. Бурлюк первым понял, что со вступлением России в Первую мировую войну общественный интерес к футуризму естественным образом уменьшился и что футуристам срочно необходимо было менять свою поведенческую тактику: время перманентной литературной и общественной конфронтации прошло. Именно Д. Бурлюк, казалось бы, самый последовательный в своей непримиримости, первым из футуристов заговорил о необходимости существования «единой эстетической России», – с таким подзаголовком в альманахе «Весеннее контрагентство муз» (М., 1915) была опубликована его стилизованная под речь, произнесенную с «изломанного лафета австрийской гаубицы», статья «Отныне я отказываюсь говорить дурно даже о творчестве дураков». Статья эта, написанная во вполне футуристической манере вызова и эпатажа, на деле носила вполне примиренческий, даже дружелюбный характер. «Слово мое, – писал Д. Бурлюк, – мало заинтересованное успехом конечного результата, имеет целью показать перемену в настроениях и мыслях отчаянных голов – футуристов, главным образом, конечно, моей». Перемена действительно произошла, если лидер будетлян заявляет: «Обращаюсь и убеждаю: будьте подобны мне – мне носящему светлую мысль: „всякое искусство– малейшее искусство – одна попытка, даже не достигшая (увы!) цели – добродетель!“» С другой стороны, вряд ли уж Д. Бурлюка можно заподозрить в неискренности и конъюнктурности. В это время, в силу различных обстоятельств, футуристы оказались не в состоянии выступать единым фронтом, тем более что для некоторых из них настоящий – не литературный, а военный – фронт, стал неизбежной реальностью. И Д. Бурлюк, выступая от себя лично, а не выражая групповые интересы, высказал точку зрения вполне для него характерную. Он и сам это подчеркивал: «…Это мое выступление неявляется выступлением от какой-либо группы или партии – а публичное исповедание моих личныхвзглядов (симптоматичных все же, должно быть, для этой эпохи, в кою мы вступаем, и посему, – достойных внимания)…» То, что для русского футуризма действительно настала новая «эпоха», вскоре заявит в этапной для всего движения статье «Капля дегтя» Маяковский: «Да! футуризм умер как особенная группа, но во всех вас он разлит наводнением.
Но раз футуризм умер как идея избранных, он нам не нужен. Первую часть нашей программы разрушения мы считаем завершенной. Вот почему не удивляйтесь, если сегодня в наших руках увидите вместо погремушки шута чертеж зодчего и голос футуризма вчера еще мягкий от сентиментальной мечтательности сегодня выльется в медь проповеди».
В начале лета 1915 года Д. Бурлюк с семьей уезжает в Башкирию, где, по-видимому, занимается поставкой сена на фронт, что, впрочем, не мешает ему вести активную творческую деятельность и периодически наведываться в Москву.
Последний этап совместной деятельности футуристов «первого призыва» приходится на революционные 1917–1918 годы. Д. Бурлюк принимает участие в художественном оформлении «Кафе поэтов» в Москве и организации новогодней «Елки футуристов» в Политехническом музее. В марте 1918 года увидел свет единственный номер «Газеты футуристов», выпущенный Маяковским, Каменским и Д. Бурлюком. В газете, среди прочих материалов, были опубликованы две коллективные декларации: «Декрет № 1 о демократизации искусств: (заборная литература и площадная живопись)» и «Манифест Летучей Федерации Футуристов». С ними перекликалось опубликованное тогда же стихотворение Каменского «Декрет О заборной литературе – О росписи улиц – О балконах с музыкой – О карнавалах искусств», один из призывов которого гласил:
Художники – Великие Бурлюки
Прибивайте к домам карнавально
Ярчайшие свои картины
Тащите с плакатами тюки —
Расписывайте стены гениально
И площади – и вывески – и витрины.
Д. Бурлюк не заставил себя ждать и упрашивать, начав «демократизировать» искусство немедленно. Тот же Каменский вспоминал: «На другой день после обнародования моего декрета я шел по Кузнецкому и на углу Неглинной увидел колоссальную толпу и скопление остановившихся трамваев.
Что такое?
Оказалось:
Давид Бурлюк, стоя на громадной пожарной лестнице, приставленной к полукруглому углу дома, прибивал несколько своих картин.
Ему помогала сама толпа, высказывая поощрительные восторги.
Когда я, тронутый вниманием, пробился к другу, стоявшему на лестнице с молотком, гвоздями, картинами и с „риском для жизни“, и крикнул:
– Браво!
Бурлюк мне сердито ответил:
– Не мешайте работать!
Прибитие картин кончилось взрывом аплодисментов толпы по адресу художника».
Говорить о политических симпатиях Д. Бурлюка этого периода достаточно сложно, и тем более вряд ли можно о них судить по его post factum появившимся утверждениям вроде того, что «футуризм был первым любимым оруженосцем победившего пролетариата». Революционность футуристов касалась преимущественно сферы искусства. В «Манифесте Летучей Федерации Футуристов» они обращались с призывом: «Мы пролетарии искусства – зовем пролетариев фабрик и земель к третьей бескровной, но жестокой революции, революции духа». Вероятно, политические взгляды Д. Бурлюка были близки позиции Маяковского, который в той же «Газете футуристов» писал: «Революция содержания – социализм-анархизм – немыслима без революции формы – футуризма», – тем более что контакты Д. Бурлюка с анархистами имели место.
«Я в Москве пробыл при первой пролетарской власти с 25 октября по 2 апреля включительно 1918 года, когда я уехал к семье в Уфимскую губернию и летом автоматически оказался отрезанным от своих возникновением „чехословацкого фронта“, поддержанного тогда же белыми „орлами“ контрреволюции», – писал позже Д. Бурлюк. Его последнее, вынужденное и самое продолжительное по времени и протяженное по охвату территории «турне» по России закончилось 1 сентября 1920 года, когда Д. Бурлюк с семьей вступил на землю Японии. До этого были посещения десятков городов Сибири и Дальнего Востока, многочисленные выступления перед публикой с разъяснением футуристических идей и чтением стихов, выставки, публикации. «Бурлюк ехал и пропагандировал футуризм, – вспоминал дальневосточный литератор Петр Незнамов. – <…> Сам Бурлюк – цветистый, в необыкновенном своем жилете, с квадратной спиной, со стеклянным одним и с „до крика разодранным“ другим глазом, с лорнетом в руке <…>.
По приезде в город Бурлюк первым делом устраивал выставку футуристических картин и рукописей, а вечером делал доклад.
Импровизатор по преимуществу, зазывала и конферансье, он весь день шумел и спорил на выставке, давал пояснения, возражал, разубеждал, поражал знаниями, и то со страшным остервенением нападал на врагов футуризма, то с ласковой вкрадчивостью издевался над ними и наносил начищенные до блеска оскорбления».
Во Владивостоке состоялся непродолжительный альянс Д. Бурлюка с группой «Творчество», сплотившейся вокруг одноименного журнала. Участники группы (Н. Асеев, С. Третьяков, Н. Чужак и др.) выступали за политически ангажированное творчество, идущее на активный контакт с Советской властью. И футуризм рассматривался ими прежде всего как «литературное течение, борющееся на стороне пролетариата» (Н. Асеев).
Трудно сказать, был ли отъезд Д. Бурлюка в Японию результатом окончательного решения об эмиграции или вернуться ему помешали какие-либо обстоятельства. Официально, во всяком случае, он поехал туда с целью проведения художественных выставок (таковые состоялись в Токио, Осаке и Нагое).
В сентябре 1922 года Д. Бурлюк отбыл в США, ставшие постоянным местом его проживания (американское гражданство он получил в 1930 году). Здесь продолжилась его неутомимая и разнообразная творческая деятельность в качестве живописца и писателя. Он участвует в многочисленных выставках. Сблизившись с живущими в США просоветски настроенными литераторами, вплоть до 1940 года активно сотрудничает в газете «Русский голос», являвшейся, по его словам, «строго советской газетой, защищающей интересы нашей Великой Родины в стране хищного капитализма». В организованном Д. Бурлюком «Издательстве М. Н. Бурлюк» увидело свет несколько книг его прозы и поэзии, до 1967 года здесь же издавался журнал «Colour and Rhyme» («Цвет и рифма»). Он выступает как мемуарист, пропагандист русской живописи, теоретик по вопросам искусства, автор манифестов. (Впрочем, эта творческая активность далеко не всегда гарантировала стабильность материального существования, и, живя в США, семья Бурлюков неоднократно испытывала серьезные денежные проблемы.) И все это Д. Бурлюк рассматривал как продолжение своей футуристической деятельности, как некую миссионерскую обязанность «Отца Российского (советского) футуризма». Ярко выраженная политическая тенденциозность литературно-художественного творчества – это то новое, что во многом характеризует американский этап деятельности Д. Бурлюка. До революции он практически не касался напрямую вопросов социально-политического характера или, во всяком случае, его общественные претензии не особо выделялись из выражения общего недовольства наблюдаемым вокруг:
Еду третий класс
Класс для отбросса
«ДВОРЯНСКИХ (!!) РАСС» —
Пустая привычка…
(«Еду третий класс…»)
В своем же неприятии американской действительности, порицании жизни в «стране гнусного капитала» Д. Бурлюк во многом едва ли не превосходит Маяковского («Стихи об Америке», «Мое открытие Америки»). Но если критицизм последнего во многом был обусловлен необходимостью выполнения социального заказа, то позиция Д. Бурлюка, его ярый антиамериканизм, настойчивое утверждение коммунистических идей, именование (в частной переписке!) Ленина и Сталина «нашими великими дорогими вождями» могут вызывать некоторое недоумение, тем более что попыток вернуться навсегда в «страну рабочих и крестьян» он не предпринимал.
Однако Д. Бурлюка очень огорчал тот факт, что на Родине о нем, о его роли в истории искусства постепенно забывают, что ему «никак не удается <…> пробиться к непосредственной связи с советским читателем». Но в СССР, где футуризм был заклеймен как буржуазное, реакционное по своей сущности течение, явившее собой продолжение «формалистической безыдейной линии русской литературы», публикация произведений поэта-эмигранта, пусть и заявляющего постоянно о своих коммунистических позициях, была в принципе невозможна. Имя Д. Бурлюка в течение долгих лет упоминалось лишь в связи с именем Маяковского или как пример художника, сознательно искажающего «действительность», чьи произведения безнадежно «заумно-реакционны».
И все-таки Д. Бурлюка никогда не покидала надежда быть по-настоящему узнанным и признанным в России. Безудержный оптимизм, чувство молодости («Каждый молод молод молод…»!), жизненная и творческая ненасытность, фантастическая работоспособность – эти качества им никогда не были утрачены. «Я не жалуюсь, не сожалею, – писал Д. Бурлюк, – ибо в такую эпоху пришлось жить. Я доволен своей жизнью, ибо другой не знал и не буду знать. Кроме того, всякий сюжет может стать канвой настоящему искусству».
3
Николай Давидович Бурлюк во многих отношениях представлял собой полную противоположность своему бойкому старшему брату. Насколько выразительной, осязаемой, пластичной – ив жизни, и в творчестве – обозначается фигура Давида Давидовича, настолько нечетким, расплывчатым, почти эфемерным представляется образ младшего из братьев Бурлюков. Немногочисленные мемуарные свидетельства зафиксировали образ скромного, робкого, деликатного молодого человека, не склонного к конфликтам и скандалам, столь характерным для поведенческой практики кубофутуристов. Лившиц, познакомившийся с Н. Бурлюком в декабре 1911 года в Чернянке, вспоминал: «Третий сын, Николай, рослый великовозрастный юноша, был поэт. Застенчивый, красневший при каждом обращении к нему, еще больше, когда ему самому приходилось высказываться, он отличался крайней незлобивостью, сносил молча обиды, и за это братья насмешливо называли его Христом. Он только недавно начал писать, но был подлинный поэт, то есть имел свой собственный, неповторимый мир, не укладывавшийся в его рахитичные стихи, но несомненно существовавший. При всей своей мягкости и ласковости, от головы до ног обволакивавших собеседника, Николай был человек убежденный, верный своему внутреннему опыту, и в этом смысле более стойкий, чем Давид и Владимир».
Н. Бурлюк родился в слободке Котельва Ахтырского уезда Харьковской губернии. Не имеющий, в отличие от старших братьев, серьезной склонности к рисованию, он в 1909 поступил в Петербургский университет. Учился, как и Хлебников, с которым он здесь познакомился, на историко-филологическом и физико-математическом (естественное отделение) факультетах, несколько раз переходя с одного на другой.
Первые стихотворения Н. Бурлюк опубликовал вместе с братом в сборниках «Студия импрессионистов» и «Садок судей». В суровой оценке «Садка…» В. Брюсов. в целом назвавший материал сборника находящимся «за пределами литературы», отметил, что у Н. Бурлюка (как и у Каменского) «попадаются недурные образы». Такой оценке литературного метра способствовала, по-видимому, и эстетическая умеренность произведений начинающего поэта, тем более очевидная на фоне вошедших в это же издание творений Д. Бурлюка и Хлебникова.
После первых публикаций перед Н. Бурлюком стал вопрос о дальнейшем творческом пути. Если учесть пестроту тогдашней художественной жизни России, то выбор для литератора-дебютанта, еще четко не определившего своих позиций в искусстве, был весьма нелегок. В мае 1911 года Н. Бурлюк, ободренный снисходительной оценкой Брюсова, пишет ему: «Вы отчасти знаете меня по нелепому „Садку судей“, а теперь я вынужден просить у Вас той нравственной поддержки, которую я давно ищу.
<…> Я просто сомневаюсь в своем поэтическом даре. Я боюсь, что мой взгляд на себя слишком пристрастен. Поэтому я прошу Вас сказать мне – поэзия ли то, что я пишу, и согласны ли Вы, если первое правда, быть моим учителем». Не нашедший, как видно, поддержки у главы символистов, Н. Бурлюк вынужден был искать другие творческие ориентиры. Даже в период подготовки и выхода в свет «Пощечины общественному вкусу», фактически утвердившей существование сплоченной группы будетлян, он искал, в частности, контактов с другими художественными кругами. Так, в частности, Лившиц вспоминал, что «Николай Бурлюк собирался вступить в гумилевский „Цех поэтов“, очевидно, рисовавшийся ему неким парламентом, где представлены все литературные партии». Этим контактам способствовало отчасти и позитивное отношение Н. Гумилева к поэзии Н. Бурлюка: «…С ним он поддерживал знакомство и охотно допускал его к вереификационным забавам «цеха» <…>, – писал тот же Лившиц. – По поводу обычной застенчивости своего тезки, тщетно корпевшего над каким-то стихотворным экспромтом, он как-то обмолвился двумя строками:
Издает Бурлюк
Неуверенный звук.»
В своей рецензии на «Садок судей II» Гумилев охарактеризовал (наряду с хлебниковскими) произведения Н. Бурлюка как «самые интересные и сильные».
Однако именно с деятельностью кубофутуристической группы оказалась неразрывно связана творческая судьба Н. Бурлюка. Возможно, в этом сказалось столь характерное для Бурлюков чувство семейственности, и он определял направление своей деятельности исходя из позиций своих старших братьев. Может быть, участие в будетлянских проектах было самым надежным (а может быть, и единственным) способом заявить о себе, если учесть «пробивные» таланты других участников движения. По-своему прав был Шершеневич, не без иронии писавший: «…У Николая Бурлюка попадались неплохие, хотя совсем не футуристические стихи. Но можно ли было с фамилией Бурлюк не быть причтенным к отряду футуристов?!»
Н. Бурлюк был самым «правым» среди леворадикально настроенных кубофутуристов. Критики и мемуаристы неоднократно писали о случайности его кооперирования с этой группой. Чуковский, считавший Н. Бурлюка «посторонним» среди будетлян, «даже немного сродни трогательной Елене Гуро», писал о нем: «Грустно видеть, как этот кротчайший поэт напяливает на себя футуризм, который только мешает излиться его скромной, глубокой душе». Показательно, что Н. Бурлюк отказался подписать самый резкий по тону футуристический манифест «Идите к черту», открывавший альманах «Рыкающий Парнас» (СПб., 1914), «резонно заявив, что нельзя даже метафорически посылать к черту людей, которым через час будешь пожимать руку».
Возможно, многое, что сближало Н. Бурлюка с кубофутуристами, делалось им из «братской солидарности» (именно поэтому, по его признанию Лившицу, он «предпочитал хранить молчание», даже когда «у него самого возникали сомнения в целесообразности давидовых приемов пропаганды нового искусства»). Тем не менее, фактическое участие Н. Бурлюка в деятельности кубофутуристической группы было по-настоящему заметным и значительным. Его произведения были опубликованы во всех основных коллективных изданиях будетлян. Он активно участвовал в публичных выступлениях. Его петербургская квартира на Большой Белозерской улице, наряду с квартирой Кульбина в Максимилиановском переулке и домом Гуро и Матюшина на Песочной улице, стала одним из столичных «штабов» футуристов, своего рода «гилейским фортом Шабролем» (Лившиц). Выступал Н. Бурлюк и как теоретик. Именно эту область его деятельности, в частности, ценил в первую очередь Матюшин: «Поэт Николай Бурлюк был талант второстепенный, но он много помогал братьям в теоретизации их живописных затей». Статья Н. Бурлюка «Поэтические начала», написанная «при участии Давида Бурлюка», по-своему весомая, формулирующая важные принципы футуристической литературы, а также продолжающий ее фрагмент «Supplementum [2]2
Добавление (лат.). – Ред.
[Закрыть]к поэтическому контрапункту» были опубликованы в увидевшем свет в марте 1914 года единственном (сдвоенном) номере «Первого журнала русских футуристов». Рассуждая в «Поэтических началах» о связи слова с «жизнью мифа», о мифе как «критерии красоты слова», касаясь вопросов роли авторского почерка в восприятии литературного текста, связи цвета и буквы и др., Н. Бурлюк заканчивает свою статью типично футуристическим выпадом: «Я еще раз должен напомнить что истинная поэзия не имеет никакого отношения к правописанию и хорошему слогу, – этому украшению письмовников, аполлонов, нив и прочих общеобразовательных „органов“.
Ваш язык для торговли и семейных занятий». Еще более резок авторский тон в опубликованном в этом же издании полемическом «Открытом письме гг. Луначарскому, Философову, Неведомскому», в котором Н. Бурлюк рьяно отстаивает корпоративные интересы «бурлючества», – таким «сокращенным термином» он называет футуризм: «Вы, воспитанные под знаменем свободы слова со знанием диалектики и уместности сказанного, стараетесь убедить ваших читателей, что мы подонки Нашей родины. <…> Некоторые из вас борцы за свободу религии и труда и – вот какое позорное противоречие!! МЫ, ВАШИ БРАТЬЯ, а вы нас оскорбляете и унижаете за то, что мы не рабы и живем свободой. И если за нами идет молодежь нашей родины, то это ваша вина – вы были и есть азиаты, губящие все молодое и национальное».
В целом известное литературное наследие Н. Бурлюка невелико. Кроме вошедших в настоящее издание стихотворных произведений, а также упоминаемых выше работ теоретического характера, его составляют прозаические лирические миниатюры, включенные в состав нескольких футуристических альманахов (кроме того, известен факт работы Н. Бурлюка над романом, в котором, по воспоминаниям Марии Бурлюк, «дамы путешествовали по степям в карете, ведя разговоры»).
Стихотворные произведения Н. Бурлюка – это преимущественно чистая лирика, которая, как кажется, действительно далека от поэтической практики кубофутуристов. Но русский литературный футуризм – течение чрезвычайно пестрое и разноплановое, сочетающее в себе художественные явления внешне весьма далекие друг от друга (не только гилейцы, но и другие футуристические объединения допускали творческое сотрудничество очень разных художников: например, к эгофутуризму в свое время примыкали, с одной стороны, Г. Иванов и Грааль-Арельский, перешедшие потом в «Цех поэтов», а. с другой – Василиск Гнедов – один из самых крайних поэтов). Творчество Н. Бурлюка, Е. Гуро, Б. Лившица – поэтов наиболее «умеренных», но отнюдь не чужых среди гилейцев – определяло один из флангов деятельности группы (на другом фланге – Крученых), тем самым расширяя ее эстетический диапазон, делая ее художественный потенциал более разнообразным.
Стихи Н. Бурлюка – это поэзия тонких психологических движений, неуловимых душевных нюансов, эмоционального импрессионизма. Мотивы одиночества, грусти, тоски, беспричинной тревоги, усталости как бы перетекают из одного произведения в другое, в совокупности выявляя своеобразный облик поэта, очевидно предпочитающего ночную тишину громкой суетности окружающего мира. «В своих кратких, скудных, старинных, бледноватых, негромких стихах, – писал о Н. Бурлюке Чуковский, – он таит какую-то застенчивую жалобу, какое-то несмелое роптание <…>. И робкую какую-то мечту <…>. Он самый целомудренный изо всех футуристов: скажет четыре строки, и молчит, и в этих умолчаниях, в паузах чувствуешь какую-то серьезную значительность…»
Эмпирика в стихотворениях Н. Бурлюка заменяется авторскими размышлениями, полными драматической рефлексии и глубоких сомнений:
Неотходящий и несмелый
Приник я к детскому жезлу.
Кругом надежд склеп вечно белый
Алтарь былой добру и злу.
Так тишина сковала душу,
Слилась с последнею чертой,
Что я не строю и не рушу,
Подневно миром запертой…
(«Неотходящий и несмелый…»)
«Совсем по-особому мечтательны и философичны слова, с которыми приходит Н. Бурлюк в поэзию, – писал критик-современник. – Углубленное искусство стиха, лирика и лиризм, сплетенные друг с другом».
Элегические настроения, «старомодный» четырехстопный ямб, все эти догорающие дни, изящные, субтильные барышни (какой контраст по сравнению с дородными матронами Давида Бурлюка!), умирающие бабочки, тихие пейзажи («тишина» – здесь одно из ключевых слов) – все это, столь узнаваемое, многократно опробованное русской поэзией, делает стихи Н. Бурлюка подчеркнуто традиционными, но отнюдь не банальными. За всем этим просматривается по-своему выразительная личность автора, который без всякого позерства и саморекламирования, в доверительной, почти исповедальной тональности, ничего не доказывая и не отвергая, – пытается беседовать с читателем:
Я мальчик маленький – не боле,
А может быть, лишь внук детей
И только чувствую острей
Пустынность горестного поля.
(«Я мальчик маленький – не боле…»)
А может быть, когда узнают
Какой во мне живет пришлец,
И грудь – темницу растерзают,
Мне встретить радостно конец?..
{«Поэт и крыса – вы ночами…»)
Последние произведения Н. Бурлюка были опубликованы в 1915 году в альманахе «Весеннее контрагентство муз». Сам автор уже находился в это время на военной службе. После революции он, единственный из кубофутуристов, участвовал в Гражданской войне на стороне белых и, вероятно, погиб.
Столь разные судьбы Давида и Николая Бурлюков оказались теснейшим образом связаны с историей русского авангардистского искусства. Различен по весомости их вклад в русский футуризм, разными творческими путями шли они в широчайшем русле этого течения. Столь же различны и занимаемые поэтами Бурлюками позиции в русской поэзии первой половины XX. Но позиции эти – быть может, не центральные, но и не периферийные – заняты ими вполне по праву.
С. Красицкий