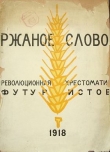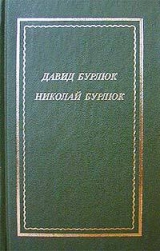
Текст книги "Стихотворения"
Автор книги: Давид Бурлюк
Соавторы: Николай Бурлюк
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
Меня это заинтересовало. Он долго не хотел объяснить, но в конце концов удовлетворил мое любопытство и протянул мне один из листков. Это были стихи. Крупным, полупечатным, нечетким от вагонной тряски почерком были набросаны три четверостишия».
Многие стихотворения Д. Бурлюка тяготеют к живописи в жанровом отношении. У него можно найти поэтические пейзажи: сельские («Это серое небо…», «Пейзаж»), городские («Ночные впечатления», «Над Вульвортом утро сегодня раскисшее…»), морские («Марина», «Море»), даже «фабричные» («Фабричный ландскеп»): портреты («Садовник», «Зазывая взглядом гнойным…»), ню («Похоти неутоленные»), натюрморты («На столе – бокал и фолиант…»), картины мифологические («Хор блудниц», «Брошенные камни», «Картина») и исторические («Вновь», «Всего лишь двести лет назад…»), гротескные сюжетные зарисовки («Не девочка а сексуал скелет…», «Негр упал во время пересадки на асфальт…») и т. д.
Очевидный художественный эклектизм Д. Бурлюка позволял ему создавать свои поэтические произведения в разных художественных манерах, в соответствии с различными, зачастую весьма далекими друг от друга художественными методами (то же мы опять-таки находим в его живописи: импрессионизм, экспрессионизм, кубофутуризм, примитивизм, даже соцреализм – особенно в американский период – и т. д.), хотя при этом особой эстетической экстенсивности поэзия Д. Бурлюка в целом не производит. Многие его картины вполне могли бы стать выразительными иллюстрациями – по теме, по жанру, по методу – к его собственным стихотворениям. Например, постимпрессионистические (под Ван Гога) пейзажи Д. Бурлюка конца 1900-х-начала 1910-х годов («Утро. Ветер», «Пейзаж с деревьями» и др.) вполне соотносимы с такими, например, стихотворениями этого же периода, как «Играл в полях пушистым роем туч…» или «Ветер». (Кубо)фу-туристические полотна (знаменитый «Мост. Пейзаж с четырех точек зрения») очевидно перекликаются с некоторыми образцами его урбанистической поэзии («Ваза», «Любитель ночи»), а «японские» картины 1921–1922 годов («Японская деревня», «Огасавара») – с «японскими» же стихотворениями («Огасавара (БОНИН)», «Ворота храма в Японии») и т. д.
Как и свойственно живописцу, у Д. Бурлюка было прекрасное чувство цвета. Показательно в этом отношении, что первые опубликованные его стихотворения – в «Студии импрессионистов» – имели непритязательные «колористические» заглавия: «Праздно голубой», «Зеленое и голубое». В духе фовизма Д. Бурлюк «живописует» в своих стихах «зеленые стада», «голубое поле», «желтые реки», «зеленые луны». Цветными у него становятся даже явления фонетического характера: «синий голос», «серый напев», «ОРАНЖЕВЫЙ <…> крик» и т. д.
Но, думается, как для Д. Бурлюка, так и для других кубофутуристов более важным и перспективным с точки зрения художественного новаторства был еще один аспект методологических взаимоотношений живописи и поэзии, ибо в нем нашла свое воплощение убежденность будетлян, что в современном искусстве главное не «что»,а «как».Они напрямую переносили технические, именно живописи свойственные качества, на искусство слова. Так, например, звук соотносился с краской (цветом), хотя единого мнения на конкретное соответствие первоэлементов различных видов искусств у футуристов не было. Хлебников закреплял за звуками определенные цвета и, как в знаменитом стихотворном портрете «Бобэбби пелись губы…», мог создавать существующие «вне протяжения» живописно-звуковые картины. Об этом же писал Кульбин: «Цвет (р – красное, ж – желтое и т. д.), но не в смысле живописи». 24 марта 1913 года в Троицком театре в Петербурге на организованном художественным обществом «Союз молодежи» диспуте «О новейшей литературе» Д. Бурлюк выступил с докладом на тему «Изобразительные элементы российской фонетики». По-видимому, он тоже говорил о связи звука и цвета, так как в цитируемой выше статье Кульбин пишет: «О цвете – Рембо (имеется в виду стихотворение „Гласные“. – С. К.)и Давид Бурлюк».
В своих стихотворных декларациях Д. Бурлюк также обращается к этой проблеме. Так, в стихотворении «Пространство = гласных…» он пишет:
Пространство = гласных
Гласных = время!..
(Бесцветность общая и вдруг)
Согласный звук горящий муж —
Цветного бремения темя!..
<…>
Согласный звук обсеменитель
Носитель смыслов, живость дня,
Пока поет соединитель
Противположностью звеня.
Через столь характерную для него физиологическую образность Д. Бурлюк и формулирует свою позицию, которую позже назвал «теорией звуковой значимости». Задача поэта, считает он, вложить в стихотворение «смысл» (содержание), передаваемый через согласный звук, который соотносим с цветом («Цветного бремения темя!..»). Цель гласных звуков – соединять «носители смыслов», определяя для них пространственно-временные координаты.
В стихотворении «Звуки на а широки и просторны…», характеризуя «гласных семейство», Д. Бурлюк дает именно пространственные, хотя и образные характеристики («округлость горба», «приплюснутость мель» и т. д.).
В некоторых случаях автор «подсказывает» читателю, какой «смысл» несет тот или иной согласный, как, например, в стихотворении «Лето», где все слова начинаются с «л»: «Л = нежность, ласка, плавность, лето, блеск, плеск и т. д.», – с этим звуком он связывал светлые, теплые тона и столь интенсивной аллитерацией пытался передать их – ведь именно они характерны для лета. В этом смысле функционирование этого приема у футуристов принципиально отличается от того, как использовалась аллитерация у других поэтов (из современников прежде всего у К. Бальмонта: «Влага», «Челн томленья» и другие стихотворения), так как апеллировала в первую очередь к цветовым ассоциациям.
Это же касается стихотворений, при создании которых автор сознательно не использовал какие-либо звуки (об этом Д. Бурлюк тоже иногда сообщает читателю). Прием тоже не нов: еще Г. Державин написал стихотворение «Соловей во сне», где ни разу не встречается «р», что вполне соответствовало «сонному» содержанию. Но опять же, у Д. Бурлюка это имело вполне «живописную» цель: так на картине могут, исходя из особенностей колористического решения, отсутствовать какие-то цвета.
Другим важнейшим принципом, по которому кубофутуристами соотносились живопись и поэзия, было понятие фактуры. Первым применил его по отношению к литературе Крученых, он же стал основным теоретиком в этом вопросе и в своей поэтической практике уделял ему особое внимание. Но и другие будетляне, безусловно, учитывали этот аспект при создании своих произведений. Литературная фактура характеризует особенности сочетаний различных элементов текста и, соответственно, может проявляться на различных уровнях. В брошюре Крученых и Хлебникова «Слово как таковое» фактура произведений Д. Бурлюка (и некоторых других гилейцев) характеризуется следующим образом: «чтоб писалось туго и читалось туго неудобнее смазных сапог или грузовика в гостинной.
(множество узлов связок и петель и заплат занозистая поверхность, сильно шероховатая <…>)» (орфография и пунктуация – оригинального текста. – С.К.).Причем эта характеристика в цитируемой работе опять же относится и к поэзии, и к живописи Д. Бурлюка.
Повышенным вниманием к фактуре обусловлены и некоторые «новаторские» приемы, встречающиеся в стихотворениях Д. Бурлюка, в частности отказ от использования предлогов. Тем самым достигалось уплотнение словесной массы, фактура стихотворного текста становилась более концентрированной, вязкой, плотной.
«Футуризм не школа, это новое мироощущение. Футуристы – новые люди. Если были чеховские – безвременцы, нытики-интеллигенты, – то пришли – бодрые, не унывающие… И новое поколение не могло почувствовать себя творцом, пока не отвергло, не насмеялось над поколением „учителей“, символистов», – писал Д. Бурлюк в книге воспоминаний. Футуристы, декларировавшие отрицание всехпредшествующих традиций, все-таки с повышенной энергией обратили свой эстетический нигилизм на литературную школу, доминировавшую в русской литературе в период, предшествовавший их собственному появлению, – на символизм. Впрочем, от символизма футуристы и унаследовали немало. Поэзия Д. Бурлюка буквально перенасыщена образами, которые в поэзии символистов зачастую выполняли важнейшие функции, являясь основными символами. Это образы – природно-космические (небо, солнце, луна, звезды, закаты, лазурь), урбанистические (улицы, фонари, дома), мифологические (Янус, Ариадна, Лета, Семирамида, наяды), музыкальные (песня, свирель, музыка) и т. д. Но явления эти в произведениях футуриста, во-первых, не призваны отсылать к своей трансцендентальной сущности (что было сверхзадачей символистской поэзии), а представляют собой явления вполне самодостаточные, «как таковые». Во-вторых, они подвергаются у Д. Бурлюка откровенной дискредитации. Небо в его поэзии становится «мертвым» или похоже на «смрадный труп» («Мертвое небо»), оно нависает «потной обмоткой» («Над Вульвортом утро сегодня раскисшее…») и у него обнаруживаются «титьки» («Титьки неба оттянуты к низу…»); луна оказывается «ОПАСНОЙ» («ТРУБА БЫЛА зловеще ПРЯМОЙ…»), она «прогоркла и невнятна» («Скобли скребком своим луна…»), сравнима со старухой или вошью («Луна старуха просит подаянья…»); солнце оборачивается «каторжником» («Солнце каторжник тележкой…»), а закат «Прохвостом»,«палачом» («Закат Прохвостобманщик старый…») или «маляром» («Закат маляр широкой кистью…»); звезды «запыленные» («Какой позорный черный труп…») и похожи на «черви» («Мертвое небо»); лазурь в поэзии Д. Бурлюка «бесчувственна» («„ЛАЗУРЬ БЕСЧУВСТВЕННА“, – я убеждал старуху…»), свирель «трупная» («Какой позорный черный труп…»), музыка – «икота» («Я пьян, как пианино…»), а тучи – просто «гады» («Беспокойное небо»). «Прежние поэты, – писал К. Чуковский, – например, так любили воспевать луну и звезды, звезды ясные, звезды прекрасные, огненные розы мироздания, – и что делал бы Фет без звезд! Бурлюки же именно поэтому: к черту звезды, к черту небеса! —
Небо – труп!! не больше!
Небо смрадный труп!!
Звезды – черви, пьяные туманом…
Звезды – черви, гнойная, живая сыпь! —
восклицает Давид Бурлюк в своей книге „Дохлая Луна“ и огромная область эстетики тем самым уничтожена, зачеркнута».
Пред этой гордою забавой
Пред изможденностью земной
Предстанут громкою оравой
Храм обратя во двор свиной
Пред бесконечностью случайной
Пред зарожденьем новых слов
Цветут зарей необычайной
Хулители твоих основ… —
писал Д. Бурлюк в стихотворении «Пред этой гордою забавой…». Кроме полемического характера по отношению к символистской поэзии столь специфическая образность в целом соответствовала футуристической эстетике (или анти-эстетике), призванной поколебать устоявшиеся и, с точки зрения будетлян, исчерпавшие себя представления о красоте, о том, что является допустимым в искусстве. Футуристы не сомневались, что таковым является буквально все. И, нанося «пощечины» так называемым «Здравому смыслу» и «хорошему вкусу», они (и Д. Бурлюк едва ли не усерднее других) наполняли свою поэзию образами, традиционно считавшимися «непоэтическими». «Навозная жижица» («Весна»), «отхожие места» («Неза-коннорожденные»), «мокрая подмышка» («Паровоз и тендер»), «окурки», «заплеванные калоши» («Участь») – все это вполне органично включается в поэтический мир Д. Бурлюка. «Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит», – словно хотели сказать футуристы словами столь чтимого ими Гоголя.
То же самое касается проблемы так называемого «гуманизма» в искусстве. Известно, какую шоковую реакцию публики в свое время вызвала понятая буквалистски фраза из стихотворения Маяковского «Несколько слов обо мне самом»: «Я люблю смотреть, как умирают дети». Но поэт Д. Бурлюк в целом может показаться значительно более жестоким и циничным. С каким весельем, непринужденностью, задором он пишет о предметах и явлениях, долженствующих вызывать абсолютно иные чувства и оценки. Вот как, например, описываются профессиональные «проблемы» гробовщика:
На глаз работать не годится!..
Сколотишь гроб, мертвец нейдет:
Топорщит лоб иль ягодица,
Под крышкой пучится живот…
Другое дело сантиметром
Обмеришь всесторонне труп:
Готовно влез каюту фертом —
Червекомпактнорьяный суп.
(«Бурлюк», 1921)
А вот как сообщается в одном из стихотворений о «трагической» кончине «знакомого» аптекаря:
От втираний и дурманов полупьян,
Что лепечут иностранно тайны – брань.
Мой аптекарь был веселый человек —
Отравился он и долгий кончил век….
(«Аптекарь»)
«Веселым часом» становится для лирического героя посещение кладбища («Сумерки»), а съеденный людоедами ученый является всего лишь деликатесом – «балыком» («Людоеды»). Даже метафорические образы часто у Д. Бурлюка весьма «антигуманны»: «Стилет пронзает внутренность ребенка…» («Пещера слиплась пустота…»); «Роженица раскрывшая живот…» («ЗИМА цветок средь белых пристаней…»); «Бедная сторожка и 10 синих глаз / Отрезана ножка у двух зараз…» («Крики паровоза») и т. д. И все это обычно пронизано чувством здорового, жизнеутверждающего черного юмора, без намека на какой-либо трагический пафос.
С проблемой комического в литературном наследии Д. Бурлюка связан важный аспект, многое, как представляется, определяющий в его творчестве. Это ярко выраженные в его поэзии пародийные тенденции, являющиеся одной из форм взаимоотношений футуристов с предшествующим и современным им искусством. «Многие открытия авангардистов на первый взгляд могли показаться пародийными, – пишет по этому поводу С. Бирюков. – Новые школы часто опираются на пародию, потому что пафос старых школ скатывается в пародию и новые как бы вынуждены подхватывать на этой ноте. Ибо: старое ужесмешно, потому что достигло своего апогея, а новое ещесмешно, потому что учится ходить и стесняется того, что оно новое». Среди кубофутуристов дань пародии отдали Хлебников, Маяковский, Крученых. Что касается Д. Бурлюка, то, видимо, можно говорить не об отдельных созданных им пародийных произведениях, а о том, что вся «его система осиливает расхожий материал в более или менее пародийном ключе, что и порождает свои, особые акценты» (В. Альфонсов). Впрочем, часто представляется затруднительным четко определить грань, отделяющую откровенно пародийные произведения от не-пародийных, или, во всяком случае, однозначно решить, насколько пародийно-комический эффект есть результат осознанной творческой установки или он достигается помимо воли автора. Порой у читателя могут возникнуть сомнения: всерьез пишет это Д. Бурлюк или нет; что перед нами – виртуозная пародия a la Козьма Прутков (с коррективами на литературные реалии XX века) или пиитические потуги новоявленного графа Хвостова? (Любопытно, что такая двусмысленность может проявляться и там, где Д. Бурлюк, вроде бы, подчеркнуто серьезен: трехстрочное стихотворение из сборника «Дохлая луна» он многозначительно называет: «Без А», – не стоит труда подсчитать, что это «экспериментальное» творение могло бы иметь еще четырнадцать – по современному алфавиту – заглавий.)
«Пародийное начало, присущее его поэзии, – пишет В. Альфонсов, – сводило счеты с прошлым и укрепляло реноме разрушителя-нигилиста». Но часто именно через пародию парадоксальным образом обозначалась у Д. Бурлюка связь его литературного творчества с поэтической традицией. «…Давид Бурлюк, как настоящий кочевник, раскидывал шатер, кажется, под всеми небами…» – утверждал Маяковский. Поэтическая ассимиляция (как сознательно полемическая, так и вполне, так сказать, мирная, безобидная), причем носящая, как кажется, универсальный, разнонаправленный характер, представляется одной из важнейших особенностей творческой манеры Д. Бурлюка. В совокупности его стихотворения обнаруживают связи с произведениями десятков авторов, начиная с русских поэтов XVIII века и заканчивая современниками, отечественными и зарубежными. Тредиаковский, Пушкин, Некрасов, Тютчев, Фет, Случевский, Брюсов, Сологуб, Белый, Маяковский, Хлебников, Северянин… Отзвуки их поэзии, проявившиеся в разные периоды литературной деятельности Д. Бурлюка, в той или иной степени можно ощутить во многих его творениях. Едва ли не вся русская поэтическая традиция оказалась включенной в содержательное поле его произведений, по-разному обнаруживая себя (мотивы, интонации, образы, формальные эксперименты и т. д.). Возможно, не всегда такого рода творческое заимствование можно считать удачным, возможно, поэтическое наследие Д. Бурлюка может порой производить впечатление вторичности (насколько вторичным представляется творчество большинства художников не крупнейшего масштаба, особенно с точки зрения солидной временной дистанции), однако вряд ли эту писательскую особенность можно оценивать, как утверждает современный исследователь, лишь как «способ компенсации собственной несамобытности» (Z. Bencic). Наоборот, несмотря на энергичное использование заимствованного материала, поэтический мир Д. Бурлюка вполне оригинален, своеобразен. субъективен. И он во многом определяется своеобразием лирического героя, предельно приближенного к личности самого автора, часто – подчеркнуто автобиографического. Ведь «циник», испытывающий творческое «щастье» («Щастье Циника»), «невнятный иностранец» («Все тихо. Все – неясно. Пустота…»), бывший «селянский человек» и «юнец румянощекий», «забавник» и «громила». ставший в Америке «жильцом провалов» («Я был селянским человеком…»), «ручеящий игрок» («Охотники на вещие слова…»), «послетип Дон-Кихота» («Он в Нью-Йорке»), «словесный метеор», «восточно выспренний эффенди», «катастрофы краснознак» («Я вижу цели, зрю задачи…»), «житель шумных городов», «обыватель полустанков» («Вдоль берегов лукавят острова…»), «словесный Святогор» и «контемпоренистый Мессия» («Златоуст»), наконец, «сатир несчастный, одноглазой, / ДОИТЕЛЬ ИЗНУРЕННЫХ ЖАБ» («Глубился в склепе, скрывался в башне…») и даже, возможно, «беременный мужчина» («Плодоносящие») – все это он, многообразный Д. Бурлюк, не пытающийся «выступать в различных масках» и «разыгрывать различные роли», а вполне непосредственный и искренний, органичный и последовательный даже в различных, но не исключающих друг друга проявлениях – будь то позерство или незамысловатость, аффект или эмоциональная сдержанность, стремление к глубокомыслию и менторству или обескураживающая наивность, академичность, «прекрасная ясность» стиха или показательное стремление соответствовать статусу футуриста-новатора.
Разумеется, лидер кубофутуристического движения не мог избежать в своей поэзии формальных «крайностей». В поэтических экспериментах Д. Бурлюка задействованы практически все уровни языка – от фонетики до синтаксиса. Но в целом откровенное новаторство его стихотворений не носило регулярного, последовательного характера (как, например, в творчестве Хлебникова или Крученых), оно проявлялось, скорее, эпизодично и по сути своей немногое определяет в его поэзии. И вряд ли за ним можно увидеть реально осознанное авторское желание радикально обновить поэтический язык. В большей степени это новаторство – дань общей будетлянской позиции, в нем тоже – и эпатаж, и провокация, желание писать так, как до этого никто не писал. Не случайно большинство поэтических экспериментов Д. Бурлюка относится к периоду активной деятельности «гилейцев». Выше уже говорилось об использовании им фонетической «инструментовки» стихотворений, отказе от предлогов, пренебрежении к правилам орфографии и пунктуации. Вот еще некоторые примеры.
В манифесте, открывавшем второй сборник «Садок судей», были сформулированы некоторые выдвинутые кубофутуристами «новые принципы творчества». Д. Бурлюк здесь, в частности, упоминается в качестве автора, разработавшего «переднюю рифму» (сам он называл ее «фронтальной»), – новшество фонетического характера:
Зори раскинут кумач
Зорко пылает палач
Западу стелется плач
Запахов трепетных плащ
(«Зори раскинут кумач…»)
Дверь заперта навек навек
Две тени – тень и человек
А к островам прибьет ладья
А кос трава и лад и я…
(« Зори раскинут кумач...»)
Юрий Тынянов писал, что футуристы дали «большие достижения» и в использовании графики в качестве «выразительного средства». В поэзии Д. Бурлюка эти «достижения» проявились прежде всего в выделении в текстах прописными буквами «лейт-слов» (прием, «одолженный», по-видимому, у Корбьера), – стихотворения таким образом наделялись дополнительными, внутренними смыслами, обозначались особые, важные для автора акценты, намечались разные уровни восприятия текста, увеличивалась экспрессивность произведений, фактура их становилась богаче и занимательнее. Эти же задачи по-своему преследовало и частое употребление курсива (тоже часто встречающегося в творениях Корбьера) и полужирного шрифта.
Другие примеры графических экспериментов – попытки визуальной поэзии (еще один наглядный вариант сочетания литературы и живописи) – представлены в произведениях с железнодорожной тематикой из «Первого журнала русских футуристов». Так, в стихотворении «Плаксивый железнодорожный пейзаж…» (заглавие достаточно условное, так как в контексте стихотворения начальная строка представляет собой что-то вроде авторской ремарки, обозначающей место действия) Д. Бурлюк самим расположением строк имитирует замысловатую траекторию движения поезда. В другом стихотворении («Зимний поезд») постепенно уменьшающиеся про длине строки, по-видимому, должны были передать впечатление от удаляющегося вдаль железнодорожного состава.
В контексте общей для футуристов тенденции к «обнажению» художественных приемов можно рассматривать такие нововведения Д. Бурлюка, как толкование собственных же метафорических образов – в виде сносок или прямо в тексте («Беспокойное небо», «Ваза», «Так на песчаной дюне…» и др.), объяснение значения отдельных слов: «хром (желтая / дешевая краска)…», – невозмутимо поясняет автор в стихотворении «Серые дни…».
В какой-то степени с этой же целью Д. Бурлюк обычно использует и математические знаки. Он (как кажется, бессистемно и несколько наивно, а на самом деле не без лукавства) соединяет с помощью знака равенства реальные явления и их метафорические эквиваленты, тем самым как бы намеренно схематизируя, упрощая, снижая творческий процесс и, что было важно для футуристической идеологии, выравнивая в своей весомости и значимости жизнь и искусство:
Поезд = стрела а город = лук
Фонарь = игла а сердце = пук.
(«Поезд = стрела…»)
Тропа снегов = пути белил
Мороз = укусы = жало…
(«Зимний поезд»)
В упомянутом выше стихотворении «Серые дни…» «уравнивание» в правах слова «хром» со словом «листья» («Листья = хром…») с последующим прозаическим толкованием («желтая / дешевая краска…»), с одной стороны, подвергает традиционный поэтический образ как бы двукратному «снижению», а с другой – позволяет именно цвету играть здесь доминирующую роль: листья мгновенно (насколько мгновенно математическое действие) словно растворяются в желтом.
Луна = ковычка +возвышенный предмет… —
читаем в другом стихотворении («Паровоз и тендер»). Это «действие сложения» – своего рода поэтико-математическая формула художественного образа, содержащая и тонкие пластические наблюдения (порождающие, кстати, предположение о намеренности ошибочного написания слова «ковычка»– ведь «о» по форме вполне может имитировать луну), и полемический аспект (определение «возвышенный» у Д. Бурлюка имеет, скорее, конкретно-пространственное значение, нежели является эпитетом), и опять же явную двусмысленно-ироническую интонацию, создаваемую именно не привычными для традиционной поэзии математическими знаками.
В использовании Д. Бурлюком отдельных слов, написание которых было ориентировано на фонетическую транскрипцию («ево», «ново», «пиково», «былово», «штоб», «щастье» и т. д.), также можно увидеть желание преодолеть герметическую литературность, текстологическую безупречность текстов, стремление приблизить поэзию к жизни, а также некие примитивистские, ориентированные на демократические уровни словесности интересы, в целом свойственные русскому поэтическому авангарду.
Что касается авторских неологизмов (а это одна из важнейших областей филологического творчества футуристов), то Д. Бурлюк, учтя богатый опыт Игоря Северянина, пошел, пожалуй, самым немудреным путем – путем словосложения: «случайноспутница», «жестокотиканье», «брегокеан», «розомрамор», «вечернедым» и т. д. (ср. у Северянина: «озерзамок», «алогубы», «зеркалозеро» и др.). Впрочем, энергичное словотворчество был характерно для американского периода творчества Д. Бурлюка, и это особенно очевидно из сопоставления раннего (см. раздел Приложение) и позднего (основной корпус текстов настоящего издания) вариантов стихотворений, вошедших в первый «Садок судей». В этом смысле, в частности, вызывает сомнение авторская датировка перенасыщенного неологизмами стихотворения «Градоженщина»: 1910 год, – в этот период Д. Бурлюку была более близка вполне привычная поэтическая лексика и он в своих «новаторских» стихах значительно охотнее использовал архаизмы («длани», «ланиты», «вежды» и т. д.), нежели словесные новшества. К словообразовательным открытиям Д. Бурлюка можно, пожалуй, отнести его эксперименты по созданию неологизмов, составленных из основ русских слов и иноязычных: английских («тонкофингерпринт»), японских («нихон'деревня»), греческих («воздухоантропос»).
Есть в поэзии Д. Бурлюка и попытки написания палиндрома: «Зелень… не лезь мясо осям!..» («В ночь перед получением известия о Верхарне»), моностиха: «Большая честь родиться бедняком!», примеры любопытной инверсии: «Это было тумане / Окраин Нью-Йорка на!» («Жена Эдгара») или: «Для храбрости хватив вина, / Готов злодейства разны на!» («Лунные шалости»). Есть и другие примеры эстетической «прогрессивности» его литературного творчества. Но все-таки большинство экспериментов Д. Бурлюка, будучи явлениями по-своему примечательными, не кажутся, однако, по-настоящему убедительными ни на фоне традиции, ни в сравнении с новаторством некоторых поэтов-современников, ни с точки зрения их художественной перспективности.
Русским футуристам, как известно, не пришелся по вкусу откровенно антифеминистский пафос итальянского футуризма. Иногда и они, в полемическом пылу, могли декларировать мужское, волевое, боевое начало своего искусства, имеющее своей «целью подготовить мужественную эпоху, на смену женоподобным Аполлонам и замызганным Афродитам» (например, Крученых не без гордости подчеркивал, что его «Победа над солнцем», «кажется, единственная опера в мире, где нет ни одной женской роли!»), но в своей поэтической практике почти никто из них не избежал темы «про это».
Выше уже неоднократно подчеркивалась чувственная, физиологическая, по сути эротическая основа творчества Д. Бурлюка, и в этом с ним никто из поэтов-футуристов не может сравниться. Он и сам писал о том, что «психологически эстетические склонности <…> тесно связаны с эротизмом», даже являясь «в ранних годах как бы „вторичными половыми признаками“». Чувственность свою Д. Бурлюк распространяет буквально на весь мир, но, естественно, прежде всего она проявляет себя в собственно любовной лирике.
Эти строки идут стенке косо,
Косой глаз или левша, дамским задом или торсом
Они наброшены спеша?
(«Эти строки идут стенке косо…»)
Лившиц вспоминал о периоде своего раннего знакомства с Д. Бурлюком, признавшимся ему как-то, что для него «все женщины до девяноста лет были хороши»: «Верный своим всеобъемлющим вкусам, он бросался от одного увлечения к другому, готовый перед первой встречной женщиной расточать свой любострастный пыл. И странное дело: при всем своем физическом уродстве Давид пользовался несомненным успехом». Сам Д. Бурлюк об этом периоде писал в одном из стихотворений:
Я был юнцом румянощеким
И каждой девушке резвясь
Я предлагал свою щекотку
Мечтая в ночь окончить связь…
(«Я был селянским человеком…»)
Меньше всего в любовной поэзии Д. Бурлюка можно найти описание каких-либо душевных нюансов, попытки передачи или осмысления чувства, этических и психологических добродетелей объекта любви. «Голозадые женщины Давида», обильно представленные в его графике 1910-х годов, безусловно, сродни женским образам его поэзии – те же пропорции и параметры (не рубенсовские или кустодиевские – бурлюковские!), те же ракурсы восприятия, те же привлекающие внимание автора, по-настоящему «выдающиеся» части тела:
Пусть девы – выпукло бедро
И грудь, – что формой Индостан…
(«Тяжесть тела мусмэ»)
Они несут запрятанные тайны
Горящих глаз, расплетшейся косы
Округлости грудей красы необычайной
И выкроек бедра искусстнейше косых…
(«Девушки»)
И даже когда, казалось бы, стихотворению задается возвышенный, элегически-романтический настрой – Д. Бурлюк верен себе:
Утренние дымы деревень твоих,
Утром порожденный, мгле пропетый стих.
Голубые розы просветленных глаз
И широкий женский плодоносный таз…
(«Утренние дымы деревень твоих…»)
Даже при обращении к столь деликатной теме Д. Бурлюк остается самим собой – ненасытным, чрезмерным, избыточным, этаким футуристическим раблезианцем. И – живописцем. И показательно, что когда Д. Бурлюк пишет о «крупном пупке», похожем на «пьянящий колодец, наполненный нежною влагою страсти», о животе «пушистых и знойных размеров», о «девушке-ложе» и «женщине-блюде» («Похоти неутоленные» – сколь характерное для Д. Бурлюка заглавие!), о «заде», который «смутно окрылился» («Ушел и бросил беглый взгляд…»), о девочке, которая, «расширяясь бедрами, / Сменить намерена мамашу» («Дочь»), – это не производит впечатления ни безвкусицы, ни вульгарности. В поэтических координатах Д Бурлюка такого рода эротика выглядит вполне органично и уместно. Более того, именно она, возможно, играет центральную роль в его поэзии, являясь своего рода и ее лейтмотивом, и идейным ядром. Именно она выявляет некоторые существенные мировоззренческие позиции Д. Бурлюка, отразившиеся в его литературном творчестве. Ведь для его поэзии вполне характерны свойства, которые, пусть с некоторыми оговорками, можно было бы назвать натурфилософскими. И пусть взгляды Д. Бурлюка лишены видимой системности и упорядоченности, пусть в них не просматривается опора на какие-либо философские или естественнонаучные учения (хотя и известен интерес поэта к деятельности И. Павлова и других современных физиологов), идейные приоритеты автора вполне очевидны. Они во многом определяются тем мощнейшим жизнеутверждающим пафосом, который так характерен для поэзии Д. Бурлюка. Пусть в некоторых стихотворениях в воспевании смерти, в утверждении всесилия и абсолютности небытия он может иногда превосходить самых мрачных декадентов, все-таки общее впечатление, которое производит поэзия Д. Бурлюка, – это радостное, полнокровное, ненасытное восхваление жизни во всех ее проявлениях.