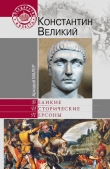Текст книги "Дурак (СИ)"
Автор книги: Дария Беляева
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
– Я поражен в самое сердце.
– Сегодня что-то подобное ты уже говорил мне, я начинаю ревновать.
Голос у Нисы, впрочем, не такой спокойный как обычно, она тоже смущена красотой этого человека. Мужчина смотрит на нас настолько безразличным взглядом, что, кажется, совсем не замечает. Он улыбается Офелле, говорит:
– Ясна, дорогая, ты с друзьями?
На нас он и после этой фразы не смотрит. Офелла быстро обнимает его, и он гладит ее по голове, легким, забавным жестом, и еще – немного картинным, чтобы мы все успели полюбоваться на его прекрасные пальцы. Он называет Офеллу Ясной, и я не удивляюсь. У тех, кто пришел сюда вместе с папой есть свои имена и свои языки. Но в документах и в обществе они часто используют совсем другие, латинские, имена, чужие им, но распространенные в Империи.
Нас пропускают в квартиру и снова бросают из великолепия в ужасное убожество. Коридор узкий, такой что проходить приходится друг за другом. Тесный коридор переходит в тесную кухню, а с другой стороны в тесную комнату. Штукатурка на потолке угрожающе отслаивается, а когда нас приводят на кухню, я вижу как под ненадежной рамой на подоконнике пузырится вода. Мне предлагают сесть на колченогий стул, и тогда я снова чувствую чье-то иное присутствие. Кто-то стоит у окна, холод от его движения касается моей руки.
Офелла говорит:
– Вообще-то кое-кому здесь нужно поговорить с тобой, папа. Он сын императора.
Она ведь обещала никому не говорить про папу, но не про меня. Наверное, если бы она не сказала, что я сын императора, ее отец и говорить бы со мной не стал. Отец Офеллы отвечает ей что-то на незнакомом мне языке, глубоком, рычащем и певучем. Они некоторое время спорят. Отец Офеллы даже не обращает внимания на то, что спорит при посторонних. Кто-то у окна наклоняется, так что я почти чувствую прикосновение к моему плечу. Наверное, прислушивается.
– Добро пожаловать, – наконец говорит отец Офеллы. – Называй меня Децемин. Это ведь тебе нужно со мной поговорить?
– Да, – говорю я. – Здравствуйте. Меня зовут Марциан.
Он смотрит на меня почти с брезгливостью, и я впервые вспоминаю о том, что я – сын императора. Обычно, когда на меня так смотрят, я об этом не думаю. Я не считаю, что все должны прощать мне мои недостатки, но Децемин смотрит на меня по-особому.
Как будто ему доставляет удовольствие брезгливость ко мне только когда он знает, чей я сын. Мне он не нравится и нравится одновременно.
– Давай поговорим в комнате.
Мы снова проходим через узкий коридор, и кто-то невидимый следует за мной.
– Зачем она за ним ходит? – спрашивает Офелла.
– Ей интересно, – отвечает Децемин. Я стараюсь не показать, что мне неуютно.
В комнатке, маленькой, с продавленным диваном и стареньким, наверняка вечно барахлящим телевизором, красоты столько, что я прежде и не думал, что такое возможно где-нибудь, кроме музеев.
К стенам с высушенными как пергамент, отслаивающимися обоями приставлены картины разных стилей и эпох, от удивительных женщин, вкушающих виноград до набора блестящих треугольников, ни на что не похожих и, наверное, все выражающих. Можно было бы спросить Юстиниана, но он вместе с Нисой и Офеллой остался на кухне.
На вешалках висят платья, явно дорогие – я много таких видел на женщинах высшего света, когда еще не переехал в Анцио, и только такие носит Атилия. Те, что висят здесь, наверняка, лучшие. Идеальные, из летящих тканей или тяжелого бархата, они смотрятся в этой комнате как вырезанные из глянцевого журнала картинки. Восточные статуэтки из чистого золота, стоящие на старом пианино, украшения, висящие на гвоздях в стене, птичьи клетки с изумительными орнаментами, множество всякой всячины на столе с потрескавшимся лаком – все завораживает, я словно оказываюсь в музее. Сочетание убогой бедности и роскоши как во сне, когда ничто ни с чем не вяжется. Децемин показывает мне в сторону продавленного дивана, сам остается стоять.
Я сажусь рядом со столом, чтобы рассматривать всякие мелочи невероятной красоты: драгоценные камни, широкие золотые кольца покрытые тончайшей резьбой, в которой умещается целый сад, игральные кубики из слоновой кости, редкие монеты вроде сестерциев с изображением моего далекого предка на них, гильотинка для сигар с тончайшим лезвием и остовом красного дерева, красноватая шкатулка из какого-то редкого камня с серебряными птицами на ней, может, даже музыкальная, и еще много всего, красивого до боли в глазах, такого что сразу хочется себе. Если продать хоть половину из этого, наверняка можно оплатить Офелле обучение в лучшем университете страны.
– Офелла вам рассказала?
– Да, – говорит он. – Мне тебя жаль, но вряд ли я могу что-нибудь сделать.
Он говорит об этом без особенного сожаления, кидает дежурную фразу. Я беру со стола калейдоскоп, спрашиваю:
– Можно?
Децимин вскидывает брови.
– А ты наглый.
Но еще он говорит:
– Играйся.
Я заглядываю в калейдоскоп, кручу его, наблюдая, как разноцветные стекляшки выстраиваются в фигуры невероятной красоты, такие сложные, что их нельзя придумать.
– Я хочу, – говорю я. – Попасть к моему богу. В моем народе туда еще никто не попадал. Но если все боги называются богами, то они устроены одинаково.
Я не говорю про папу и надеюсь, что Офелла не сказала. Децимин не вызывает у меня доверия, мне кажется, он всем разболтает. Это будет плохо.
– Ваш народ ходит к своей богине. Вы знаете, как.
Я верчу калейдоскоп. Зеркала и стекляшки меняют свои позиции, красное и золотое пляшет перед глазами, синие сердцевины расцветают и раскрываются как бутоны.
– Я хочу знать, как попасть к своему богу. Вы ведь что-то делаете, чтобы туда попасть, да?
Как все цветет. Зеленый и желтый, снова много синего. Фигуры, которым нет названия.
– Пожалуйста, скажите мне.
Я зажмуриваю один глаз, чтобы погрузиться полностью в эту красоту.
– Мы не ходим к нашей богине, это миф, – говорит Децимин. – Ты ведь чувствовал людей снаружи, но не видел их, так? Это пчелы, они работают. Приносят богине красоту с помощью своего дара, невидимости. Но мы к ней не ходим.
Кто-то садится рядом со мной на диване. Я откладываю калейдоскоп.
– Но я слышал, что вы приносите ей вещи в ее мир.
– А ты всем глупостям веришь, которые слышал или исключительно этой? Наша богиня – богиня красоты, мы собираем ее для нее, вот и все. Такие у нас обряды. И, кстати, многие вещи мы покупаем.
Я думаю, что ничто из того, что в этой комнате есть купить нельзя никому, кроме самых знатных принцепсов. Он улыбается, поймав мой взгляд, совершенно очаровательно:
– У меня есть расписка на каждую из этих вещей, поверь.
– Я не собирался вас шантажировать, – говорю я. Меня обижает его отношение, будто я ему враг. – Там на улице много невидимых людей, это жутко. И здесь у вас грустно и красиво. Но я пришел сюда не для того, чтобы лезть в жизнь вашего народа.
– А стоило бы, если ты подобен своему отцу.
Я не подобен своему отцу. Мой отец шантажировал бы его, угрожал бы ему, может даже жизнью его дочери, если бы считал, что делает это ради правильных вещей.
– Значит все, что я слышал – неправда?
Наверное голос у меня грустный, потому что Децимин вскидывает бровь.
– Ничем не могу помочь твоему горю. Увидеть богов невозможно и попасть к ним – тоже. Никто не ходит к своим богам, мы служим им, как умеем.
Мне на секунду кажется, что даже внешний вид Децемина – способ служить его богине.
– Хотите денег? – спрашиваю я. – Хотите…чего хотите? Скажите! Я почти все могу! Хотите семейную реликвию? Хотите выкраду для вас что-нибудь? Что угодно! Я смогу! Ну или буду очень стараться! Только скажите мне, как мне попасть к богу! Где водятся боги? Мне нужно туда!
Он стоит неподвижно, лицо его как маска. Потом он выходит из комнаты. Я остаюсь наедине с чужой красотой и своим отчаянием.
Я прижимаю руки к вискам, думаю, думаю, но в голове все пустое и неважное, и тогда я ложусь на пол, чтобы кровь распределялась лучше и мысли заработали. Мне очень грустно и темно. Кто-то, кто сидел со мной на диване, и о ком я совсем забыл вдруг ложится рядом, как будто мы подростки, считающие облака. Я слышу голос над ухом.
– Мы ходим к Королеве Пчел, мы все ходим к Королеве Пчел, и она дает нам нектар, чтобы мы могли к ней ходить.
Голос женский, быстрый, шипящий, из-за акцента понять его очень сложно. Женщина шепчет близко-близко к моему уху, и в то же время кажется, что она далека.
– Мы приносим ей красоту, и она питается ей, а нам дает нектар, и мы приносим еще. Так было всегда. Ее мир ближе, чем ты думаешь, она пульсирует совсем рядом с тобой, но ты не можешь дотронуться. Ты – чужой. У нее большое брюхо, полное нектара, но ты его не получишь.
– Я и не претендую, – шепчу я. Я говорю не потому что хочу что-то сказать, а потому что этот лихорадочный шепот невидимой женщины погружает меня в страх.
– В мире Королевы все прекрасно, – продолжает она. – Там цвета ярче, там везде красиво, и там молоко и мед, и все ячейки правильной формы. Она наказала нас, потому что если один раз заглянешь в ее мир, поймешь, что ничто на свете, больше никогда, не принесет тебе истинного удовольствия. Все ничто по сравнению с этой красотой. Лучше занятий любовью, еды и выпивки, лучше всего на свете – просто смотреть. Я тебя не вижу, но слышу хорошо. Я слышу, что тебе грустно.
– И хочешь поделиться своим счастьем?
Она хрипло смеется, а потом чья-то цепкая ладонь хватает меня за руку. Ладонь горячая и сухая.
– Когда Королева Пчел призвала нас, мы принесли ей дары, лучшее что сделали, а потом мы разорили ульи и смотрели, как течет мед. Земля пропиталась медом, и мы лежали на размякшей земле. Она сошла на землю, и мы почувствовали это. Там было особое место, место нашей богини. А где место твоего бога? Мы вручили ей самое красивое, что было у нас и пришли в ее место, потому что она звала нас. Твой бог звал тебя?
Мой бог меня не звал. Но я очень внимательно слушаю.
– Она показала нам свой мир, и с тех пор мы грабим этот, чтобы накормить ее.
В этот момент в комнату входит Децимин, я чувствую порыв ветра, оставшийся от моей собеседницы, она срывается с места.
– Я уже испугался, – говорит Децимин. – Что ты тут умрешь. Однако, обошлось.
Я быстро поднимаюсь с пола, а он смотрит куда-то в сторону от меня долгим взглядом, делающим его еще больше похожим на произведение искусства. Я сажусь на диван, и Децемин ставит мне на колени чашку со сколотым краешком. В ней плескается прозрачная жидкость, пахнущая чем-то хвойным. Он говорит:
– С друзьями твоими я тоже выпил.
В руках у него тоже чашка и тоже полная. Он говорит:
– Смотри.
И легко выпивает половину, будто это остывший чай. Я пытаюсь сделать так же, но на меня накатывает такая горечь, что геройством оказывается уже не сплюнуть. Но в груди становится легче, не так волнительно, а еще пьяно и хорошо.
– Ты не отчаивайся, – говорит Децимин таким холодным тоном, что я даже не понимаю, сказала ему Офелла про папу или не сказала.
– И не бойся. Здесь моя жена, Ретика. Она уже лет десять не показывается.
– Не хочет?
Он пожимает плечами. И я понимаю, почему на самом деле страшны эти невидимые люди на улицах и в домах, непонятно как ориентирующиеся в пространстве. Они подсели на совершенную красоту, идеальный мир Королевы Пчел. Они не хотят видеть реальность, и их в реальности не видно. Мама Офеллы, которая помогла мне, наркоманка. Каждому народу по-своему тяжело, так все говорят.
Но мне становится грустно за Офеллу и за множество таких, как Офелла и Децимин, которые никогда не увидят своих близких.
Я допиваю остатки хвойной, горькой жидкости.
– Спасибо, – говорю я. – За то, что впустили и поговорили со мной.
– И за алкоголь, – смеется он. Смех его такой обаятельный, что даже не обидишься, что он ничего мне не сказал. Его жена дала мне разгадку, больше похожую на загадку.
Нужно найти место моего бога и принести ему дары, и я попаду к нему.
Я встаю, ищу глазами Ретику, зная, что не найду ее. Я очень ей благодарен и хотел бы увидеть.
Децимин отставляет чашку, провожает меня в тесную прихожую. Юстиниан и Ниса уже там. Видимо, Офелла была еще менее приветлива. Но Децемин тут же передает ей эстафету.
– Офелла, твои друзья уже уходят.
Она показывается из кухни, затем коротко кивает нам, одаривает холодным взглядом Юстиниана и тянется к ручке двери. Перед тем как щелкнуть хлипким замком, она шепчет мне:
– Мама сказала?
Я киваю.
Мы выходим на пахнущую старой краской, сыростью и сладким мусорным духом лестничную клетку. Я говорю:
– Очень приятно познакомиться с тобой.
Юстиниан говорит:
– Еще раз приношу свои извинения за этот инцидент с твоей чудесной машиной!
Ниса говорит:
– И вид из окна у вас милый.
А Офелла захлопывает дверь перед нашими носами, оставаясь в своей маленькой, красивой и некрасивой квартире со своими странными родителями.
Глава 7
Сначала я рассказываю Нисе и Юстиниану, двум моим единственным друзьям – старому другу и новой подруге, что я узнал. Потом мы идем обратно в молчании, теперь для меня совсем по-другому выглядят эти темные улицы, по которым ходят невидимые, влюбленные в мир своей богини люди. Я думаю, сколько же их здесь, иногда мне кажется, что я иду в толпе, а иногда я думаю, что никого-то рядом нет, кроме Юстиниана и Нисы.
– Сколько в мире боли, надо же, – говорит, наконец, Юстиниан. – И дешевого алкоголя.
Он цокает языком, то ли досадливо, то ли вдохновленно.
– Жутковато это все! – говорит Ниса, мертвая девушка из далеких земель, и это даже смешно. – Теперь я не смогу гулять по вашему Городу, не думая о том, кого я там не вижу.
Юстиниан говорит:
– Забавно, но я об этом совершенно не задумывался, хотя знаю людей из народа воровства. Глупо же использовать невидимость для чего-то, кроме, собственно, воровства. Глупо же так ходить.
Ниса закрывает ему рот холодными, бледными пальцами.
– Ты давай еще погромче скажи.
У меня странное ощущение от того, что Ниса и Юстиниан общаются друг с другом, словно я только проводок сквозь который проводит ток между ними. Я бы тоже с радостью с ними поговорил, но у меня в голове крутятся слова Ретики. Прийти на место бога и принести самое дорогое? Самое лучшее? Они принесли – самое красивое.
Наверняка, у их народа тоже есть легенда о том, как они до этого додумались, но она к делу, строго говоря, не относится. Главное вот что: найти то место и принести то, что нужно моему богу.
Мы садимся в автобус, мокрый, с несчастными, золотыми глазами, рисующими дорожки света в темноте, где дождевые капли кажутся пылью. В автобусе тепло и пусто (или нет, я больше не знаю). Мы снова садимся на задний ряд, отчетливо не хватает Офеллы.
Я говорю:
– Я собираюсь дремать, потому что мне может присниться ответ на мой вопрос.
– Намного более гуманно, чем потрошить птиц, как наши предки в аналогичных ситуациях, – говорит Юстиниан и широко зевает.
Ниса сидит между нами, она единственная не выглядит сонной. Интересно, спит ли она вообще как я или Юстиниан, видит ли сны? Или во сне она остается совсем в другой темноте.
Но я туда тоже однажды попаду.
Некоторое время я смотрю, как пробегает мимо музей панельной застройки, а потом горящие окна вдруг кажутся мне дымными, будто во всех домах начинается пожар, все расплывается перед глазами, и я их закрываю.
А снится мне, что я и моя семья участвуем в телешоу, которое я точно когда-то видел, но не могу вспомнить ни его названия, ни его сути. Я стою за стойкой, на которой только одна кнопка, над моей головой подмигивают зрителям лампочки. У зрителей нет лиц, поэтому я не могу их узнать, а вот у ведущего лицо определенно знакомое, но я так же не могу вспомнить его имя, как и название шоу.
Все вокруг розовое и красное, лампочки похожи на полипы. Сначала мне кажется, что краска на стенах блестит, а потом я понимаю, что они – влажные, сочащиеся и эластичные, как мышцы в книжке про анатомию.
Я смотрю наверх и вижу, что и потолок усеян лампочками-полипами. Вместе с раскаленной проволокой в них пульсируют живые сосуды. Потолок и стены мерно сокращаются, как будто мы в чьем-то сердце или еще в каком-то живом органе. Ведущий расхаживает перед нами по полу, который всякий раз отзывается грязным чавканьем, красная, мясистая поверхность его продавливается под ботинками у ведущего.
Мы с папой, мамой и сестрой стоим за одинаковыми стойками, перед одинаковыми кнопками. Я одет, как папа – в белый костюм, между нами никакой разницы. Атилия одета как мама, в длинное, закрытое платье, с воротником стянутым на горле, наверное, очень мучительным образом. Между ней и мамой тоже нет никакой разницы.
Мы взаимозаменяемы. Эта мысль глупая, я не папа, но она все равно путешествует вокруг, она, как червь, ползает под полом, такая большая, что ее даже видно. Я давлю эту мысль ногой, поднимая брызги крови, но она выворачивается – скользкая, как и пол.
Ведущий почесывает подбородок, вид у него усталый, но у других вообще нет лиц, так что ему повезло.
– Так-так-так, – говорит он преувеличенно жизнерадостно. – Сегодня у нас в гостях императорская семья! Могли ли мы мечтать об этом?
Зрители в голос говорят:
– Нет, не могли!
Голос у них как будто на всех один и похож на рев моря.
Ведущий снова потирает подбородок, достает из кармана листок, измятый и похожий на список продуктов.
– Что ж, начнем с легендарного, окруженного ужасом и благоговением императора Аэция! Господин, в вас не осталось ни тени былого величия! Вы жалкий гебефренический идиот, способный осмыслить лишь сладости и кровь. Скажите, на что вы обрекаете свое государство? У вас есть оправдание?
На некоторое время воцаряется тишина, такая, что я слышу, как ток и кровь пульсируют в лампочках.
– Гражданская война, – говорит папа. У него прежний голос – спокойный, даже жутковато ровный. – Риторический арсенал межэтнических конфликтов остается очень широк, как и неравенство перед смертью.
– Тогда начнем, – говорит ведущий. Он задает вопросы очень быстро, так что я едва успеваю их расслышать:
– Вы о чем-нибудь жалеете?
– Нет, я убийца.
– Если бы вы могли что-нибудь изменить в своей жизни, что бы это было?
– Время фундаментально необратимо, но я бы стер о себе память. Я бы хотел забыть.
– Вы бы хотели, чтобы вас забыли?
– И это тоже.
– Сколько времени понадобилось вам, чтобы подавить врожденное человеческое отвращение к крови?
– Нисколько. У меня его не было.
– Почему же вы хотите забыть?
– Я устал быть частью истории.
– И время вышло! – провозглашает ведущий, лампочка над папиной головой лопается, будто от перенапряжения, орошает его кровью из разорванных сосудов, теперь они болтаются как нитки. Папа не меняется в лице, не стирает с губ кровь. Ведущий лучезарно улыбается, говорит:
– Госпожа Октавия, что до вас, неужели в глубине души вы не чувствуете удовлетворение? Разве вы не отомщены?
– Нет, – говорит она. – Я люблю его, и я хочу вернуть его.
– Тогда начнем. Разве это не эгоистично с вашей стороны?
– Я не умею отпускать. Я хочу то, что никогда не покинет меня.
– Наши зрители любят грязные подробности. Император насиловал вас?
– Да, он брал меня на полу, как животное. В первый раз это случилось, когда он захватил дворец. За пять часов до объявления о смерти моей сестры, хотя к тому времени она уже лежала на кровати бездыханная. Она порезала вены, и я целовала ее руки, когда он вошел в комнату. Он взял меня на полу, пока моя мертвая сестра лежала на окровавленных простынях. У них так принято, они варвары.
– Вы считаете себя расисткой?
– Безусловно.
– А что случилось потом, госпожа Октавия?
– Он объявил о том, что отныне власть в Империи принадлежит всем ее народам. А у меня появился Марциан.
– Вы любите своего мужа?
– Безумно.
– Потому что вы сошли с ума от горя и позора?
Мама открывает рот, но не успевает ответить. Время вышло, лампочка взрывается с оглушительным звоном. Мама плачет, и кровь на ее щеках из красной становится розовой.
– Атилия! – объявляет ведущий. – Чудесная дочь наших правителей! Дитя любви и ненависти!
Я поднимаю руку, говорю:
– Я старший сын!
Но ведущий не обращает на меня внимания.
– Кто, по-вашему, виноват в сложившейся ситуации? – спрашивает он. Атилия смотрит на ведущего, глаза у нее злые. Она кричит:
– Я! Я! Я! Я виновата! Все произошло с папой из-за меня!
Костяшки пальцев у Атилии сбиты, искусанные губы кровят.
– Сколько экспрессии!
– Я никогда не была достаточно хорошей девочкой!
А потом Атилия издает такой силы крик, что все лампочки в студии взрываются, меня окатывает теплой кровью, зрители лишенные лиц исчезают в темноте, мама и папа тоже, и даже ведущий.
– Но почему не спросил меня? – спрашиваю я. – Я тоже хочу ответить на вопросы!
– О чем не спросили? – спрашивает Ниса. И в этот момент я понимаю, что темнота не вокруг, она у меня под веками. – Выходи давай, мы приехали!
Я чувствую усталость и мягкость после сна, но где-то в глубине щиплется тревога. Я выхожу из автобуса, дождь закончился и воздух холодный. Мы втроем идем через городские сады, но, не дойдя до середины и не сговариваясь, садимся на скамейку.
Вокруг розы, после дождя ими пахнет еще сильнее, под луной капли на них кажутся драгоценными.
Юстиниан говорит:
– Мой дорогой друг на случай, если ты считаешь, что я самоудалюсь из этой истории, ты ошибаешься! Я буду помогать тебе всеми силами, так что обязательно держи меня в курсе происходящего. Я человек искусства, поэтому смелости мне не занимать.
Я рассеянно улыбаюсь.
– Ты говоришь так, потому что я твой лучший друг?
– Нет, я говорю так, потому что быть свидетелем исторических событий подобного масштаба, о которых в то же время мало кто знает – небезынтересный опыт.
Он поднимается, раскланивается перед Нисой.
– Кроме того, я хочу еще раз увидеть тебя.
– Что ж ты за человек такой? – спрашивает Ниса.
Но Юстиниан не удостаивает ее ответом. Он разворачивается и идет в сторону противоположную от той, куда надо нам с Нисой, по дорожке между стен зеленого лабиринта, строго следуя его правилам, как мышь, участвующая к эксперименте. Хоть какие-то правила ему приходится соблюдать.
– Так и не поняла, нравится он мне или нет, – говорит Ниса.
– Я тоже все еще не понял, – отвечаю я. Ниса спрашивает, как я себя чувствую, и я рассказываю ей свой сон. Она слушает очень серьезно, из-за ее хищных черт мне даже кажется, что нет слушателя более внимательного.
– Очень физиологичный сон, – говорит она. – И тревожный.
– Ну, я так и понял.
А она просто обнимает меня и кладет голову мне на плечо. Некоторое время мы так сидим. Потом она говорит:
– Я не хочу тебя отвлекать, Марциан, но мне снова от тебя кое-что нужно?
– Почему так часто?
– Благодари, что мало. У всех по-разному. Мне вот нужно мало и часто, а моя мама своего донатора жрала так, что тот потом трое суток в себя прийти не мог, зато – раз в две недели.
Я чувствую себя ужином, чье сознание никого не волнует.
– Ты – циничная, – говорю я. Мы все еще обнимаемся, и она только сейчас отстраняется. Ее зубы блестят в темноте, тонкие и опасные, как коллекционное оружие, которое так нравится Кассию.
– Какие у тебя раньше были глаза? – спрашиваю я.
– Этого уже никто знать не может.
– Ты не помнишь?
Она качает головой, потом, подумав, добавляет:
– Когда умираешь, теряешь воспоминания. Вряд ли самые важные. И совсем немного. Но мелочи забываются. Я не помню, как звали мою собаку, цвет моих глаз, всю эту сентиментальную чепуху. И формулу дискриминанта тоже.
Я смеюсь, а она подается ко мне и сначала только прикасается к моей вечной ранке губами, а потом запускает туда зубы, лакает кровь. Со стороны мы, наверное, похожи на молодых любовников – в темноте, в запахе роз, в объятиях друг друга, вот это все.
К боли я уже почти привык, но нарастающая слабость все еще пугает меня. Неожиданно для себя я глажу Нису по голове, ее тяжелые, темные кудри оказываются мягкими на ощупь. А потом я чувствую вместо ее запаха, клубничный-косметический запах Офеллы, и это очень странно.
Я закрываю глаза и сосредотачиваюсь на ощущениях. Ниса – детеныш хищника, но она вырастет и однажды убьет кого-нибудь из-за крови. Я не знаю, сколько ей нужно будет в будущем, но я же видел ее глаза, когда она голодна.
Между нами уже установилась какая-то связь, потому что как только голова у меня начинает кружиться, Ниса отстраняется, облизывает ранку в последний раз.
– Юный господин, это великая загадка отношений между нами и нашими донаторами. Нам нужно ровно столько, сколько вы можете дать. Физиологическая гармония в ее самой прекрасной форме, как между матерью и ее творением.
Я вздрагиваю. Грациниан стоит прямо над нами, его пальцы гладят розу, как будто она – животное, которому он чешет под горлом. Я совершенно не замечал его присутствия. В последнее время люди полюбили меня удивлять.
– Это называется ребенок, папа.
– Первое правило обращения с чужим языком: заменяй слова, которых не знаешь на те, которые помнишь, – говорит Грациниан спокойно, а потом вдруг берет ее на руки, стаскивает со скамейки, кружит.
– Пшеничка, я так соскучился!
– Папа, отпусти меня!
– Все в порядке, теперь у тебя больше никогда не закружится голова!
Я понимаю, как сильно скучаю по своему отцу, смотря на них. Грациниан опускает Нису на землю, потом прижимает ее к себе. Они говорят что-то на незнакомом мне языке, и Грациниан гладит волосы Нисы, заботливо и очень нежно.
– Ты же знаешь, – говорит Ниса. – Что тебе нельзя ко мне приходить по правилам.
Грациниан поднимает с земли фирменные пакеты, вручает их Нисе. Она заглядывает в них, улыбается, достает и рассматривает вещи, те, которые сегодня мерила, кое-что я даже узнаю. Все они черные, и все очень закрытые. Но теперь я знаю, что дело не в строгих правилах. Ниса достает и книжки, сувениры, новый мобильный телефон, какие-то совершенно бессмысленные, на мой взгляд, блестящие штуки.
Все, что она сегодня вертела в руках. Я вспоминаю, как она отмечала вещи кровью, а Ниса прыгает от радости, хотя голос ее по-прежнему остается тем же самым.
– Спасибо, папа.
Грациниан ловко перескакивает через спинку скамейки, садится рядом со мной.
– Нет ни одного правила, которое я не нарушил бы ради своей маленькой девочки, если бы ты этого не знала, не давала бы мне понять, что хочешь этих смешных вещей.
На нем новые серьги, похожие на два солнечных круга с орнаментом, удерживающим маленькие, переливающиеся в лунном свете радужные топазы, фиолетово-зеленые и гипнотические. Грациниан прислоняет длинный, аккуратный палец к золоченой скуле, задумчиво смотрит вперед.
– Здравствуй, Марциан. Мы с Санктиной совершенно не ожидали, что наше сокровище попадет к сыну императора.
– Как вы узнали? – спрашиваю я.
– Мы здесь не только развлекаемся, пока наша девочка взрослеет. И уж конечно мы следим за тем, чтобы она оказалась в добрых руках. Ты ее не обижаешь?
Я качаю головой. Потом начинаю думать, обижаю ли я Нису. Наверное, если бы обижал, она бы мне сказала. Грациниан достает из кармана помаду, выкручивает, долго изучает.
– Люди здесь так интересно себя украшают, – говорит он, вслепую красит губы, невероятно аккуратно, как будто у него перед глазами зеркало. Помада легко скользит по его губам, оставляя алую, блестящую краску, смотрящуюся еще ярче от того, что губы у него прежде казались обескровленными.
Он прячет помаду в карман, затем поворачивается ко мне.
– О, юный господин, нет ничего сильнее, чем родительская любовь. Если я узнаю, что ты обращаешься с ней плохо и пользуешься ее беспомощностью перед тобой, когда все закончится, я вырву твое сердце из груди, и скормлю его скорпионам в пустыне. Что до твоего тела, ему я найду применение интереснее.
Он смотрит на меня задумчиво, затем берет за подбородок.
– У тебя красивое лицо.
Когда я смотрю на него снова, то вижу его зубы, а зрачки у него похожи на две бисеринки посреди золота.
– Я думаю, я хороший донатор, – говорю я. – То есть, я на это надеюсь. А думать-то я могу что угодно.
– Можешь, – соглашается Грациниан. У него опасный, какой-то нездешний вид, будто ничего человеческого в нем уже не осталось. Его длинные зубы делают блуждающую улыбку еще более жуткой.
– Из своего донатора, мой дорогой, я сделал чучело. Я просверлил дырки в его костях, влил туда свинец, и теперь он очень устойчивый.
На этот раз мне не кажется, что Грациниан угрожает. Видимо, он просто решил со мной чем-то поделиться, пытается начать светский разговор и не знает, что меня может стошнить от таких разговоров. Ниса садится рядом с ним, и я думаю, наверняка в ней больше от отца, чем она думает.
И во мне больше от моего отца, чем я думаю.
Грациниан обнимает ее, медленно гладит по голове. Длинные, бледно-золотистые пальцы его, тонут в темноте ее волос.
– Мне вообще-то вполне нравится быть донатором, – говорю я. – Мне только жаль, что Ниса мертвая, она скучает по настоящей еде.
Грациниан задумчиво смотрит на меня, а потом вдруг начинает смеяться, с такой страстью, которую я в нем и не подозревал, едва со скамейки не сваливается. Я думаю, как в нем умещается комичность и жестокость, это же неправильно.
– Юный господин, я уже много лет так не смеялся! Давай ты не будешь говорить о нас такие вещи, потому что это ужасно забавно!
Он вдруг перестает смеяться, расслабленно откидывается на спинку скамейки и, запрокинув голову, смотрит на луну.
– В определенном смысле мы, конечно, мертвецы. Мы переживаем смерть, наши сердца не бьются, зрачки не расширяются, мы можем не дышать. И тебе, со стороны, так безусловно кажется. Но это величайший обман нашей великой Матери! Мой дорогой господин, суть не в том, что мы умирали, суть в том, что мы – преодолели смерть. Мы дети земли, которые заново встают живыми. Воплощенная жизнь, победившая ужас небытия! Ты будешь намного мертвее нас, когда сойдешь в землю. Твое чудесное личико превратится в череп под солнцем и луной, а мы получили величайший дар жизни от той, которая является ей самой.
Я смотрю на его руки. Ногти у него длинные и ухоженные, кольца на пальцах украшены большими драгоценными камнями.
– Папа, прекрати читать ему нотации, ты не на проповеди.
– На проповеди к этому моменту я бы уже занимался любовью с прекрасной женщиной, Пшеничка!
И тогда я понимаю, как далеко бы не отстояли друг от друга наши страны, наши боги и наши жизни, во все времена и во всех культурах людям иногда одинаково стыдно за своих родителей.
– Ну да ладно, я надеюсь, мне удалось тебя убедить в важности трепетной заботы о моей милой дочке.
– А зачем вы носите серьги? – спрашиваю я. – И зачем краситесь, как женщина?
– Женщины святы, потому что способны, как и земля, рождать жизнь, мужчины же могут только уподобляться им.