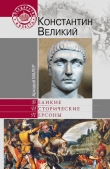Текст книги "Дурак (СИ)"
Автор книги: Дария Беляева
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
– Это гематоген. Наслаждайся.
Я не то чтобы наслаждаюсь, вкус сахара и коровьей крови не особенно мне приятен, и легче не становится, но мне приятна забота Офеллы.
– Ты его чуть не убила!
– Я знаю, когда остановиться, скоро он придет в себя.
И в голосе Нисы я слышу даже какую-то гордость, она знает что-то, чего Офелле с Юстинианом не понять, чувствует как-то по-другому. А обо мне Ниса говорит так, будто я ее собственность. Я где-то слышал, что в Парфии все еще есть рабы, поэтому может это и логично. Культурно обусловлено, так бы Юстиниан сказал.
Юстиниан спрашивает:
– А как насчет зубов? Они вытягиваются, когда ты хочешь?
– Когда я голодная.
– А когда их нет, ты во рту не чувствуешь ничего лишнего?
– Конечно, не чувствую, их же нет.
Офелла тоже не выдерживает, спрашивает:
– А как ты понимаешь, что хватит?
Ниса задумывается, некоторое время молчит, и меня баюкает стук колес, я бы пять минут вздремнул, но приходится жевать гематоген. Зачем Офелла носит его с собой? Вряд ли для таких случаев.
– Это сложно объяснить. Это как зрение или слух, только для крови. Я чувствую ее ток. Ощущаю, сколько ее. Не цифрами, не литрами. Как бы как мы глазами определяем расстояние до предмета. Далеко, близко. Примерно, в общем.
Она замолкает, ей явно неловко. А потом толкает меня в плечо.
– А твои друзья любопытнее, чем ты, Марциан! Ты был куда меньше удивлен!
– Дураки имеют привычку принимать на веру самые невероятные вещи и отрицать то, что считается константами. Это, собственно, главная причина, почему мы здесь.
В этот момент к великой радости Юстиниана, который так вовремя подвел итог, что получилась замечательная композиция момента, поезд останавливается. По радио на потолке объявляют точное время прибытия в Треверорум.
Встать у меня получается легче, чем я ожидал, может быть, гематоген и вправду волшебная вещь, а может быть Нису никогда не обманывает чутье, но идти приятно, даже приятнее обычного, потому что очень легко.
Ниса плотнее заматывает платок, сменяет перчатки на те, в которых не видно пальцев, еще более плотные, и надевает капюшон. Она выглядит отчасти как Грациниан и Санктина, когда я их встретил, но в более современном варианте. Скорее девушка, которая водит мотоцикл и слишком часто нарушает правила дорожного движения, чтобы показывать свое лицо, чем жуткое ночное существо уже не вполне человеческой природы.
Я далеко не такой расторопный, каким себя ощущаю, поэтому Юстиниан обгоняет меня, а Ниса тянет за руку.
– Быстрее! – шепчет она. – А то поезд уедет обратно вместе с тобой!
На самом-то деле я не такой дурак, чтобы не догадаться – Ниса хочет быстро выйти на открытое пространство, чтобы никто не успел заметить, что трупный запах исходит от нее. Мы выскакиваем на перрон быстрее многих, потому что багажа у нас нет. Понимание, что мы приехали в очень странное место приходит мгновенно. И дело вовсе не в людях. Они, как и на любом другом перроне, встречают друга друга, плачут, обнимаются, смеются, берут друг у друга сумки и взахлеб что-то говорят. Может быть, Юстиниан, Офелла или Ниса могли бы переживать из-за того, что все эти люди – ненормальные, в том или ином смысле, и что с виду не сразу скажешь, насколько они могут быть безумными. Но я не переживаю: я сумасшедший, и моя сестра, а мой папа сейчас даже еще более сумасшедший, чем обычно. Странным мне кажется другое – сам город. Перрон – просто небольшое гладкое пространство, и за лестницей нет никакого вокзала, только кассы, похожие на киоски с журналами. Голый асфальт, проржавевшие, давно некрашеные поручни, так что уже и непонятно, какого они были цвета, и больше ничего, даже никаких палаток с газировкой и шоколадками. За этим относительно нормальным пространством начинается сам Бедлам. Он не кажется в полной мере ни городом, ни лесом, и нигде в Бедламе не видно границы между этими двумя явлениями. Обычно есть парки, где деревьев много, и дворы, где их – небольшие островки, еще они растут вдоль дорог, чтобы собирать пыль. И даже если кажется, что никакой логики в том, как растут в городе деревья нет, на самом деле она есть. Они как бы имеют свои места, где их ждут. В Бедламе деревья внедряются в город. Они растут посреди разбитых дорог, на площадях, стоят впритык к обшарпанным, невысоким домам и магазинчикам, стоят вместо заборов и между их прутьями и досками, обрубая их непрерывность.
Большие и небольшие, зеленые и начинающие желтеть, все эти деревья выглядят как их дикие, лесные собратья, а не чахлые, утопленные в смоге городские уродцы. Дома невысокие, поэтому сначала мне кажется, что мы и вовсе не в город приехали, а в поселок. И хотя домов и магазинов достаточно много, они выглядят отделенными друг от друга плотной пеленой листвы.
Папа никогда не рассказывал мне о Бедламе, и поэтому я не особенно представлял, чего ждать. Юстиниан говорит:
– Очень концептуально.
Ниса свистит, и человек рядом с нами закрывает уши, как будто свист этот вышел у Нисы нестерпимо громким. Я говорю:
– Очень зеленый город.
И мы все понимаем, что сейчас что-то должна сказать Офелла. Мы оборачиваемся, а ее рядом нет.
– Ее что уже украли? – спрашивает Ниса. Я слышу голос Офеллы.
– Я что по-вашему дура – расхаживать просто так в месте, где полно сумасшедших?
Но ее по-прежнему нет рядом.
– О, дорогая, молись, чтобы они приняли тебя за голоса в своей голове.
И я понимаю, что Офелла ведь, как и все из ее народа, может становиться невидимой. Интересно, какую невероятную красоту она видит сейчас?
– Только не отставай, – говорю я.
– И не подумаю. У тебя есть план?
Я о нем не думал, но он у меня есть. Мы спускаемся по лестнице, железные скобы удерживают ее от окончательного разрушения. Все здесь запущено, забыто, но не только потому, что многие предпочли уехать из Бедлама и раствориться в Вечном Городе, и в других городах Империи. Здесь, в общем-то, и нет цивилизации, и надежды на нее нет. Все уступает этому глубокому, высокому лесу.
– Мы пойдем в музей, – говорю я. Юстиниан пожимает плечами.
– Не зря же мы здесь, музеи это замечательно, хотя они, конечно, никогда не показывают ничего живого, потому как все, что оказывается в музее, уже умерло, иначе ему нет нужды там быть. Кроме меня, конечно.
Я говорю:
– В музее знают историю, так?
Ниса говорит:
– Ну, или делают вид.
– Там нам подскажут, в какую сторону идти, чтобы дойти до места, где наша прародительница принесла в жертву своих детей.
Я чувствую рядом Офеллу, от ее руки исходит невесомое, нежное тепло. И мы входим в Бедлам. На самом деле я не знаю, где здесь музей, поэтому приходится спросить. Я обращаюсь к милой девушке, выгуливающей собаку.
– Здравствуйте! Не подскажете, где здесь музей?
Она смотрит на меня с полминуты, глаза у нее внимательные, даже слишком. Одной рукой она сжимает поводок, а пальцы другой ее руки путешествуют от шеи до подбородка, пробегают по коже, как паучьи лапки, и движение это постоянно повторяется. Она говорит:
– Прямо, до площади, а там вы увидите его, он слева.
И ничего особенного в ее голосе нет. Мы идем дальше, и я оборачиваюсь, чтобы посмотреть на нее еще раз. Она стоит в той же позе, ее пальцы так же путешествуют от шеи к подбородку, и она смотрит нам вслед.
Очень приятная девушка. Идем мы, как в лесу, и площадь узнать сложно, потому что это тот же лес, только с редкими бетонными блоками под ногами. Это не деревья проросли в бетоне, а бетон аккуратно уложен там, где можно. Все здесь подстраивается под лес и уступает ему. Неестественно видеть здесь людей, занимающихся обычными для города делами. Они выгуливают собак, носят сумки из магазинов, курят на балконах. Словом, делают все, что с лесом не сочетается.
А вот машин мало, как и дорог. Они выглядят здесь как реки. Идти по Бедламу очень одиноко из-за того, что постоянно приходится огибать деревья, и нельзя ходить рядом, а можно только друг за другом.
На самом деле легко увидеть, что люди здесь чокнутые, хотя они не так сильно отличаются от обычных. Есть и те, по кому сразу все понятно – женщина, кормящая ворон, растрепанная, как ее подопечные птицы, разговаривающий сам с собой мужчина, то ли в сильном подпитии, то ли в психозе, в каком иногда бывает Атилия. Я вижу маленькую девочку, она танцует на бетонной плите между двумя деревьями, совершает ровное число движений: влево, право, прыгнуть на одной ноге, хлопнуть в ладоши, и снова.
А есть другие, которые одеты как все и делают все то же, что и все. И, судя по лицам Юстиниана и Нисы, те, которые как все, кажутся им более жуткими.
– Как здесь вообще живут люди? – спрашивает Ниса.
– Я тут не жил.
– Зато, знаешь, здесь такой свежий, наполненный кислородом воздух, что даже почти не ощущается, как ты гниешь.
– Юстиниан, знаешь, почему тебя все ненавидят?
Но прежде, чем Юстиниан ответит, я показываю рукой в сторону того, что, наверное является музеем. Над этим зданием, больше похожим на барак, так и написано. Ну, на самом деле не совсем так. На окнах решетки, но сами окна заложены кирпичом. А в слове "музей" даже я вижу две ошибки. Написано "муззэй". Решетка очень красивая, от полукруга, похожего на восходящее солнце, идут лучи перекладин. Все остальное – уродливое.
– Вот музей, – говорю я. – Там нам все подскажут.
На лице Нисы читается недоверие. Я делаю шаг вперед, и в этот момент меня перехватывают за руку, очень крепко.
– Ты ведь сын Бертхольда, да? Да?
Глава 10
Я слышу варварский акцент такой яркий, что едва понимаю, что именно говорят, оборачиваюсь, чтобы переспросить и вижу синеглазую женщину, стареющую и красивую. У нее спутанная коса волос, такая толстая, что кажется она состоит еще из нескольких кос. Она пускается вниз, почти к самым ее коленям. Коса у нее сочная и рыжая, еще рыжее, чем волосы Регины и Юстиниана. Такая, словно ее в краску окунули. На ее тонком лице время давно проложило магистрали морщин, но нос и губы очень красивы.
А самое странное в ней это глаза, они смотрят отчаянно, и кажется, что синеют от этого еще сильнее.
Ее рука с длинными, морщинистыми пальцами берет меня за подбородок, и я замечаю, что ногти у нее накрашены с математической аккуратностью, ни единого пятнышка лака на коже. Узловатые пальцы обхватывают широкие кольца с массивными камнями, оправы которых похожи на вензеля.
– Сын Бертхольда? – переспрашиваю я. Я и вправду не уверен в том, что она сказала, слишком неразборчивые получаются ее слова – рычащие, ударяющиеся от зубы. Еще я не знаю, кто такой Бертхотльд. Но этого я не знаю всего секунду. Забытое имя, которое папа не использовал с того дня, когда началась война. Папино первое имя, которое он, наверное, и сам уже забыл, и я его почти забыл. Папа всего один раз рассказывал нам с Атилией, как его звали прежде, чем мы появились на свет.
– Сын Бертхольда, – повторяет она, как будто само это имя утоляет какую-то ее глубокую жажду. Ее улыбка больше напоминает оскал, крепкие белые зубы клацают.
– С чего вы взяли? – говорю, а Юстиниан говорит:
– Я бы на твоем месте спросил, кто такой Бертхольд?
Я чувствую Офеллу рядом, ее теплая рука на секунду касается моих пальцев, как будто она хочет меня увести.
– Я знаю, кто такой Бертхольд. Наверное. Не всех Бертхольдов на свете, конечно, но кое-какого знаю.
И он правда мой отец.
Женщина отпускает меня, и только тогда я понимаю, что ее прикосновение было болезненным, словно она хотела залезть мне под кожу.
– У тебя его глаза, – говорит она. – Эти глаза я никогда не забуду.
Я думаю, что тоже не забуду ее глаза. Мы могли бы сказать друг другу комплименты.
– У тебя его черты. На секунду я подумала, что прошлое смешалось с будущим, и вот он, совсем юный, на площади в свою честь. Но ты ведь его сын! У него есть сын, я знаю! Эта дрянь принесла ему потомство.
– Не смейте так говорить о моей матери!
От злости меня бросает в жар, а потом ее становится жалко.
– Госпожа, вы имеете в виду императора Аэция? – спрашивает Ниса. Она подчеркнута вежлива, и я понимаю – ей жутковато говорить с сумасшедшей. Это смешно, потому что Ниса зубастая, кровоядная и мертвая.
Женщина кивает, у ее духов удушливый, гвоздично-розовый аромат, настолько сильный, что перебивает даже исходящий от Нисы запах. Она только на секунду одаривает Нису взглядом, радужка ее синих глаз вспыхивает, двинувшись, и снова глаза женщины впиваются в меня.
– Я – Хильде. Ты меня не помнишь, не знаешь. Он не говорил тебе, да?
Папа ничего не говорил мне о женщине по имени Хильде, но я вообще-то не особенно спрашивал его о том, как он жил в Бедламе. Я видел, ему не нравится об этом говорить, и вообще не нравится, что Бедлам все еще существует, и кому-то все еще приходится там жить.
– Не говорил, – отвечаю я. – Но мы с моими друзьями здесь как раз для того, чтобы помочь моему папе.
Она вдруг начинает смеяться, смех у нее птичий, выдающий ее возраст лучше морщин. Он обрывается так же внезапно, как и начинается. Лицо ее становится серьезным, бледный язык мелькает между неестественно белыми зубами.
– Давай-ка поговорим дома, Бертхольд.
– Я не Бертхольд.
– Или Бертхольд, – говорит Юстиниан. – Я бы с ней не спорил.
Я тоже решаю с ней не спорить. Я слышу шепот Офеллы, меня обдает другим запахом, молодым и клубничным.
– Мы что серьезно пойдем с ней? Она сумасшедшая!
– Она знает папу, – говорю я. – Значит, захочет нам помочь.
– Она похожа на злодейку из фильма, – говорит Ниса. Хильде идет не так далеко, но на реплику Нисы не обращает никакого внимания. Она вправду напоминает злодейку, скорее даже из мультфильма, чем из фильма. На ней длинный матерчатый плащ, темно-синий, почти черный, с лисьим мехом на вороте, кое-где уже исчезнувшим, а кое-где цветущим очень пышно. Платья или юбки под этим плащом не видно, поэтому выглядит так, будто на ней только черные колготки и красные лакированные туфли, выглядящие совсем новыми. Высокие каблуки то цокают по бетону, то замолкают, касаясь земли. Хильде огибает деревья совершенно автоматически, как будто даже не видит их. Ее походка кажется странной, словно бы она и не мертвецки пьяна, но близка к этому. Мы огибаем музей, углубляясь в город. Всюду кирпичное крошево тонет во влажной, дающей приют деревьям земле.
Кажется, будто никто здесь ничего не делал, чтобы возвести город, он сам всходил, где придется. Хильде не говорит нам больше ни слова, а мы иногда переглядываемся со смесью недоверия и азарта. Очень жаль, что я не вижу Офеллу, но зато я чувствую, как она разозлена.
Дорог здесь, в общем-то, нет. Есть тропинки, изменчивые и петляющие, проложенные только шагами. Дом Хильде находится недалеко от музея, он выше других домов здесь, больше похож на панельную многоэтажку, каких папа множество возвел по подобию этой в Вечном Городе. Только этажей здесь не так уж много, всего четыре, и время явно не пощадило дом. В Вечном Городе дома чаще белые или кремовые, а их предок из Бедлама сделан из темно-красного кирпича. Некоторые окна в нем выбиты, оскалены, а некоторые могут похвастаться просто блестящей чистотой. Мы заходим в подъезд, его темная прохлада остужает мне голову. Белый утренний свет почти не проникает в окна из-за деревьев, тесно приникших к ним. Мы поднимаемся вверх, и я понимаю, что окна на каждом этаже расположены по-разному, изнутри это особенно заметно, потому что снаружи буйная зелень закрывает почти все. Эти окна как слепые глаза. Стук каблуков Хильде кажется жутковатым даже мне, хотя в целом ничего в ней страшного нет – просто сумасшедшая старушка, одна из многих.
Интересно, под какими она родилась звездами? Ниса берет меня за руку, а Юстиниан насвистывает какую-то песенку, старую и звенящую в пустом пространстве подъезда. На третьем этаже Хильде останавливается, достает ключи, а потом вдруг бросает их на пол, и они с очень жалобным и резким звуком бьются о камень.
– Я ненавижу это песню, – сквозь зубы цедит она, и мне на секунду кажется, что сейчас, будто в кино, она запустит руку в карман, достанет блестящий револьвер и выстрелит Юстиниану в голову.
– О, прошу прощения, – говорит Юстиниан. – Мне казалась, она довольно нейтральная. Италийские цветы и жаркое лето, и…
– Мы умирали тем летом, – говорит она, и Юстиниан замолкает, хотя мог бы сказать, что его мать тоже воевала. Мы все теряемся в присутствии Хильде. Перед ней и стыдно, и жалко ее, и жуть от нее накатывает волнами, как запах ее духов.
– От тебя пахнет смертью, – говорит она Нисе. То есть, она подбирает ключ, вставляет его в замок и не оборачивается, но все мы знаем, к кому она обращается.
– Извините, – говорит Ниса. А наверху, на последнем этаже, звон ключей или наши голоса, пробуждают в чьей-то глотке мерный, постепенно усиливающийся вой. Звериный, почти не похожий на человеческий, идущий горлом у кого-то, как кровь, этот вой, заглушенный стенами, кажется еще пронзительнее и уродливее. И я понимаю, почему папа хотел освободить людей Бедлама.
Не только из-за бедности и убогости жизни в этом городе, а из-за того, что всюду здесь было отчаяние, топкое, как болото, страшная, убогая жизнь сводит людей с ума еще больше.
– Большинство домов здесь оставлены, – говорит вдруг Хильде вполне нормальным голосом. – Раньше Бедлам был полон, теперь все, кто могут, уезжают.
– А вы не можете или не хотите? – спрашиваю я. А она впускает нас в свой дом, где во все стены, в потолок и пол въелся запах ее духов и еще какой-то, тоньше и пронзительнее, совершенно старческий. Пахнет нафталином, и старыми-старыми вещами, забытыми в мире снаружи. А вот пылью не пахнет, все чисто и аккуратно, паркет даже блестит, там где на нем еще остался лак. В темной прихожей глаза Нисы светятся особенно ярко, и это страшное золото кажется мне успокаивающим. Я случайно наступаю на ногу Офелле, и она тихонько шипит. Вдруг Хильде поворачивает голову, как дикая птица, заметившая добычу, кажется, человек так резко голову повернуть не может. Она замирает, а потом расплывается в улыбке.
– Добро пожаловать.
Все здесь старое, как Хильде, а может и старше нее. Они с этой квартирой явно старели вместе. Хильда приводит нас в гостиную, где в углу стоит патефон, древний, с откинутой крышкой, если закрыть которую, патефон окунется в чемоданчик, и ничто не будет выдавать его, кроме рычажка. Когда-то о таких удобных патефонах все мечтали и, наверное, в Бедламе сложно было его достать. Все здесь строгое, старомодное, и одновременно с этим кокетливое. В центре комнаты располагается большой, потертый диван, накрытый атласным покрывалом с кисточкой, так что дырки стыдливо выглядывают только на спинке. У окна стоит красная ширма с золотыми узорами в виде зверей, и это кажется мне странным. Ширма, это что-то интимное, женское, нужное, чтобы скрыть себя от посторонних глаз, и ей место явно не в гостиной и не у окна. Комната просторная и вместе с тем тесная от старых, ненужных вещей. Большой шкаф полон сервизами, которые нужно сменять каждый день, чтобы использовать каждый хотя бы раз в две недели, фортепьяно, по которому Хильде проходится пальцами, явно расстроено. Потолки здесь высокие для типового здания, выше, чем в квартире Офеллы, например. Хотя я не много таких квартир видел, так что утверждать было бы нечестно. Потолок остается единственным прибежищем грязи, тут и там чернеют пятнышки, то ли замершие насекомые, то ли застарелая до полного почернения пыль.
– Я приготовлю вам чай, – говорит Хильде. Она уходит на кухню, и мы остаемся в этой комнате одни. Она выглядит даже менее безумно, чем жилище Офеллы, и в то же время отчего-то в ней жутко. Я запрокидываю голову, смотрю на лампу, скрытую под оранжевым, обрамленным кружевом абажуром.
– Очень миленько, – говорит Офелла, и я предполагаю, что она стоит у окна, а потом сами собой раздвигаются тяжелые, как занавес в театре и такие же красные шторы, и у меня уже не остается никаких сомнений в том, где именно Офелла. Я даже радуюсь, что угадал.
– Похожа на старушку, которая нас отравит, – говорит Юстиниан с каким-то заразительным весельем. А я замечаю, что здесь нет ни одной фотографии, хотя такие старые квартиры, населенные старыми людьми обычно усыпаны свидетельствами их молодости.
А ведь мой папа на самом деле такой же, ненамного младше, просто не выглядит так. И в такой квартире не живет.
Мы рассаживаемся на диване, теснее, чем можно было бы, чтобы оставить место для нашей невидимой подруги.
– Ты уверен, что не стоит все-таки в музей зайти? В музеях обычно работают адекватные люди.
– О, моя дорогая Ниса, это город сумасшедших, адекватных людей с точки зрения нас с тобой здесь нет. Разве что Марциан, но, в основном, потому что мы привыкли к нему.
Хильде возвращается с подносом, железным, с приподнятыми краями, похожими на цветочные лепестки. По тому, как дрожат на нем чашечки, я понимаю, что у Хильде трясутся руки. Она со звоном ставит поднос на столик перед нами, и я думаю, что в последнее время постоянно пью чай, даже устал от него.
В центре возвышается идеально круглый торт, полностью покрытый белым кремом, похожим на волны, а вокруг него, как культ или детский хоровод, стоят маленькие чашечки, у кое-каких из них края сколоты, на других затерся рисунок, но эти чашечки-калеки все еще красивы, потому что сделаны из фарфора, а его тонкость прекрасна сама по себе.
– Я ждала гостей, – говорит Хильде. Она садится в кресло перед нами, сцепляет украшенные кольцами руки старческим, беззащитным жестом. За окном будто бы лес, редкие проплешины которого кажутся ошибками и уродствами, а не человеческими жилищами.
После паузы Хильде добавляет:
– Я ждала тебя, Бертхольд.
Я снова хочу сказать, что вовсе я не папа, но Юстиниан пихает меня в бок, и мне становится больно и обидно, я молчу.
– Я думала, я тебя не увижу. Ты стал великим человеком, теперь они лижут твои ботинки в Вечном Городе, а кто я?
Действительно, кто она? Мне так хочется задать этот вопрос, но он будет какой-то очень невежливый. Хильде подносит пальцы к губам, потом словно вспоминает, что ногти накрашены и накрашены хорошо, рассматривает их, затем хватает нож, слишком резко, чтобы нам было комфортно, и начинает резать торт. Под сливочным морем показывается песочный бисквит.
– Наша мама умерла, пока ты боролся за нас. Ты говорил, что можешь видеть красоту в нашей жизни, но ты и оставил нас. Мы родились здесь, это наш дом. Ты разрушил наш дом и опустошил.
Я смотрю на нее, и вдруг вижу, что несмотря на то, что у нас разные глаза, и разный их цвет, и у меня, и у нее, и у папы одинаковые красноватые синяки под глазами, будто мы долго не спали или веки у нас воспалены. Значит, Хильде – моя тетя? Отец никогда не говорил о ней.
– Зачем ты уехал? Столько людей погибло за твою мечту, Бертхольд.
А потом я вижу, что глаза ее наполняются слезами. Никогда я не был в более неловкой ситуации – незнакомая мне пожилая женщина плачет, смотря на меня, и она – моя тетя, принимающая меня за моего отца. Я не знаю что сказать.
– Молчишь? Ты всегда молчал.
Ее руки тем не менее продолжают раскладывать по блюдцам куски торта, она передает их Нисе и Юстиниану, и даже мне совершенно механически. Она нас видит, гостеприимно угощает, и в то же время говорит со своим братом о своей неизбывной боли – эти два события происходят как бы параллельно и для нее, и для нас.
– Я никогда не приеду туда, Бертхольд. Там живут наши враги. Лучше я умру здесь, чем буду жить бок о бок с теми, кто унижал нас.
Я не решаюсь есть свой торт, хотя он представляется очень вкусным, Ниса только смотрит на него с тоской, зато Юстиниан наслаждается всем вполне и выглядит так, словно смотрит представление.
– Разве ты не понимаешь? Нам не место там, брат, никому из нас. Мы пересотворены нашим богом не так, как они. Мы должны знать свое место, и оно здесь. Мы не сможем жить там, как птицы не могут жить под водой.
Мне становится так ее жаль, ее узловатые пальцы трут камни на кольцах, она волнуется и плачет. Я говорю:
– Я не Бертхольд, тетя Хильде. Я Марциан, его сын.
Ее блестящие от слез глаза, похожие на драгоценные камни в ее кольцах не меняются, но рука мгновенно вскидывается, как змея. Она отвешивает мне пощечину, да такую, что в голове звенит, а зубы клацают.
– Вы что с ума сошли?!
Голос у Нисы впервые становится очень злой, не просто резкий, а громкий, но Хильде не обращает на нее никакого внимания.
– Грязь и мерзость.
Она сплевывает мне под ноги.
– Когда эта принцепская шлюха понесла от него, я поклялась больше ни слова ему не писать. А теперь ты, ублюдок, в моем доме!
– Вы сами меня пригласили. И вы сами поняли, что я его сын!
Она вдруг берет чашечку чая, добавляет себе сахар, со спокойным достоинством помешивает его ложкой, постукивает, изымая из фарфора мелодичный звон.
– Грязь, падаль, гниль, очернил нашу кровь, – говорит она. Потом спокойно отпивает чай и пододвигает к нам сахарницу.
– Не стесняйтесь, – говорит она. – Чай получился слишком крепкий. Без сахара пить его совершенно невозможно.
Эта раздробленность, распад восприятия заставляет мою голову заболеть. Хильде одновременно выплевывает слова ненависти в мою сторону и остается гостеприимной хозяйкой, озабоченной только чаем в звенящих чашечках.
– Погода сегодня холодная, а то можно было бы выйти на балкон, – мечтательно говорит она. – Там, фактически, терраса.
Ее ложка погружается в сливки на торте, она говорит:
– Я хотела бы, чтобы ты и твоя сестра сдохли. Ублюдки, недостойные нашего горестного бога. Дети врага, опозорившие моего брата.
Она говорит:
– Но, думаю, к полудню солнышко выглянет.
И злые слезы текут по ее лицу.
– Я понимаю, что вы ненавидите меня, я понимаю.
– Только хотела еще раз взглянуть на его лицо, – вдруг шепчет она. Слезы капают в чай, когда она склоняет голову.
– Это просто потрясающе, – говорит Юстиниан. – Невероятно, я в восторге! Я напишу такую пьесу!
– Ешьте, пожалуйста, торт, – отвечает Хильде. – Не стесняйтесь.
– Мне так не хочется ранить вас, – говорю я. – Мне так жаль, что вам, то есть, тебе, то есть вам все-таки – плохо. Я бы хотел, чтобы было легче. Я не знаю, правда, как вам будет легче.
Она отпивает чай, смотрит на меня ясными, старческими глазами.
– Если ты сдохнешь.
– Наверное, я когда-нибудь умру, но дело в…Бертхольде.
Она ставит чашку, чай взмывает вверх, а потом проливается на стол.
– Что с ним?!
– Ему нужна помощь. Очень нужна. И ему может помочь только наш бог.
– Наш бог не ходит среди людей.
– Но есть место, где он однажды был.
Ниса внимательно слушает, глаза ее следят за нами, она даже голову поворачивает то ко мне, то к Хильде, как кошка, смотрящая за игрушкой, которую дергают туда и сюда.
– Ты имеешь в виду, Звездный Родник?
– Я не знаю, – честно говорю я. – Может быть, я имею в виду его. Не уверен. Это там наш матриарх убила своих детей?
Она улыбается, говорит:
– Ты хороший мальчик. Да, это случилось там. Святое место пришло в запустение. Тайный сад в лесу, за городом. Но я храню ключ от него. Я могла бы показать тебе, в конце концов, каждый небесный мальчик должен увидеть его однажды.
– Спасибо!
Я улыбаюсь ей, и она повторяет мою улыбку, оказывается, что они у нас похожи.
– Папа тяжело заболел, – говорю я. – Он стал другим. Но наш бог обязательно его вернет.
Выражение ее лица не меняется, все та же блаженная улыбка, все те же синие, спокойные глаза. Она берет нож, и я думаю, хочет отрезать еще кусок торта и все, наверное, так думают, потому что сидят спокойно. Но Хильде берет нож и всаживает его в стол, так что он стоит там, как ложка в густом меде.
– Тогда твой долг – убить его!
Прежде, чем ее узловатые пальцы снова дотягиваются до ножа, его перехватывает Ниса, держит перед собой. У ножа рукоятка с розочками, лакированная и симпатичная.
– Они влезают в их шкуры, но это другие люди, – говорит она. – Другие люди. Не дай ему жить в теле Бертхольда. Защити его тело и душу. В старые времена, когда такое случалось, жена должна была убить мужа или муж должен был убить жену. Но твоя бесполезная мать не способна дать ему милосердной смерти. Это уже не твой отец, он никогда больше им не будет. Воткни нож ему в сердце, и освободи его. Две души в одном теле приносят страдания обоим.
– Две души? То есть, он все еще там?
Она говорит такие страшные вещи, а я радуюсь. Если папа все еще там, то бог точно вернет его.
– В теле твоего отца живет совсем иной человек, новый человек, а твой отец может только смотреть, как он разрушает его жизнь. Это наказание для непокорных, и единственное избавление от него – смерть. Убей его. Сделай то, что ты должен сделать.
Но я знаю, что должен сделать совсем другую вещь.
– Вы проводите меня к Звездному Роднику?
Она кривит коралловые губы, с презрением смотрит на меня.
– Ты не был достоин и никогда не будешь.
– Но вы же только что сказали, что каждый должен увидеть это место!
Ниса не выдерживает, ругается, но Хильде не слушает ее.
– Ты не достоин и никогда не будешь достоин. Ты с самого рожденья противен богу. Отмечен им, как порченный скот!
Я чувствую, как начинает болеть голова, и я падаю перед ней на колени, цепляюсь за подол ее красного, строгого платья.
– Тогда скажите мне, как стать достойным! Я знаю, он ждет меня! Папа ждет меня! Ваш брат!
Она больно пинает меня, и в голове взрывается салют такой силы, что искры его я вижу перед собой.
– Мы так близко! – говорю я. – Осталось совсем немного! Просто проведите меня к нему, и он заговорит со мной.
– Наш бог давным-давно не говорит ни с кем, а уж тем более не заговорит с ублюдком.
Она снова хочет пнуть меня, но Юстиниан поднимает меня на ноги, говорит:
– Спасибо, госпожа, теперь, пожалуй, настало время расставаться!
– Расставаться? Но как же ключ?
– Врет она все про ключ, просто сумасшедшая старушка! Спасибо за завтрак, хотя он и является кирпичиком для моего будущего диабета!
– Кто эти люди? – спрашивает Хильде.
Ниса говорит:
– Социальные работники.
– Где Офелла? – спрашиваю я. Юстиниан подталкивает меня к коридору.
– Она сама разберется, взрослая же девочка!
Я оборачиваюсь. Хильде стоит у кресла, кажется, будто она позирует невидимому художнику. Но кажется так ровно до тех пор, пока она не издает визг. Я различаю в нем проклятья.
– Отродье! Выродок, пусть бог покажет тебе, что такое горе! Пусть бог покажет тебе, что чувствовала я! Одиночество, Бертхольд, одиночество! Мразь! Мразь, как и твой сын! Ты заслуживаешь смерти! Пусть погаснет звезда, под которой ты рожден!
Затем голос ее снова переходит в визг, и редкие слова, которые встречаются в этом потоке звука уже не произнесены на латинском, а оттого кажется, что она бессловесно воет. А на самом деле, наверное, еще хуже проклинает меня на варварском.