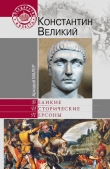Текст книги "Дурак (СИ)"
Автор книги: Дария Беляева
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
– О, прости, Марциан, я несколько отвыкла от общения с тобой.
– Да, за год я тоже перестал уметь воспроизводить твой голос в голове.
Она разворачивается, и я слышу, как в коридоре стучат ее каблуки. Мы с мамой идем за этим стуком, как за звуками флейты, уводящими нас за собой, как крыс. Родители любят нас с Атилией одинаково сильно. Когда я спросил у папы, что такое любовь, он сказал, что это страх за кого-нибудь, кроме тебя самого. Я боюсь за папу так, что не могу обратно в грудную клетку протолкнуть свое сердце, оно замерло где-то в горле и душит меня. Я люблю папу.
Мы поднимаемся по лестнице, впереди моя независимая сестра, и ее браслеты с бриллиантами блестят сверху, как звезды с неба. Лестницы каменные, по ним много людей ходило, теперь они все мертвые. Потолок становится ближе, когда мы поднимаемся, и вот мы на втором этаже. В комнате родителей прежде жили мамина сестра и ее муж, а мама не имела права на мужа и детей, и хотя комната у нее была такая же большая, счастлива она там не была.
В комнате потолок отделан слоновой костью, из кости получился какой-то орнамент, который у большинства людей не вызывает почему-то жалости к слонам, а только ощущение гармонии. Мне и слонов жалко, и с детства хотелось потрогать эти выступы, похожие на буквы неизвестного алфавита. Но потолки в комнате очень высокие, даже если бы меня было два, и мы бы договорились, и один я встал бы другому мне на плечи, до потолка бы дотянуться не получилось.
Пахнет благовониями, розовым маслом, так въевшимся в эти стены за столетия, что теперь запах ничем не вывести. Комната странная, даже при искусственном освещении тут словно меньше теней, чем должно быть. Что не белое, то бежевое, и даже монитор, на который папа выводит записи с камер, обрамлен белым, только экран его чернеет, как провал, как зрачок в глазу.
В этом белизне я сразу замечаю Кассия в его красной форме. Он стоит у стены, прямой, вышколенный, но вид у него все равно остается наглый.
А вот папу я замечаю не сразу. Вернее, я его вообще не замечаю. Тогда я спрашиваю:
– А где папа?
Кассий вдруг начинает смеяться и сквозь смех выдавливает из себя:
– Ты его предупредила, Октавия?
Мама не смотрит в его сторону, кивает, напряженно глядя под кровать, будто оттуда может выползти монстр, а она – маленькая девочка, которой некого позвать на помощь. Вдруг я слышу папин голос, но будто принадлежащий кому-то другому.
– Мне надоело! Никто меня не ищет! Вы вообще когда-нибудь играли в прятки? Вас никто не учил развлекаться, правда?
Он высовывается из-под кровати, громко чихает, на его носу танцует пыльный зайчик, потом срывается вниз. Мимика у папы совсем другая, детская, капризная, и глаза светятся чем-то жестоким, синим и мальчишечьим.
– А это кто? Эй, парень, я вижу, что ты дурак! Может, хоть ты со мной поиграешь? Мне здесь запрещают веселиться, как будто они тираны, а не я тиран!
Он смеется, смех у него громкий, развязный, словно он дразнится. У меня внутри будто стекло крошится, потому что папа смеется, и я понимаю – смеется не папа. В голове раскрывается боль. Я прижимаю пальцы к виску, чувствую ритм.
Папа говорит:
– Что кислый такой? Приуныл так, будто я твою семью уже вырезал.
Папа не говорит. Папа умер, и его больше нет.
Вместо него есть этот чужой, веселый человек. Наш бог смотрит на него другими глазами. Мама не поняла, что папа мертв, потому что мама не знает, как живет наш народ. Мама думает, что папа сошел с ума, но папа родился безумным.
А тот, который под кроватью, смеется в пыли, это просто другой, он теперь живет в папином теле.
А папы у меня, Атилии, мамы и Империи больше нет.
Глава 2
Я выхожу в коридор прежде, чем понимаю, что это, наверное, дурно так реагировать. В голове бьется, кусается, и я прижимаю пальцы к вискам. Я слышу мамин голос, она говорит:
– Аэций, любовь моя, ты не помнишь Марциана?
Но я не слышу, что папа отвечает. Потому что папа и не может ответить, конечно. Атилия выходит за мной, закрывает дверь.
– Много же от тебя пользы, старший брат.
У меня в глазах две Атилии, потом снова одна, я через силу ей улыбаюсь, не совсем понимая, что она хочет сказать. Она говорит:
– Соберись.
– Я не разбирался.
Потом я смотрю на дверь, розовый запах под нее забирается, как запах гнили. Потом я говорю:
– Папа умер.
Язык у меня ватный, ворочается с трудом. Атилия замахивается, чтобы дать мне пощечину, но я, в последний момент, успеваю перехватить ее руку. Тогда я вижу, что три ногтя у нее сломаны, подушечки пальцев испачканы кровью – неаккуратная, израненная рука, запрятанная в блестящий бархат. Дорогие украшения на ее длинных пальцах смотрятся ужасно странно, сорванные ногти, кайма крови, все это должно быть на руках у какой-нибудь другой девушки.
– Прости, – говорю я быстро, осторожно отстраняю ее руку. – Я не хотел сказать плохие вещи.
Глаза у нее блестят, масляные от злости, кажутся еще светлее, чем обычно. Она шепчет:
– Мама не знает.
– Маме я не скажу.
Но мы с ней все хорошо понимаем, знаем, как устроена жизнь и смерть нашего народа. Она говорит:
– Он перестал дышать, когда мы с мамой сидели с ним ночью, три дня назад. Врач сказал, что ничего сделать не может, что остается только снимать симптоматику и ждать. Мы сидели рядом с ним, он был горячий, потом затрясся, потом расслабился, и я подумала, что он заснул, но мама поняла, что он не дышит. Я набирала номер, звонила врачу, мама пыталась сделать ему искусственное дыхание, все ужасно быстро происходило. А потом он вдруг вдохнул, с хрипом, как будто воздух ему легкие резал.
Я слушаю ее внимательно. Ей очень плохо, как и маме. Она не говорит, что рвала ногти о стены от отчаяния, думая, что это она во всем виновата, но я ее слишком хорошо знаю, чтобы про это не подумать. Она сцепляет пальцы, нарочно делая себе больно.
– Атилия, – говорю я. – Тут никто ничего не мог сделать.
– Я не хочу жить в мире, где папы больше нет!
Атилия всегда была больше папиной дочкой, как я больше маминым сыном, хотя мы и любили обоих родителей. Ее преданность папе никогда не казалась мне странной. Это она – его продолжение, и она однажды должна будет стать императрицей, а не я. Она лучше подходит на эту роль, по крайней мере у нее в голове чисто.
– Но папа бы хотел, чтобы ты тут жила. Он был ради этого на все готов. Еще, наверное, папа хотел бы, чтобы мама лучше думала, что он сошел с ума, чем что он…
Второй раз я этого произнести не могу, сердце опять подкатывает к горлу, такое горькое, что язык замирает. В голове уже совсем плохо, все разноцветное перед глазами.
– Что теперь делать с…ним?
Глаза Атилии перед моими глазами отчаянно-фиолетовые, а у нее ведь серые глаза. Я давлю себе на виски, чтобы прекратилось, но становится сильнее – тук-тук-тук-тук-тук, будто внутри кто-то дурно играет на барабане. У него нет чувства ритма и слуха, удары негармоничные, от них я шатаюсь.
– Я не знаю.
Она толкает меня к стене, скалится, как будто укусить хочет, и в то же время глаза у нее остаются беззащитные, мокрые.
– Ты мой проклятый старший брат, ты должен помочь нам! Думаешь, сделал великое одолжение, свалив от нас в Анцио?
Я хочу помочь, еще как хочу. Она ругается очень тихо, не хочет тревожить маму и папу, то есть то, что осталось от папы. Там, за дверью, он швыряет вещи, слышно голос Кассия, он ругается, а мама плачет. Мне жалко их всех, и я не знаю, как жить без папы. Атилия смотрит на меня, и мысли у нее те же, мы как в зеркало друг в друга смотримся.
Тогда я вдруг прижимаю руки к ее лицу, касаюсь пальцами ее скул и тяну к себе, как в детстве делал, когда хотел ей что-то рассказать. У нее и глаза становятся, как когда она маленькой была – грустные, будто и надеется на что-то, и боится оттого, что надеется. Она смотрит на меня, как маленькая девочка, которой она была, когда я был маленьким мальчиком. Я склоняюсь к ней, и мы почти соприкасаемся носами. Она сначала очень напряженная, потом просто нервная, потом даже расслабляется чуть-чуть и ждет.
– Пожалуйста, Марциан, – говорит она. – Мы очень устали. Если бы ты только мог помочь.
Голос у нее совсем тихий, будто только выдыхает слова, не вкладывая в них совсем никакой силы. Я держу ее некоторое время, в голове теперь барабанщик сменил профессию, там ведутся подрывные работы.
– Скажи мне что-нибудь, – просит она. Я говорю:
– У меня сейчас голова взорвется.
И я говорю абсолютную правду и, казалось бы, на правду не обижаются, но она шипит:
– Проклятый придурок!
Она даже не особенно ругается, скорее факт констатирует. Но ее слова съедает вата, которой от боли в голове стало много-много. Мне нужно на воздух, чтобы им дышать. Чтобы он был холодный и остудил мне все, что под черепом пылает. Я сбегаю вниз по лестнице, не слышу стука ее каблуков – значит стоит, смотрит. Но мне сейчас только вдохнуть хочется и, может быть, еще в море или в Тибр, или куда-то в очень холодное место. От боли я то ли слепну, то ли нет, не понимаю, мои это воспоминания о лестнице или сама лестница.
Выпускают меня быстро – выйти проще, чем зайти, особенно если ты сын императора и про тебя это уже вспомнили.
Что нам теперь делать, вправду? Как скрывать то, что папы больше нет, он сошел с ума или умер, как бы это ни называлось. Что будет, когда народ потеряет своего императора? Кто займет его место? Я и Атилия единственные наследники. Род мамы не прерывался с самого конца великой болезни. Папа изменил жизнь в Империи, теперь она пронизана диаспорами тех, кто прежде никому не нравился и здесь не жил. Все рванет, опять будет много крови. Я хочу об этом волноваться, но в голове умещается только слово "папа", а остальное вытеснила боль. Воздух оказывается горячее, чем я представлял. Я жадно вдыхаю, смотрю на беззвездное небо. У луны глаз с поволокой, это глаз одной из чужих богинь – я вижу только его. За полночь, и туристы разошлись по барам, на Палантине тихо. Папа давным-давно, только став императором, распорядился переместить круглосуточные термополиумы и бары подальше от его резиденции. Папа не любил шум.
А теперь кто его знает, что он любит, кроме как в прятки играть.
Позади меня во дворце горят окна, а еще прожектора, высвечивающие движение на площади. А я иду в темноту, здесь пусто, как пусто, просто на всякий случай, и в ближайших кварталах, только к вокзалу город немного смелеет, оживляется. Я к вокзалу не иду. Ныряю между домами. Здесь в основном офисные здания и музеи, жилых домов исчезающе мало. Кое-какие дома с широкими террасами, заросшими зеленью, снимают туристы, но все больше летом, а сейчас для этой роскоши холодновато.
Я пытаюсь смотреть по сторонам, замечать всякие вещи, чтобы не слепнуть от боли. Здесь почти совершенно темно, дворец, как маяк, сияет своими огнями, слишком яркими, ревущими в голове. Я закрываю глаза, плутаю в темноте, натыкаясь на стены. Под руками у меня то и дело оказываются стекло и камень. Небо не испускает никакого света, и даже луна снова скрылась, недовольная этой ночью. Пахнет камнем и пылью из-под машин.
Вот бы, думаю я, найти здесь море и в него шагнуть. Я представляю, как следующий же мой шаг обнаружит не камень, воду, но чистая, синяя вода в Анцио, а здесь только палочки от мороженого, использованные билетики и мой мертвый папа.
Горечь на языке и шум в голове не становятся слабее. Я открываю глаза. Кое-где горит свет. Начались жилые кварталы. Узкая улица идет вверх, и подниматься тяжело. Здесь едва проскочит мотоцикл, так что машин я не боюсь. В окнах иногда снуют тени – там люди делают всякие вещи, которые совершаются вечером – едят, целуются, слушают музыку, занимаются любовью, смотрят телевизор, читают и мечтают. Я бы хотел быть в Анцио и тоже чем-то таким заниматься. Кровь в голове идет пулеметной очередью, и я понимаю, что сейчас потеряю сознание. Тогда я ложусь прямо на камни, тесно прижавшиеся друг к другу, будто им холодно. Один из них впивается мне в шею, но это уже не важно. Небо Вечного Города плавает надо мной, и я вспоминаю море в Анцио и, кажется, слышу его шум.
Небо становится еще темнее, а затем черным.
Когда я открываю глаза, я чувствую себя свежим и отдохнувшим, в голове все тихо. Концерт окончен, музыканты расходятся, зрители прекратили аплодисменты, и только я остаюсь, чтобы убирать бардак. Даже в собственной голове мне отведено место уборщика, но это смешно, а не обидно, потому что уж у себя в черепе я все сам решаю.
Я думаю: есть ведь такой зверь, он розовый как червь, похож на змею и лапы у него две – как он там называется? Это меня занимает пару минут, пока боль в шее не отвлекает меня. Тогда я вспоминаю, почему я здесь, что это за небо и что с моим папой. Но вместе с болью и отчаяние уходит, я вдруг думаю: нет-нет-нет. Мой папа не лежит неподвижно, дышит, его кожа теплая, а глаза блестят. Это значит, что он живее тех, кого закапывают и сжигают. У него живое сердце.
Вот что я думаю: папа был мертв, а потом очнулся, и хотя это все еще было его тело, он снова получил жизнь, а вместе с ней и совсем иные божественные глаза.
Но это тело папы, голова папы и в ней мозг папы, который все еще хранит папину жизнь. Нужно вернуть в эту голову самого папу, и все встанет на свои места. А чтобы был сам папа, бог должен смотреть на него правильными глазами.
Я переворачиваюсь, ухом прижимаюсь к камню, пытаясь почувствовать, как пульсирует под его скорлупой земля. Вижу, свет включили, стоят на балконах, смотрят. Я говорю:
– Я в порядке!
Поднимаю руку, чтобы показать, что двигаюсь, и снова слушаю, как пульсирует земля и из самых недр ее доходят до меня песни огня внутри. Это я тоже в книжке читал: там в глубине пылает земляное сердце, наполненное лавой, как мое сердце кровью.
А может я себе это все только представляю. Еще минуту спустя я понимаю, это не моей судьбой так озабочены граждане Империи, не на меня смотрят. Там, в конце улицы, с трудом протискиваясь в узком промежутке между двумя домами, спускаются вниз тени. Они что-то несут, и оттого кажутся сгорбленными, больными. Я слышу, как кто-то причитает:
– Добрые люди! Подскажите, как добраться до ближайшего кладбища! Несем дочку хоронить, мы устали, денег нет! Швырните, кто сколько может! Или, может, вызовите машину, если вы не без сердца!
Кричит человек, идущий впереди. Я уверен, что он еще и кривляется, есть в его голосе нечто отвратительное, какая-то сытая и глумливая наглость, и причитает он так нарочито бездарно, что даже жутковато. Я приподнимаюсь. Обе фигуры одеты в плащи, отсюда теперь, благодаря свету, который зажигается везде, распространяясь от одного окна к другому, видно даже многочисленные складки на ткани, а вот лиц не видно никак. Эти люди несут гроб, простой, бедный, криво сколоченный из досок, словно бы на скорую руку. Я, кажется, вижу даже щепки на нем, не знаю, как называются эти огрехи в дереве, но это – зародыши заноз.
Человек, идущий впереди и принимающий на себя основной вес домовины, продолжает, нараспев почти, просить о помощи. Все это похоже на какой-то жуткий ритуал, где двое исполняют какие-то непонятные, жалкие роли, а кто-то третий в гробу ждет.
Но если там правда ждет мертвый человек, то его скорее надо придать земле. Я поднимаюсь, отряхиваюсь.
– Здравствуйте! – говорю я. – У меня есть деньги и телефон. Я могу вызвать вам машину.
Они останавливаются, словно бы даже чуть раздраженно. Я стою у них на пути. Люди уходят с балконов, теперь смотрят из окон. Их головы, как воздушные шары над нами. Я думаю, что люди, наверное, будут рады, если один странный парень уведет еще двоих странных людей и одного потенциально мертвого человека.
Я повторяю:
– Здравствуйте.
И говоривший, и его спутник остаются неподвижны. Кажется, под капюшонами у них не блестят глаза, поэтому я думаю, может и нет там ничего. Стоят они долго, даже переживаю, что их сломал. Я делаю шаг к ним. У меня хорошее настроение, потому что есть надежда спасти папу. Если они свою дочку в гроб положили, ее уже не спасешь, поэтому мне хочется им хоть как-то помочь.
Наконец, тот который и до того говорил, снова говорит:
– О, юноша, это чудесно! Да воздаст тебе твой бог, и боги твоих родителей да им воздадут, и пусть дети твои примут твоего бога.
– Да, – говорю я. – Только у меня нет детей.
И тут же добавляю:
– То есть, если у вас теперь тоже совсем нет, вы простите меня, пожалуйста. Я сочувствую вашему горю.
Теперь я вижу, что под капюшонами у них черные платки и черные очки, оттого и кажется, что там темнота одна. Я скольжу вниз по улице, по гладким камням, достаю телефон и набираю номер.
Долгое время я выясняю, какая это улица и кажусь еще более глупым. Наконец, мне удается вызвать машину, тогда я становлюсь суматошным, не понимая, где ее ждать. Наконец, я и они, то есть мы, замираем у фонаря. Они кладут домовину на скамейку, и ее витая спинка – облезшее железо в розах, кажется красивее, чем гроб, похожий на ящик, в каком перевозят бананы. Может, там и есть бананы, думаю я. Здорово было бы, если бы люди возили не мертвых, а фрукты. Я смотрю на гроб, считаю потенциальные занозы и актуальные доски.
Я впервые слышу голос второго человека. Под бесформенным плащом даже не было понятно мужчина это или женщина, а теперь – понятно, потому что голос мягкий, мурлыкающий, звонкий. Она говорит:
– Посмотри на него, он же имбецил.
На самом деле она не права – для имбецила у меня слишком хороший речевой функционал (я специально этой мыслью его себе демонстрирую, чтобы поддержать себя). Мужчина вдруг притягивает ее за шею к себе, тесно прижимает руку в кожаной перчатке к ее рту под платком – это у него выходит грубо и выглядит, как будто он так занялся с ней любовью, совсем не ассоциируется с его подобострастной речью.
– Зато он красавчик, моя любовь.
Тогда я уже решаю обидеться, потому что они меня без меня обсуждают совсем нагло. Говорю:
– Мне с вами детей не растить, я вам только гроб в машину положу.
Я даже увидеть не успеваю, как этот мужчина ко мне метнулся, и вот он уже на коленях передо мной. Он снимает очки, сует их в карман. Теперь я вижу его глаза – они желтоватые, как глаза кота, который поймал в них солнце.
Позади него его женщина гладит пальцами гроб, они скользят, тоже в черной коже, минуя все занозы.
– Дело в том, юный господин, что у нашего народа есть традиция. Добрый человек должен согласиться помочь, проводить нашу девочку в последний путь, и тогда наша богиня примет ее и с поцелуем прильнет к ее устам.
– О, – говорю я, потому что это все странно звучит. – Ну понятно. Наверное.
– Ты добрый человек! Ты согласился нам помочь, теперь закопай ее вместе с нами! Земля будет мягкой для нее, если у тебя доброе сердце. Наша мать – земля, она дает жизнь и забирает, поглощает мертвых, чтобы дать пищу живым. Питается смертью и дает жизнь. Проводи нашу девочку в последний путь, будь к ней добр, и тебе воздастся от нашей богини – земля не забывает тех, кто ее вспахал.
Вспахать землю, похоронить мертвеца, я понимаю, что тут общего. Нужно посадить семя в землю, и оно взойдет.
Я пожимаю плечами.
– Я сегодня слушал землю.
Он вдруг обнимает мои колени, так что я вздрагиваю.
– Ты ведь говоришь – да? Ты говоришь нам, что согласен?
Я неторопливо киваю. Никогда таких фанатиков не видел. И хотя все люди стараются соблюдать заповеди своих богов, мало кто говорит о них со страстью, а тем более как о любовниках. Говорят, на востоке люди стремятся слиться со своими богами, но я такого не понимаю. Я и есть мой бог, у меня его глаза, чего мне еще может быть от него надо?
Мужчина отстраняется от меня, но остается на коленях, а его женщина смотрит, и глаза у нее тоже поблескивают, пшенично-золотые. Может, горе сделало их такими, но выглядят они жутко. У них пугающие, хотя и очень разные движения. Она – плавная, ленивая, он – резкий, экзальтированный.
И в них еще что-то есть, только не понимаю, что. Или чего-то нет.
Только дочку мне их жалко. Человек должен встретиться со своим богом, он для этого появляется на свет.
Так что, когда подъезжает машина, я, после споров с водителем, помогаю им погрузить гроб на заднее сиденье и плачу водителю сверх таксы, чтобы он не расстроился проигрышу.
– Прошу прощения, – я говорю.
У разных народов разные обычаи. Многие хоронят только ночью, так что ничего удивительного. Правда, обычно люди более организованные, и водителям не приходится возить гробы без предупреждения. От гроба не пахнет ничем, только свежим деревом и, немного, восточными благовониями. Ничего противного, но лицо водителя в зеркале заднего вида ужасно мучительное. Я думаю, надо ему еще заплатить.
Мужчина и женщина сидят на заднем сиденье, в черном с ног до головы, полностью закрытые от чужих глаз. У них на коленях гроб с дочерью, и они синхронно гладят его. Их руки не встречаются, словно у каждого движения есть своя граница.
Я говорю таксисту:
– Мне ужасно жаль, что так получилось.
Он сплевывает в открытое окно. Мужчина и женщина молчат. А я все гадаю, что это за народ, чья богиня – земля.
Гроб мы едва сумели засунуть на заднее сиденье, они ни при каких условиях не хотели с ним расставаться. Все, в принципе, получилось, но теперь гроб упирается в спинку моего сиденья, и это не слишком приятно. Огней становится все больше, фонари на темной дороге похожи на упавших в реку светлячков. Мы проезжаем мимо вокзала, на котором толпятся желающие приехать, уехать и просто любители ночного образа жизни. Здесь пахнет едой, в основном хлебом и сыром, немного медом и еще меньше вином – запахи доносятся из многочисленных патриотических термополиумов с вывесками яркими, как будто в глаза плеснули кислоты. Я думаю, что не против был бы что-нибудь съесть, тем более что-нибудь с сыром, но мне в спину упирается гроб с чьей-то дочкой, поэтому я глотаю слюну и стараюсь потерять аппетит.
Вскоре мы вокзал проезжаем, теперь огни медленные, равномерные. Фонари и разрозненные полуночники, может работающие, а может борющиеся с бессонницей с помощью книжек и телевизора – вот что греет Вечный Город Ночью. Иногда попадаются круглосуточные магазины с цифрой двадцать четыре, смотрящей в темноту. Еще мы проезжаем пару пьяных компаний, семь одиноких людей на семи разных остановках, которые, наверное, тоже ждут машину, одну пьяную девушку, которая несет в руках свои туфли – у нее высокий хвост бледных волос и длинные ноги, и, наконец, одного усталого от жизни человека с маленькой собачкой.
А потом начинается кладбище. Кладбище у нас занимает практически целый район, это собственный город мертвых. Тут есть и богатые кварталы, где на уважительном расстоянии друг от друга стоят гробницы, есть и многоэтажные семейные здания, в которых оказывается пепел знатных людей. Есть районы, где и после смерти бедные остаются бедными, там общие ямы, где они, как при жизни, ютятся вместе. Кладбище, как и все в мире, разделено и для народов. У всех разные обычаи в жизни и в смерти. Мой бог, к примеру, хочет смотреть на меня и после того, как я уже не буду представлять ничего интересного и стану лежать в земле, так что я не смогу лежать в гробнице с мамой и ее родственниками, а останусь под открытым небом, вместе с папой и Атилией. Преторианцы, я знаю, никакими указаниями свои могилы не снабжают, поэтому когда ходишь по кладбищу, ходишь по ним – никто толком не знает, сколько их похоронено и где. У народа ведьмовства принято сжигать своих сестер, потому что их богиня не живет на земле, так что и их на земле не должно остаться. Для пришлых народов, вроде моего и ведьмовского, места, конечно, меньше. Преторианцы и принцепсы были тут всегда, и когда они умирают, тоже остаются здесь навсегда, а других иногда приходится хранить за городом.
Но вообще-то наш Город и дружелюбный тоже – есть уголок и для иностранцев, для тех чьи обычаи велят сразу хоронить своих мертвых, иногда и сутки не подождешь. Иные верят, что мертвые это скверна. Мертвые невкусно пахнут, как сладости из мяса, но в остальном, нужно стараться относиться к ним с уважением, вот как я думаю.
Я думаю, может гроб такой плохой, потому что девочка сегодня умерла, а за ночь ее нужно похоронить непременно? Какой успели, такой и сколотили, и куда идти не знают.
Водитель останавливается, и я вручаю ему деньги.
– Подождать? – спрашивает он с неохотой, а потом демонстративно зевает. Я качаю головой, я и сам могу дойти. Мужчина и женщина не возражают, значит, наверное, им тоже не надо.
– А вы? – спрашиваю я на всякий случай.
– У нас ночное бдение, юный господин, мы прощаемся навсегда с нашей девочкой. Водитель явно вздыхает с облегчением и даже помогает нам вытащить гроб. Он вроде как застревает, и мы с трудом вытаскиваем его, так что еще и за поврежденную обивку машины приходится дать денег. Я не против, тем более водитель сразу веселеет, даже кажется бодрее. Бодрым быть хорошо, особенно за рулем – безопаснее доедет.
Гроб маленький, у них была компактная дочь. Я не уверен, что ребенок, но, может, подросток.
Машина срывается с места и впадает в течение других машин на шоссе, а мы идем к ограде. Две колонны как кости белеют в темноте, отмечая ворота, в остальном ограда кованная, тонкие редкие прутья скорее для красоты, чем вправду кого-то от чего-то ограждают. Наряду с прутьями вниз тянутся, иногда покачиваясь от ветра, серебряные цепочки. К ним и до сих пор привязаны личные вещи мертвых людей. Я вижу розовый детский ботиночек, которым оканчивается одна из цепочек, еще вижу чью-то шариковую ручку, брелок для ключей в виде фиолетовой акулы, зажигалку, белый ежедневник. Обычные вещи, ничуть не жуткие, они как приманки на серебряной нити. Вообще-то это приманки и есть. Традиция старая, живущая и здравствующая по непонятным мне причинам. В эпоху великой болезни на месте кладбища был район Города, куда впервые пришла смерть. Никого не осталось (вообще-то после великой болезни не выживал тогда никто, а спаслись только разрозненные группки обратившихся совсем к иным богам чем те, в которых они прежде верили). В общем, здесь были дома, кипела жизнь, люди работали, развлекались, термополиумы подвали еду, еще, наверное, лошади ржали тогда, их в городах раньше было много. А потом все взяли и умерли.
Люди оградили весь район, чтобы болезнь не шла дальше. Они вешали серебряные цепочки, потому что верили, что серебро обеззараживает, а на них, как приманку, помещали вещи умерших людей. Злые духи должны были ринуться к этим вещам, как ко всему человеческому, и попасться на серебряный крючок, как рыбки. Сейчас в злых духов уже никто не верит, потому что злые духи это чужие боги, которых случайно разозлили. Но почему-то люди не перестали считать, что это хорошая примета – вешать на кладбище вещи умершего, чтобы защитить живых и отвести сглаз.
Этот обычай придумали в эпоху великой болезни, она давным-давно прошла, а он и поныне с нами. Наши предки очень боялись сглаза и берегли своих умерших, но когда умирать стали все вокруг, пришлось жертвовать достоинством мертвых ради живых.
На самом деле я неправильно думаю про то, что это были мои предки. Мои предки в это время умирали где-то за Рейном, в таком же отчаянии придумывая новые ритуалы, и кое-то из них, от кого я произошел, случайно обратился к тому, кто вправду смог помочь. Наша прародительница разбудила нашего бога сама того не желая.
Так я слышал, по крайней мере. А как там на самом деле было уже никто знать не может.
Мы идем молча, поэтому я и могу думать о серебряных цепочках с болтающимися на них безделушками, о болезни и обо всем другом. Я помогаю мужчине нести гроб, а женщина идет позади нас, у нее совсем бесшумные шаги.
У ворот, прямо на колонне, устроился жирный квадрат терминала, принимающего купюры. Терминал работает только ночью, так что желающим посетить своих родственников или в спешке придать их земле, приходится платить неустойку за то, что не дают спать сторожу. Я оборачиваюсь. Пальцы у меня уже в занозах, а от неловкого движения гроб чуть не выскальзывает у меня из рук, оставляя мне новых маленьких друзей. Я несу его заднюю часть, над моей головой, наверняка, ее стопы.
В темноте кажется, будто купюра в пятьсот сестерциев как бы сама по себе проникает в пасть автомата. Женщина в своем черном плаще, перчатках и платке, кажется, и вовсе не существует, и ее мужчина не существует, а есть только я и гроб, и парящая в темноте купюра. Я все думаю, кто они? Может быть, нумидийцы. Я слышал, что они всегда ходят только в черном и поклоняются богу целиком из металла. Замок на воротах, недовольно щелкнув, уступает нам право войти.
В будке сторожа зажигается свет. Он выходит, недовольный тем, что бесчувственная машина и мы, ее соучастники, его разбудили. На нем ночной халат, тапочки и смотреть на него холодно. Женщина оплачивает две лопаты, показывает какие-то бумаги и спрашивает, куда идти. Мне ужасно интересно к ней подойти и послушать, но у меня гроб, связывающий меня обязательствами. Охранник довольно быстро указывает ей влево, и я удивляюсь. Он должен был, по-хорошему, подойти к нам, посмотреть, похож ли тот, кто в гробу на того, чей номер свидетельства о смерти женщина ввела в терминале. Папа бы не понравилась такая безответственность. А вдруг, мы какие-нибудь убийцы или другие злодеи?
Женщина возвращается к нам, и мы идем по аллее, где вместо деревьев вокруг нас вырастают памятники, гробницы и таблички.
Есть на кладбище и настоящий сад. У народа воровства принято вместо имен и табличек выращивать на могилах цветы. Так им велит их богиня, любящая красивые вещи. В детстве я и Атилия иногда прятались на кладбище. Когда хоронили кого-то из сенаторов, нас брали сюда, нам здесь было скучно, и мы играли. Один раз Атилия спряталась в разрытой могиле, потому что наш бог не считает, что в смерти есть что-то дурное. Мама с трудом вытащила ее, измазалась в земле и порвала чулки, а потом еще месяц переживала, что Атилия умрет из-за какой-то дурной приметы маминого народа.
А я тогда съел какой-то цветок, но маме об этом не сказал, потому что она еще больше бы волновалась.
У меня приятные воспоминания про кладбище. Некоторое время мужчина и женщина продолжают молчать, а потом вдруг мужчина говорит нарочито весело:
– Юный господин, а вы почему решили нам помочь?
– Я думал у вас денег нет, – говорю. – А оказалось есть. Но мне все равно вас жалко.
Мужчина смеется, смех у него переливается, как бутылочное стекло на солнце – остро и ярко.
– Ты не спросил нас, откуда мы.
– Не отсюда, раз не знаете, где кладбище.
Я некоторое время молчу, а потом добавляю:
– А все-таки откуда вы?