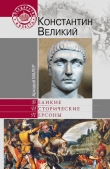Текст книги "Дурак (СИ)"
Автор книги: Дария Беляева
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Сада здесь толком нет, дубы так и стоят, зеленея и впитывая солнце, и все, кроме них – кирпич дома, крыльцо, темные занавески на окнах, кажется тусклым.
Я нажимаю на звонок, кнопка поддается не сразу, как будто в последний раз ей пользовались так давно, что она уже перестала быть кнопкой. Открывают мне тоже не сразу. Но я долго жду, и дверь все-таки распахивается. На пороге стоит мальчик лет шести, смотрит на меня большими, темными глазами. Я пытаюсь угадать в нем черты Кассия, но они мне только чудятся в излишней остроте его подбородка и в тонких губах.
– Привет, Кезон, – говорю я. – Я помню тебя еще совсем маленьким. Ты вырос.
Мальчик продолжает смотреть на меня, а потом закрывает дверь. Я вспоминаю, что оставил пустую коробку из-под салата в машине, мне становится стыдно. Я еще раз нажимаю на кнопку, на этот раз она поддается быстрее, и Кезон открывает почти сразу.
– Я – Марциан.
Он бормочет что-то вроде "мама съест твои глаза" и снова закрывает дверь. В третий раз все происходит еще быстрее. Я говорю:
– Кезон, твоя мама не будет есть мои глаза. Мы друзья.
– Вы не друзья, – говорит Кезон. Наверное, это все-таки правда.
– Но ты ее все равно позови.
Кезон бы и еще раз дверь закрыл, я это вижу по его глазам, но в этот момент я слышу голос учительницы.
– Впусти его, у меня голова болит от этого звона.
– Здравствуйте, учительница! – говорю я.
– Я тебя больше, слава богине, не учу. Ты давно можешь называть меня Дигной.
Я делаю шаг вперед, Кезон с неохотой уступает мне, и я оказываюсь в темном помещении. Здесь много белого, но из-за тяжелых занавесок и темного пола, белый потолок и двери смотрятся глухо, неярко.
Единственное яркое пятно здесь – лимонное пятно солнца, умудрившееся пройти сквозь листву дубов и преломиться в стеклянном овале, оставленном в белой двери. На стекле вырезаны линии и треугольники, и еще какие-то знаки – уже совсем не для красоты. Когти моей учительницы легко могут процарапать стекло, и я хорошо представляю, как она оставляет на нем все эти отметки.
Здесь много кружева и бархата, и я даже не знаю, чего больше. Все кружево белое, а бархат – темный. Пахнет пылью и чем-то алкогольно-ягодным.
Учительница говорит:
– Ты, наверное, пришел не для того, чтобы полюбоваться моей прихожей. Как минимум я бы посоветовала тебе полюбоваться гостиной.
И я иду любоваться гостиной. Хотя, наверное, нельзя называть гостиной место, где так редко бывают гости.
Учительница спускается по лестнице, шаг у нее всегда неторопливый, как будто у нее вечно болит голова. Она вроде и ведет себя естественно, но я замечаю, что она приветливее со мной, чем обычно.
– Лекарство не подействовало, – она говорит утвердительно больше, чем спрашивает. – Передай матери, что я больше ничего не могу сделать.
– Мама меня не посылала, – говорю я. – И на самом деле – можете.
Я сажусь на кресло в гостиной, прямо перед зеркалом в тяжелой оправе. Кезон вертится неподалеку, будто боится, что я что-нибудь стащу. Вещи здесь редко меняют свое местоположение, поэтому у окна я еще все еще вижу колыбель Кезона, хотя когда я был здесь в первый раз, он уже из нее вырос. Кисейная ткань рассыпалась по колыбельке так, что кажется, будто там все еще кто-то лежит, а ненадежные ножки колыбели сейчас закачают ее от малейшего порыва ветра.
Я вожу пальцем по бархатным цветам на обивке кресла, повторяя их контуры, мне почему-то неловко смотреть в зеркало. Учительница подходит к окну, плотнее задергивает шторы.
– Кезон, – говорит она. – Принеси чай.
– Хорошо. А когда ты съешь его глаза?
– Сегодня у меня нет аппетита, может быть, в другой раз.
Она может шутит, а может и нет – по ней никогда не скажешь. Учительница оборачивается ко мне и замирает, как статуя. На ней длинное, полностью закрытое платье. Черные кружева поверх плотной зеленой ткани. Обнажены только руки – длинные, смуглые пальцы венчают загнутые когти, от природы черные и бритвенно острые. Мы с народом ведьмовства родственны, потому что наш бог – ночное небо, а их богиня – луна. Лицо учительницы всегда скрыто за вуалью, такой темной, что я понятия не имею, как она видит. Иногда мне кажется, что она толком ничего и не видит, приучилась жить, как слепая, поэтому здесь так темно – ей свет и не нужен.
Я не знаю, смотрит ли она на меня, но говорю:
– Простите за беспокойство.
Платье у нее длинное, до самого пола, и там где заканчиваются кружева, а видно только изумрудно-зеленую ткань, оказывается, что она ярче, чем мне сначала казалось. Говорят, что от длины когтей ведьм зависит сила их проклятий, но это не так. Сила их проклятий зависит от желания их богини. Их богиня, богиня проклятых, хочет, чтобы они несли ее слова в мир, поэтому ведьмы должны проклинать. Как народ воровства кормит свою богиню красивыми вещами, ведьмы дают своей богине силу с помощью слов, прославляя ее, когда проклинают кого-то. Поэтому никто не любит ведьм, воров и наш безумный народ. Поэтому папа создал Безумный Легион из тех, кому не было места в Империи. Наши народы воевали вместе и все еще близки друг другу.
А учительница воевала вместе с папой, она присоединилась к нему одной из первых, и уж точно первая из своего народа. Раньше, когда папа еще не вошел во дворец, когда не стал императором, ведьмы жили очень плохо, едва ли не хуже всех.
У нас были свои поселения, не очень комфортные конечно, но кое-кто в них и сейчас живет, народ воровства кочевал, а у ведьм совсем ничего не было. Они зарабатывали проституцией, никакой другой работы для них не существовало, было запрещено брать их на работу, да никто и не хотел особенно. Спать с мужчинами за деньги было единственной их возможностью заработать и продлить свой род, потому что мужчин у ведьм не было, все мальчики, которые у них рождались всегда наследовали народ отца, потому что богиня не принимала мужчин. Это была ужасная жизнь – у них не было никаких гарантий, им приходилось вырывать себе когти, а это все равно, что зубы вырывать. Когти, конечно, отрастали, но унижение и боль не забывались.
Многие считают, что учительница носит вуаль из-за шрама, оставленного ей преторианцем на войне, а преторианские шрамы никогда не заживают. Это не совсем правда, хотя лицо учительницы действительно изуродовал преторианец, только это было до того, как она присоединилась к войне. Этот человек оставил ей не только шрамы, но и Регину, а она даже не знает его имени. На войне она его не убила, хотя мечтала. Может отец Регины и сейчас где-то ходит, а может его убили. Это мне все Юстиниан рассказал, он любит поболтать. Может, и приврал немного. Я надеюсь. Было бы очень грустно, если бы все это оказалось правдой.
Учительница давно не открывает своего лица, и по ней ни за что не скажешь, что когда-то у нее была такая унизительная и страшная жизнь.
Кезон приносит чай, холодный, в высоких стаканах с запотевшими стенками и листьях мяты, плавающих в темной жидкости, как в янтаре. Только тогда учительница говорит:
– Мне очень жаль того, что произошло с твоим отцом.
Я говорю:
– Как раз об этом я хотел поговорить.
Она поворачивается к Кезону, медленно вытянув руку указывает в сторону двери. У нее все движения такие, словно время для нее течет по-другому, медленнее, чем для остальных людей или меньше для нее значит.
– Хорошо, мама, – тихо говорит Кезон. – Я посмотрю мультики.
Меня не удивляет, что у учительницы дома есть телевизор. В конце концов, она не принимает гостей, не говорит по телефону, не выписывает газет. Телевизор – ее способ узнать, что происходит за границами ее мира, надежно охраняемого старыми, толстыми дубами.
– Иди.
Кезон без энтузиазма отправляется на кухню. Наверное, его больше интересуют мои глаза, чем мультики. Через пару минут тихий дом оживляют звонкие и далекие голоски нарисованных персонажей. В мультфильмах у существ особые голоса, не детские и не взрослые, и не человеческие вообще. В детстве я думал, что мультфильмы, это параллельный мир, но я не хотел туда попасть, потому что там все слишком ярко.
Учительница протягивает руку к колыбели, качает кого-то, кого там нет, и ткань легко колыхается. Чай оказывается сладким, лимонно-мятным и очень холодным, прямо зубы сводит.
Она говорит:
– Мне действительно жаль, Марциан.
Так говорит, что я в этом ничуть не сомневаюсь, хотя голос ее почти не меняется, а выражение ее лица остается скрытым от меня.
– Он был хорошим человеком.
Я смотрю на лестницу. Она доходит до угла и начинается снова, в другую сторону, от этого у всей гостиной делается несколько безумный вид. Надо мной качаются на веревочках очень правильные круги из лунных камней, похожие на макеты планет в музее. И хотя все они разного размера, все эти планеты – Луны. В рамке за моей спиной блестит серебром серп полумесяца, светит над столиком под которым лежат засушенные цветы, такие дряхлые, что только шипы на стеблях сохранили свой вид.
Учительница говорит:
– И его любят. Это великое горе не только для тебя, твоей сестры, твоей матери, но и для всех нас.
– Одна моя подруга сказала, что он дал ее народу все на этой земле.
Учительница издает тихий смешок, если бы змеи умели смеяться, они бы делали это так.
– Аэций сказал бы, что ее народ сам взял все, чтобы быть живым и свободным. Я знаю его лучше тебя, потому что знаю дольше. Он страдал от того, что мы страдали, и так сильно хотел спасти угнетенных, что пролил намного больше крови, чем нужно, чтобы остаться в здравом уме.
Она тянет руку к колыбели, закрывает тканью, будто кого-то внутри нужно охранить от тусклого света. Ее руки очень ловкие, хотя если смотреть на эти длинные когти, так никогда не подумаешь.
– Вы гораздо больше похожи, чем ты думаешь. Когда он был молодым, он хотел только защитить нас всех. Мы все были куда горячее него, мечтая о том, как войдем в Вечный Город.
Я отпиваю еще чая, он пахнет мятой и остужает мне голову, становится спокойнее. А она продолжает говорить о папе, и мне приятно слушать. Я всегда знал, какой мой папа герой, как он отважен, и как много он изменил в Империи. Но я никогда не слышал, что он – хороший человек.
Учительница говорит:
– Он всегда делал то, что хотел. И ему всегда удавалось. Он был безжалостным воином. Но это не все, что ты должен о нем знать, Марциан. Он считал всех равными, он боролся за то, что считал прекрасным – за свободу. Знаешь, почему я говорю тебе все это?
Я качаю головой.
– Потому что, Марциан, однажды твоего отца не будет на свете. И от него останется только история. А история всегда упрощена, между ней и реальностью такая же разница, как между вещью и ее фотографией. Она плоская, ты не можешь рассмотреть ее со всех сторон и множество важных моментов остается за кадром. Это примитивное сравнение, но и ты ведь не самый умный юноша? Ты должен знать правду о своем отце.
Она замолкает, снова покачивает колыбель, а потом говорит:
– Я хотела бы от него дочь. Жаль, не случилось.
Это вовсе не звучит так, будто учительница в папу влюблена. От другой женщины, другого народа – непременно бы именно так и звучало, но для ведьмы самая главная дань уважения мужчине – родить от него дочь и влить его кровь в свой великий народ. То, что учительница говорит о папе выказывает ее восхищение им, а вовсе не желание.
Но вот кого она так качает в колыбели – их нерожденную дочь, мою несуществующую сестру. И тогда я понимаю, что мне совсем не нравится в этом разговоре. Учительница говорит так, будто папа уже мертв, и это навсегда.
Тогда я подаюсь вперед, быстро и горячо шепчу ей:
– Вы не понимаете! Я его верну! Мне просто нужен совет! Я все сделаю! Я найду его!
– Кого ты найдешь, Марциан? – спрашивает она. А мне кажется, что чай у меня в руке сейчас вскипит, такой жар у меня в ладонях.
– Бога! И папу! Он все может, может и папу вернуть! Я уже узнал, что народ воровства что-то красивое подарил своей богине, в ее особом месте, и за это она впустила их в свой мир. Значит, я должен что-то подарить нашему богу, на его особом месте! Я даже знаю, где его особое место. Там, где та, которая нас всех спасла, убила своих детей! Я найду то место, и что-то особое ему подарю, тогда я приду к нему и попрошу. Он мне не откажет. Он любит папу, я уверен. Раз даже вы любите, а я думал, вы никого не любите! Только подскажите мне, что подарить! Я не хочу убивать своих родных и вообще никого не хочу убивать, но вдруг он только на это обратит внимание?
Тишина становится такая, что я слышу, как персонажи какого-то мультфильма обсуждают поломку на своем космическом корабле писклявыми, яркими голосами.
Наконец, учительница говорит:
– А ты знаешь, где это особенное место?
– За Рейном, – говорю я. – Далеко. Надо на поезде ехать.
– А где конкретно оно – знаешь?
– Нет, но я спрошу.
Она снова молчит, и я слушаю про то, как чинить космические корабли. Затем она снова говорит, и я слушаю про то, как спасти папу.
– Поезжай в Бедлам, Марциан, в вашу столицу. Оттуда пришел твой отец. Я знаю вашу историю, но не настолько хорошо, чтобы подсказать тебе, где именно это место. Думаю, где-то в лесах, окружающих Бедлам. И там тебе точно подскажут.
Я вижу в зеркале, как глаза у меня светятся, кажутся еще светлее.
– Вы мне верите?
Она кивает. Я не вижу ее лица, но я уверен, она смотрит серьезно.
– Я хочу, чтобы ты попробовал. Что до дара, который хочет твой бог – и здесь я тебе не подскажу. Но ты мыслишь чужими категориями, а найти то, что ты ищешь может только тот, кто мыслит за пределами шаблонов. Тебе не нужно повторять то, что сделала ваша прародительница. Но ты должен понимать, что твой бог – бог безумия. И ему нравятся совершенно особенные вещи.
– Сумасшедшие люди?
Она терпеливо вздыхает, потом снова подходит к окну. Ее силуэт кажется изящным, совсем девичьим, хотя на момент начала войны ей было девятнадцать лет.
– Ему нравится безумие, Марциан. Соверши безумство.
– Какое?
Она качает головой. И я точно знаю, что она скажет. Сейчас снова будет про мой, собственный, особенный путь, то же самое, что Грациниан сказал. Но она только повторяет:
– Соверши безумство, Марциан, и приди к нему с этим в груди. Тогда, наверное, он примет тебя. Мы будем надеяться.
Моя учительница всегда была строгой, она никогда не скрывала от меня, что я глупый и часто насмехалась надо мной. Но сейчас она – единственная, кто по-настоящему верит, что у меня все получится. Даже Офелла не верит, хотя помогла мне. А учительница – верит.
Я говорю ей:
– Спасибо вам. Я никогда не забуду, как вы помогли мне. Я поеду в Бедлам и совершу там что-нибудь безумное.
– Надеюсь тебе хватит смелости, Марциан.
Снова становится так тихо. Все вокруг – тихое, прохладное и мягкое. Я допиваю чай, встаю с кресла, и в этот момент вместо мультяшных голосов, я слышу вдруг, очень отчетливо, голос знакомый мне с самого рождения, и даже до него – мамин голос.
– Граждане Империи, – говорит она, и я бегу на кухню. Там на стуле с высокой спинкой перед телевизором сидит Кезон. Телевизор смотрит сверху, висит в углу, там, где так любят притаиться пауки. Кезон ест мороженое из креманки, оно пахнет вишней, и наверху у него – вишенка.
Мама по ту сторону экрана, она в черном, руки затянуты в перчатки, черный воротник перехвачен черным платком, она похожа на мертвую Нису или ее мать, когда мы впервые встретились. И она выступает в Сенате.
Мужчины с жадными глазами расселись полукругом, смотрят на маму, ждут, что она объявит. Ждут, и в то же время уже знают. Принцепсы, мечтающие вернуться к прежней жизни. Они читают ее – одежду, выражение лица. Вся страна видит маму, когда она скорбит.
Мне стыдно и больно, как будто она стоит перед ними голой.
– Мне приходится сообщить вам прискорбную новость.
Сердце мое падает, в глазах темнеет от того, как болит в голове. Неужели я опоздал? Папа – умер?
– Император Аэций временно недееспособен. В данный момент он тяжело болен, и никто не может гарантировать, что он придет в себя.
Сердце мое поднимается. Я ожидал чего-то намного худшего. Но зачем мама говорит это? Она хотела скрыть папину болезнь, а сейчас выступает перед всей Империей.
– Молитесь своим богам о здравии вашего императора, – говорит мама. Голос ее, сначала неуверенный, сейчас обретает неожиданную властность и красоту, он перестает быть тихим. – Но то, что Аэций не способен сейчас управлять страной и, возможно, не будет способен, не означает, что достижения его будут забыты.
Запись, кажется, передает эхо, вдруг поднимающееся от маминого последнего слова. Теперь она по-настоящему громко говорит.
– Я продолжу дело своего мужа. Я верю в то, во что верил он. Я верю в то, что Империя принадлежит всем живущим в ней народам, и что мы сможем научиться жить вместе. Сейчас мы в самом начале этого сложного пути, и я надеюсь, что Аэций нас не оставит. Но если так случится, я не отступлюсь от его слов и не забуду его обещаний. Я буду всеми силами пытаться сохранить мир между нашими народами и не упущу ни одного закона, который принял Аэций, а так же использую положения, которые он собирался вынести на следующей встрече с Сенатом. Давайте не будем терять надежды, но и не будем позволять страху охватывать наши души. Империя изменилась, и мы изменились вместе с ней. Аэций сделал для этой страны столько, что никто и никогда не сможет вернуться к тому существованию, которое было прежде Безумного Легиона. Но мы будем двигаться вперед, к другой, но лучшей жизни, к совместной жизни всех наших народов.
Мама замолкает, и сенаторы аплодируют, хотя им явно вовсе не понравилось то, что мама сказала. И это опасно. Папу они, по крайней мере, боялись.
Я говорю:
– Мне нужно домой.
Учительница стоит у двери. Я не знаю, какие у нее сейчас глаза и даже предположить не могу. Она говорит только:
– Иди, Марциан. Сделай то, что задумал. Это будет лучше, чем молитвы. Если ничего не получится, все будет кончено.
Я вижу, как ее когти впиваются в столешницу, и с резким, раздирающим мне голову звуком оставляют четыре глубоких, белых раны на красном дереве.
Машина приезжает та же, что привезла меня сюда утром, и водитель тот же, только теперь он взволнован.
– Здравствуйте, Гаутфред, – говорю я. Он не отвечает мне, и машина трогается слишком резко, а на поворотах он нас с ним не щадит. Он мне говорит:
– У меня семья, детишки. Я думал, у них будет будущее. Я не хочу обратно.
Я говорю:
– Никто никого не выгоняет.
– Так-то даже лучше, что она сказала. Я подозревал. Давно его не было видно, я как сердцем чувствовал. Жене сказал, а она не верила, говорила в отпуске, отдохнуть надо. Если он умрет, мы тоже покойники. Сенат всегда найдет способ сладить с императрицей. А его – его победить было невозможно.
Я думаю, что он недооценивает мою маму. Мне просто хочется сказать ему, что все будет хорошо.
Если я только придумаю, как совершить безумство.
Но сначала мне нужно поговорить с мамой.
В Сенате мамы уже нет, она передала свое сообщение всей стране, прозвучала со всех экранов, теперь она дома. Во дворец меня пропускают и без Кассия, я снова всем примелькался после года отсутствия. У папиной комнаты дежурит заплаканная Атилия.
– Где мама? – спрашиваю я.
– Все кончено, – говорит она.
Сегодня все это говорят, все для всех вдруг сразу кончилось от того, что мама сказала.
– Где мама? – повторяю я мягче.
– В храме.
Я хочу еще что-нибудь ей сказать, но она отталкивает меня, а сама прижимается лбом к двери.
– Выпустишь меня, Атилия? – говорит папа.
– Нет. Для тебя это опасно.
– Ты предательница, милая. Я выпотрошу тебя, потому что ты меня предала.
Голос у папы сладкий, как мед, смешливый. Я стучу кулаком в дверь.
– Скоро тебя тут не будет!
– Ты мне угрожаешь?
Он смеется надо мной, но я сбегаю вниз по лестнице. Темнеет, а оттого сад будто отдает всю свою внутреннюю прохладу, воздух насыщен его запахом. Я думаю, что нужно будет зайти к Нисе, все ей рассказать, сводить ее погулять, и мы вместе подумаем, как быть. Я думаю о чем угодно, лишь бы не думать о том, что мама больше не верит в то, что папа поправится.
Что для нее все кончено.
Она стоит в храме, в кругу света от горящих факелов. На этот раз она не обнажена, ее тело предельно закрыто, она даже перчатки не сняла. Мама смотрит на статую своего бога и, наверное, мысленно что-то ему говорит. Я вспоминаю ее обнаженную спину, тонкую линию позвоночника, мучительно склоненную голову.
– Мама!
– Марциан, – она не оборачивается.
– Зачем ты рассказала? Ты ведь не хотела! Ты говорила, что тогда всем будет плохо!
– Знаешь, почему я не хотела? Я боялась, Марциан. Я боялась взять на себя ответственность и делать то, что я должна делать. Я так надеялась, что он поправится, но этого не случится. И мне нужно принять эту правду. И моей стране нужно принять эту правду. Ничего не будет в порядке, и это я должна буду закончить то, что начал он. Он хотел бы, чтобы я была честной. Это все, чего бы он от меня хотел.
– Но ты должна подождать мама, еще немного! Еще пару дней! Я уже близок к тому, чтобы вернуть его! Мне только надо совершить безумство и поехать в Бедлам!
Она оборачивается, глаза у нее полны слез, но поза такая напряженная, что даже воинственная.
– Ты не поедешь в Бедлам! Там опасно, Марциан! Ты не сможешь спросить у бога, почему папы больше нет. Ничей бог не отвечает на такие вопросы.
– Но я должен найти бога. Я должен сделать для папы все!
– Ты не должен подвергать себя опасности.
– Я не принцепс, там мой народ, такие же люди, как я. Такие люди, которых ты никогда не поймешь! И это ты подвергаешь себя опасности! Теперь все знают, что папа больше не может защитить нас.
Я замолкаю, и она молчит. Мы сказали друг другу лишние вещи. Глаза у мамы становятся сухие, даже злые.
– Я могу защитить вас, – говорит она холодно. Мы смотрим друг на друга, у нее глаза темнее обычного, губы сжаты тонко-тонко, как будто она терпит боль. Я склоняюсь к ней, целую в лоб.
– Прости меня. Я боюсь за тебя. Ты этого не хотела. А я хочу тебе помочь.
Она не реагирует, смотрит на меня, каменная, как бог за ее спиной. Маленькая и воинственная, наверное, папа впервые увидел ее такой. Мысль эта оказывается очень быстрой, но еще быстрее действие, следующее за ней. Я целую ее, губы у нее холодные и податливые в то же время. Я думаю, сейчас она оттолкнет меня, и все закончится. Она упирается ладонями в мои плечи, движением, которое должно завершиться, но не завершается. И я тоже не могу остановиться. Я ни на секунду не забываю, что именно я делаю. Когда я целую ее, она остается моей мамой, женщиной, давшей мне жизнь. Но именно поэтому я не могу отпустить ее. Я хочу ее, хочу эту тайну, скрытую внутри нее.
Наконец, она отвечает мне, как будто сдается, и сразу становится мягче, будто устает от этой злой прямоты, которую держала с тех пор, как я видел ее по телевизору. Язык у нее холодный и ласковый, как ее руки. Я перехватываю ее, поднимаю, она совсем легкая, и прижимаю к колонне. Она цепляется за меня, как будто боится высоты, щеки у нее раскраснелись, и из-за того, что она выглядит совсем юной девушкой, из-за того, как она судорожно цепляется за меня, я ощущаю себя отцом, который был с ней в первый раз.
Я как бы одновременно он, и я сам, и она принадлежит нам обоим. Под тонкой полоской кожи, видной между платком и воротником, жилка на ее шее бьется так быстро, будто сейчас ее сердце, как у птицы, разорвется. Я чувствую, что и у меня внутри – так же. Она отбрасывает перчатки, гладит мое лицо, нежно и отчаянно.
Мы ничего друг другу не говорим, потому что стоит сказать хоть слово, и ничего не случится.
Она тесно прижимается ко мне. Как будто оттого, что мы так близки пропадает необходимость в том, чтобы говорить. Я срываю с нее платок, и она отклоняет голову, показывая мне шею, которую прежде целовал только отец. Я и сейчас вижу цепочку заживающих укусов, которые он ей оставил.
То, с чего все началось – я увидел на ее руке синяки, сиреневый браслет, напоминающий о том, кем стал отец. Теперь я вижу намного больше.
Она мягко подается ко мне, так что я отступаю от колонны, но держу ее. Говорить нельзя, у нас обоих – обет молчания, мы связаны им, объединены. У нас есть только движения. Когда я опускаю ее на каменный пол, я думаю: кого она видит?
Я думаю, что совершаю еще большее богохульство перед ее богом, чем папа когда-то. Когда мама оказывается на полу, она чуть подается вперед, и когда я касаюсь ее колена, оно дергается в сторону. Она перепуганная, но ее движения ни с чем не спутаешь – она меня желает. Я стягиваю с нее платье, а она расстегивает на мне рубашку, гладит, с удивлением, будто понять не может, что это я, будто ее удивляет, что у меня есть кожа, а под кожей – мышцы и кости. Может быть, это правда удивительно. Когда-то я был ничем внутри нее.
Она прикасается губами к ранкам, оставленным Нисой, невесомо, так что это не больно вовсе, заглядывает мне в глаза, задает вопрос, который нельзя озвучивать. Я улыбаюсь ей, глажу по голове, нежно, успокаивающе, как будто мы совсем в другом месте и в другое время. А потом мама подается ко мне и целует там, где сердце, я чувствую его биение ровно в том месте, где замирают ее губы. В этом поцелуе нет ничего распущенного, но я вдруг совершенно перестаю себя контролировать, будто она что-то во мне выключает. В ней есть какая-то особенная магия, она не пленительно красива, не распущенна и стеснительна, но ее нежность дразнит и пьянит намного больше, чем если бы она оказалась раскованной и нетерпеливой.
Я стягиваю с нее платье, ткань не дается, сходит с треском, и на секунду она пытается ее удержать – самыми кончиками пальцев. А потом сама помогает мне избавиться от ее белья.
Я смотрю на ее тело, и у меня нет ощущения, что я вижу его в первый раз, хотя мама никогда не позволяла себе ходить при мне в неподобающем виде.
У нее большая грудь, но узкие бедра, у нее родинка на солнечном сплетении, тонкий, детский шрам там, где под кожей прячутся ребра. Все это кажется мне знакомым, будто я видел ее обнаженной уже сотню раз. Но ее тело не просто тело женщины, которую я хочу.
Я был с ней одним, и эта тайна внутри нее – моя, особая, собственная.
Только когда я касаюсь ее груди, сжимаю между пальцев сосок, я понимаю, насколько то, что я делаю преступно и запретно, мне становится плохо от этого, как никогда не бывало. И хорошо тоже, как никогда не бывало.
Она стонет, губы у нее раскраснелись. Я склоняю голову набок, наблюдаю за ней, трогаю ее грудь. Глаза у нее затуманенные, но при взгляде на нее мне кажется, что я поступаю жестоко.
У нее между ног влажно, она готова принять меня, как и любого другого мужчину. Я делаю с ней то же самое, что делали мужчины с женщинами во все времена. То же самое делал с ней отец, и только поэтому я вообще существую, видел все, что видел и знаю все, что знаю. Сама моя жизнь, все мои самые счастливые и самые чудесные моменты уходят корнями в то, что он делал с ней против ее воли. А я люблю ее. Я люблю ее и хочу быть с ней совсем другим, чем он.
Мама сама расстегивает ширинку на моих штанах. Она принимает меня легко, со стоном, тесно прижавшись ко мне, как будто ей даже недостаточно близко. Когда я держу ее за бедра, двигаясь в ней, мои пальцы попадают ровно по оставленным им синякам, будто мы оба играем на ней, как на инструменте, какую-то безусловную мелодию. Я убираю руки, я не хочу делать ей больно.
Тело ее из теплого становится горячим. Она стонет, мучительно, будто это и плач в то же время, хотя глаза у нее сухие. Я целую ее щеки и лоб, а она гладит мою спину, с ней времени нет, будто ничего еще не существует.
Мы занимаемся любовью долго, пока не доходим до какого-то животного исступления, когда меня нет, и ее нет, и мы не хотим быть.
Только лаская ее, пристально наблюдая за ее лицом, я впервые замечаю, в чем мы похожи, что у нас есть общие черты.
Она распаляется не сразу, сначала испуганная, только целует меня, ласково и со страхом передо мной, потом обнимает все сильнее, сама двигается мне навстречу, и тогда я понимаю, что и страсть у нас похожа, и ласки.
Только кончив в нее, я ощущаю, что она – моя, а я – чудовище. Так должен был ощущать себя отец в тот момент, когда моя жизнь только началась. Мне становится так плохо, что почти физически больно, а она вдруг гладит меня по голове, целует в губы, так нежно, что боль уходит, будто она для этого создана, чтобы меня утешить.
Мы не говорим, не решаемся. Мы лежим рядом, и она целует меня, зарывается пальцами мне в волосы, и от ее ласки у меня будто незаживающая рана, которую я сам себе оставил, затягивается.
Теперь она кажется мне еще меньше, еще беззащитнее, чем раньше. Я ростом почти как папа, и это удивительно, потому что когда-то я был меньше пыльного зайчика под кроватью, и она носила меня в себе, в этом хрупком, бледном теле.
Я касаюсь губами ее соска, когда она говорит:
– Знаешь, я не могу сказать, что хорошо его знаю.
Ее голос кажется мне незнакомым, я уже не думал, что она когда-нибудь еще скажет мне хоть слово.
– Но однажды, когда мы лежали, так же как сейчас, он рассказал мне кое-что. Он ведь только на треть нормальный. Он мне говорил, что у него нет представления о том, что мир стабилен.
Она говорит нарочито отстраненно, как будто лекцию читает, но голос ее чуть подрагивает.
– Он говорил, что все распадается и дробится, когда он на это не смотрит. Камеры ему нужны не только потому, что он боится, что его убьют, хотя и этого тоже. Он считает, что только он контролирует пространство вокруг, людей, время, все. В этом его беда, и его величие. Представляешь, Марциан, такая жуткая и жалкая фантазия человека, который не понимает, что мир не разрушается, когда он выходит из комнаты. Но именно поэтому, милый, он считал, что ответственен за все, что происходит с его миром. И он правда хотел изменить его к лучшему. Он знал, что только он это может, и не мог смотреть на то, как другие страдают из-за него.
– Ты полюбила его за это? – спрашиваю я.
– Тогда – нет. Тогда все было совсем по-другому. Я и тебя тогда еще не знала, хотя ты уже был. Но я зауважала его, хотя он и напугал меня, и насмешил. Чувства у меня были очень сложные.
Она ловит мою руку, и мы сцепляем пальцы.
– Ты очень похож на него не только внешне. Если ты не сделаешь того, что, по-твоему, должен, ты не сможешь жить. Отправляйся туда, если ты не можешь по-другому.