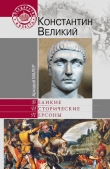Текст книги "Дурак (СИ)"
Автор книги: Дария Беляева
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
– Мама и папа говорят, что приходить к богине дома небезопасно, там могут быть вроде как случайности. Ну, знаешь, донатор внезапно умрет. Царь хочет, чтобы нас было меньше, так-то. Папа и мама вымолили у царя поездку сюда, вроде так будет наиболее правильно для богини. Раньше мы ездили по всему свету. Мы должны быть изворотливыми, хитрыми. Нас оставляли одних с донаторами, и мы должны были крутиться как хотим. Хочешь – купи его, хочешь дави на жалость, хочешь обещай, что сделаешь его бессмертным.
– А это можно?
– Только для тех, кто нашего народа. Но врать-то можно. А мой папа вообще держал своего донатора в пыточной и пил его кровь насильно.
– А ты что думаешь делать?
– Я говорю тебе правду.
Я отправляю в рот последний кусок картошки, допиваю газировку и говорю:
– Честность – лучшая политика.
Ниса смотрит в окно, за стеклом небо становится чище, как будто кто-то его помыл. Она говорит:
– Так! Только скажи мне, что нам есть, где поспать.
– Есть. Ты хочешь спать?
– Да не особо. Просто на солнце я, как бы так сказать, буду выглядеть очень мертвой. И чем дальше, тем мертвее. Один мой дальний предок был похож на мумию, когда я видела его во время семейных обедов.
Я даже представлять не хочу, как выглядят обеды в семье, где половина кровоядна. Я расплачиваюсь за еду, беру с собой вино, и мы выходим в рассеивающуюся ночь. За нашей спиной официантка, видимо, войдя в уборную, ругается на вполне понятном мне языке. Ниса тянет меня за собой, мы проходим через пахнущую бензином заправку.
– А почему ваша богиня хочет видеть вас мертвыми? – спрашиваю я.
– Потому что она есть жизнь, – говорит Ниса. – Жизнь неистребимая. Она может мертвое сделать снова живым. Когда к ней обратились мои предки, они уже были заражены, они умирали. Все, кроме одного. Именно от него и пошла вся порода. А остальным она дала…другую жизнь. Как у меня сейчас. Она богиня, поэтому она может все. Даже такие вещи.
И я вдруг, уже набирая номер, чтобы вызвать машину, замираю. Потом сую телефон в карман и обнимаю Нису. Она холодная и удивленная.
– Ты чего, Марциан?
– Ты мой гений, Ниса!
– О.
– Мой папа умер! Вместо него теперь другой папа! Я думал, как его вернуть! А теперь я знаю! Я все знаю! Я поговорю с богом! Мой бог вернет мне папу, потому что мы – его народ, а он – наш бог. Он сделает это, если я попрошу!
Я достаю телефон из кармана, снова набираю номер и вызываю машину. Я даю какие-то не очень ясные указания, поэтому мы с Нисой долго сидим у дороги, в пыли. Она спрашивает:
– А ты, ну… Ты такой, потому что у тебя такой народ?
– Ага.
– У вас все, ну, такие как ты?
Я пожимаю плечами.
– Очень по-разному. Кто-то видит галлюцинации, кто-то бредит, у кого-то всякие идеи, а кто-то, да, такой как я.
– Я не имела в виду, что ты…
– Дурак. Все нормально. Я не заканчивал школу. Моя учительница научила меня читать, считать, писать и к месту употреблять умные слова. Она сказала, что этого в жизни достаточно.
– Зато у тебя хорошая память.
– Память – способ организации информации в сознании.
– Что?
– Я это запомнил. Я много читаю, чтобы запоминать умные фразы, так меня учили.
Она нащупывает камушек в пыли и пускает его по асфальту, как по воде. Он прыгает, пляшет и плюхается в редкую траву на другой стороне шоссе. Мне холодно во влажной рубашке, но я стараюсь не обращать на это внимание. Нисе, наверное, всегда холодно.
– Я так всего этого не хотела.
– Ты же будешь жить вечно.
– Это клево. Но я хотела завести семью, детей. Для меня это важно. Я не хотела становиться такой в девятнадцать лет. Я никогда не увижу себя в будущем, представляешь?
– Я тоже никогда увижу себя в будущем, потому что я всегда буду смотреть на себя в настоящем.
Она смеется. В этот момент, наконец, подъезжает некрасивая, давно немытая машинка, чьи фары похожи на грустные глаза. Она поднимает облако пыли, я чихаю, а Ниса нет.
В машине я понимаю, что очень пьян, а Ниса напряженно смотрит в окно на незнакомый ей город. Интересно, ее здесь убили или еще в Парфии? Наверное, уже здесь. Она казалась почти живой, когда я увидел ее в гробу. Но она была мертвой.
Она и сейчас мертвая.
Чтобы нас пропустили домой приходится звонить Кассию. Он выходит, сонный, но готовый убивать. Еще в машине, видя, что рассвет уже льет золото на красные крыши городских домов, Ниса повязывает платок. Когда мы выходим, она кажется очень бледной. Я думаю, что через неделю она уже не будет производить такого положительного впечатления. Пока ее можно принять за больную.
Кассий кивает на нее, спрашивает:
– Это чего?
– Это моя девушка из Анцио. Приехала ко мне.
Кассий вдруг начинает смеяться, да так что я думаю, он сейчас умрет от смеха. Кассий все смеется и смеется, будит голубей на площади перед дворцом, и они кидаются вверх, как брошенные в небо камни.
– Твоя! Девушка! У тебя, значит девушка есть!
А потом он оттягивает меня за воротник в сторону и безо всякого смеха, очень серьезно, шипит:
– Ты понимаешь, что здесь сейчас происходит? Конечно, ему плевать, будет тут жить твоя баба или нет, ему сейчас на все плевать, кроме сладостей. Но если она что-то увидит, если она проболтается.
– Она не проболтается, – говорю я. – Обещаю.
– Я убью ее.
Скорее всего, нет, думаю я, но вслух говорю:
– Но она не даст тебе повода. И ничего не увидит.
– Будет жить в твоей комнате. И следи за ней, как будто она иностранный шпион.
Она и есть, в каком-то смысле. Хорошо, что Кассий еще не слышал ее акцент.
Он все-таки нас пропускает, я провожаю Нису в мою комнату, говорю ей располагаться. В моей комнате пахнет ровно так, как и должно – прохладой нежилого помещения. Я оставляю Нису там, а сам поднимаюсь к папе и маме. Теперь я верну папу. Я улыбаюсь, еще пошатываюсь от вина. Пустая бутылка осталась на обочине, и я думаю, что нужно было ее выбросить – нехорошо все-таки мусорить.
Мама сидит у папиной постели. Рассвет делает ее похожей на тень, она выхвачена из пространства вокруг, словно ее вырезали из бумаги. Ее ладонь путешествует по папиному лбу, будто он – болеющий ребенок. Когда она замечает меня, прикладывает палец к губам.
– Он еще слаб, – шепчет она. – Может, это и хорошо.
Я смотрю на папу. Его красивое, изумительно царственное лицо абсолютно спокойно, и не скажешь, что теперь вместо него кто-то другой. Папа похож на древнего вождя нашего народа, мертвого, ждущего погребения и все такого же величественного. Я всегда хотел быть как папа, пока не понял, что значит быть мной.
Я опускаюсь на пол перед мамой, на твердый мрамор, холодный и блестящий, а потом, когда меня затапливает волна винной нежности, я кладу голову на ее теплые колени. Теперь одной рукой мама гладит папу, а другой – меня.
– Все будет хорошо, милый. Мы справимся, – говорит она. Потом долго смотрит на папу и вдруг говорит.
– Знаешь, как я его ненавидела?
Я утыкаюсь носом ей в колени, запах у ее кожи легкий, фиалковый, потом чуть отстраняюсь, смотрю ей в глаза.
– Ненавидела?
Она продолжает меня гладить, я снова прижимаюсь щекой к ее коленям и смотрю, как за окном расхаживают два голубя.
– Он был убийцей, насильником, одно его присутствие напоминало мне о моем позоре и позоре всего моего рода, – говорит мама. Голос у нее печальный, и в то же время она будто не о себе говорит.
– Я каждый день думала о том, что воткну нож ему в горло и буду смотреть, как умирает спаситель народов и убийца моей сестры. Я думала, как заберу его жизнь, жизнь великого человека, пришедшего в мой дом. И он окажется таким же как все. Но я не решалась.
– Ты жалеешь?
Она качает головой. Мне не странно слышать это от нее. Она никогда не говорила об этом, но вряд ли мама и папа сразу полюбили друг друга. Ее слова немного режут мне слух, но не потому, что они неожиданные – скорее потому, что очень грустные.
– А потом я впервые увидела тебя. Когда я узнала, что ты у меня будешь, я не думала, что смогу тебя полюбить. Но когда увидела тебя, поняла, что не могла не любить. Я и его полюбила, когда нашла в тебе его черты. Обычно бывает наоборот, женщина любит ребенка, потому что он похож на ее возлюбленного.
Она улыбается мне, нежно и грустно, ее рука замирает у папиного лба.
– Но когда я полюбила его, о, как я его полюбила. У меня сердце разрывалось от этой любви. И сейчас разрывается. И мне безумно страшно, что я прежде желала его смерти, молилась богу, чтобы поразил его. А теперь, когда я люблю его, так невероятно люблю, когда я боюсь его потерять…
Она замолкает, так и не договорив. Я обнимаю ее колени, и мы молчим.
– Я люблю тебя, мама.
– И я люблю тебя, Марциан. Спасибо, что ты здесь.
Я улыбаюсь ей, и она ловит мой взгляд.
– Я все исправлю, – шепчу я. – Все будет хорошо, будь уверена! Я верну его!
Она улыбается, но грустно.
– Атилия сказала, ты ушел спать. Но в комнате тебя не было, и ты в грязи и в мокрой рубашке.
– Я валялся в саду.
Она крепко обнимает меня, и я закрываю глаза. Когда я чувствую, что начинаю засыпать, то встаю, пошатываясь, хотя мне не хочется, чтобы прекращалось прикосновение ее теплых рук.
– Спокойной ночи, милый, – говорит она. И я говорю ей то же самое. У двери меня встречает Атилия. Она тоже не спит.
– Мы волновались, – говорит она.
– Я видел. Как он?
– Было сложно. А ты где был в это время?
Я обнимаю ее и говорю ей, заглядывая в глаза.
– Я скажу богу, чтобы он вернул папу. Поверь мне, я пойду и поговорю с богом.
– Ты идиот, – говорит Атилия и уходит, оставляя меня в коридоре одного. Я приоткрываю дверь и вижу, что мама все еще сидит с папой.
Вернувшись в свою комнату, я обнаруживаю, что Ниса в моей майке спит в моей кровати. Когда я принимаю душ и возвращаюсь в комнату, окончательно наступает утро. Ниса спит на спине, и я вижу длинную, давно не кровоточащую рану на ее шее. Хотя пятна, наверняка, все равно останутся. Нужно будет просить ее надевать платок.
Я смотрю на нее и думаю, что мне придется спать в одной кровати с трупом. Я задвигаю шторы, комната погружается в темноту, и когда я возвращаюсь к кровати, раны уже не видно.
Я ложусь рядом, некоторое время ворочаюсь, пытаясь устроиться. В моей кровати безумно красивая молодая девушка, но мне совершенно ее не хочется, потому что она совсем не то же самое, что живой человек.
От нее не исходит никакого тепла, поэтому я засыпаю, как будто ее нет рядом.
Глава 4
Я, еще толком не проснувшись, слышу:
– Марциан.
Я думаю, надо же, мне кажется, будто какая-то девушка меня зовет, но это не мамин голос и не Атилии. Наверное, мне все приснилось, и я проснусь сейчас в Анцио, в одном из похожих друг на друга, как жемчужинки в ожерелье, морских дней.
Пахнет чем-то соленым, но это не море. Что-то отчетливо кислое бьется мне в нос, холодит голову. Я широко зеваю, говорю:
– Все в порядке, сейчас я встану. Ты уже уходишь?
Я не помню как ее зовут. Вот неудобно-то вышло. Нужно, наверное, называть ее милой или, может быть, дорогой. Обычно я помню, как их зовут, потому что имена у моих девушек на ночь, в основном, очень странные – иностранные. Я пытаюсь узнать ее. Гнусавый, спокойный, даже холодноватый голос. Как волны утром, по-своему красивый, но не располагающий.
– Марциан, я никуда не ухожу!
То есть, как она никуда не уходит? Она что пропустила свой самолет из-за меня?
– Тебе что негде жить?
– Да, Марциан, мне негде жить, – говорит она. – Я – Ниса.
– Приятно познакомиться, – отвечаю я. А потом открываю глаза и все вспоминаю. Это Ниса, у нас не было секса, она холодная, как камушек и теперь ее жизнь зависит от меня.
С такими вещами, как личное пространство она в Парфии, кажется, не знакомилась. Ниса лежит практически на мне, заглядывает в лицо, наклонившись ко мне так близко, что два ее желтых глаза кажутся жутковато огромными, а разница между шириной ее двух зрачков становится очевидной.
– Ты серьезно сын императора?!
Я с утра не очень хорошо соображаю, особенно у меня не получается понять, чего Ниса от меня хочет. Я говорю:
– И императрицы.
Ну, если ей вдруг нужны подробности.
– Ничего себе! Мой донатор – сын самого императора! Вот это да! Отец с матерью с ума сойдут!
– Ты про ту лесбийскую пару из-за которой мы спим в одной кровати?
Она смеется, теперь голос у нее становится веселым, пусть и ненадолго.
– А спросонья ты язва.
– Сколько сейчас времени?
– На вашем языке правильно спрашивать, который сейчас час.
На вопрос она не отвечает, поэтому мне приходится искать под подушкой телефон. Ниса, наконец, приподнимается, прохаживается по кровати. На ней только моя майка, доходящая до середины ее тощих бедер. И когда она ходит босыми ногами по кровати, майка тоже приходит в движение. Я снова закрываю глаза, а Ниса продолжает расхаживать мимо меня.
– Я пока не голодная. Но я не знаю, когда захочу есть. Это у всех по-разному. Так что я буду пока везде за тобой следовать.
Она даже не спрашивает, не против ли я. Хорошо, что я не против.
– Слушай, а что я получаю оттого, что я твой донатор?
– О, ты такой же жадный, как все в вашей Империи? – она ненадолго замолкает, а потом говорит. – Ничего. Если честно. Я могла бы соврать, но мне лень, кроме того я хочу быть с тобой честной.
Я думаю, что в Парфии определенно какие-то другие отношения между мужчинами и женщинами. Ниса меня совершенно не стесняется.
– Может ты оденешься? – спрашиваю я. Наконец, открываю глаза. Она стоит на кровати, ее острые коленки, кажется, отчаянно натягивают бледную, как бумага кожу. Раны на шее не видно, но я знаю, что она там есть. В темноте ее глаза блестят, как у кошки, готовящейся к прыжку. В ней есть что-то такое раскованное, что вроде как даже не про то, что мы с ней в одной постели и можем друг друга хотеть – она просто ничего не стесняется.
– В смысле? Тут вроде не холодно.
Мне не хочется ей ничего объяснять, поэтому я ухожу в душ. Она говорит мне вслед:
– Марциан, а куда мы сегодня пойдем? Ты покажешь мне ваш Город, Марциан? Почему ваш город называется Город? Что за бред вообще?
– Потому что уже никто не помнит его настоящего названия. Раньше его называли Рим, но это название местности, где он стоит. А потом в этом Риме умерла куча людей, и никто не хотел жить в городе с таким названием. А нового не придумали, потому что когда надо что-то выдумать специально, ни у кого не получается.
Я закрываю за собой дверь и вижу ее тень, она расхаживает перед дверью в ванную, и я вдруг чувствую себя загнанным в угол зверьком. Нет, Ниса вовсе не злая, просто ее шаг – шаг как у зверя. Я умываюсь, долго чищу зубы, потому что зубы и гуманизм – самые важные ценности в жизни современного человека. Умывшись, я включаю воду в душе, чтобы Ниса думала, что я занимаюсь делом. Я смотрю в зеркало, смотрю на себя так долго, чтобы уже не вполне осознавать, что это – я.
У нашего народа нет никаких особенных даров. У нас нет идеального оружия, как у преторианцев, нет данной нашим богом вечной юности, как у принцепсов, мы не умеем быть невидимыми, у нас не получаются проклятья. И, уж точно, мы не воскресаем из мертвых, голодные до крови, как народ Нисы.
Но кое-что наш бог дал нам. Он говорил: зовите меня, когда будете нуждаться в помощи. И, может быть, однажды я отзовусь.
Мы можем обращаться к нему с любыми просьбами. Чаще всего ответа ждать не приходится, но иногда он приходит дает то, чего мы желаем. Мне в детстве наш бог дал мороженое. У меня болело горло, и я рыдал, потому что хотел мороженое, а родители не разрешали, убеждали, упрашивали, обещали много мороженого потом, но я так не хотел.
Я просил и просил, и просил, и просил, а потом оно просто появилось передо мной. Шоколадное, с пахнущей деревом палочкой. Очень вкусное.
Ну, я его съел и еще сильнее заболел. Тут даже мораль какая-то возникла, я многое понял. Атилия один раз задержала поезд в Ровенну, потому что не успевала на него после экзамена. Он так и стоял, пока она не добежала до своего вагона. Машинист объявлял о неких неисправностях, его тусклый, обесцвеченный динамиком голос разносился по вокзалу, но как только Атилия вошла внутрь, поезд тронулся, будто сам по себе.
Вот как бывает. Но это все глупости, которые мы просим в отчаянии. Папа просил отравить свою кровь, и бог исполнил его просьбу. И я слышал об одном человеке, жившем тысячелетия назад за Рейном. Он просил силу, чтобы уничтожить свою деревню, потому что она была злой. Наверняка, на самом деле она не была злой или даже просто плохой – мы часто видим мир не таким, какой он на деле есть. Наш бог дал ему силу прикосновением превращать все в пепел. Так он превратил в пепел сначала всю деревню свою, а потом всех, кого любил, а потом и вообще все вокруг превращал, пока его не застрелил охотник. Наш бог может выполнить просьбу, какой бы абсурдной или гибельной она ни была. Дурацкие ему, наверное, даже больше нравятся.
Но выполнит или нет, этого ты никогда не знаешь. У кого-то так раз в жизни бывало, у кого-то ни разу не было. Говорят, раньше были люди, которых бог так любил, что выполнял все их желания. Но я в это не верю. Каким был бы мир, если бы в нем становились реальными все чаяния умалишенных?
А может он таким бы и был.
Я смотрю на себя в зеркало, пытаюсь сосредоточиться. Нужно только смотреть в себя, и там всегда найдешь бога. Я хочу вспомнить ощущение, которое испытывал, стоя на табуретке в ванной, смотря на себя самого и безумно желая мороженого. Я еще повторял: шоколадное, шоколадное, шоколадное мороженое.
– Папа, – говорю я. – Папа. Отец.
Глаза у меня будто прозрачные, зрачки пульсируют, как мое собственное сердце в груди. Когда мне кажется, что у меня уже чужие глаза, я говорю:
– Отец! Прошу тебя, верни мне отца! Ты же можешь! Ты все можешь! Верни мне его! Я люблю его! Я хочу, чтобы он был с нами!
Я шепчу, потом говорю, потом уже кричу:
– Давай же! Тебе что жалко? Я впервые чего-нибудь хочу по-настоящему! Я так давно у тебя ничего не просил! Я просто хочу, чтобы ты вернул его, чтобы в голове у него прояснилось! Я хочу, чтобы он был таким, как прежде!
Но ничего не получается. Я не чувствую, не могу почувствовать ту пустоту в груди, как на взлете самолета, какая была тогда. Неужели я не могу захотеть вернуть папу настолько сильно, как в детстве хотел мороженого?
В голове опять начинается боль, кусается, царапается, носится от виска к виску.
– Пожалуйста! – говорю я. – Пожалуйста, послушай меня! Папа не заслуживает того, что с ним случилось! Он пытался нам всем помочь! Он вместо тебя заботится о своем народе!
Но бог ничего не берет из меня, я все еще полон, пустота в груди не приходит. И тогда я, в секунду испытав столько злости, сколько никогда не испытывал, бью по зеркалу кулаком. Раздается треск, и меня в зеркале не остается, осколки валятся в раковину с почти музыкальным звоном, а руки у меня становятся красными, будто я окунул костяшки пальцев в сироп.
Я кричу:
– Ты нужен мне, нужен, нужен! Вернись, папа! Где ты?!
Яркие лампочки на потолке пляшут перед глазами, я кружусь на месте, чтобы успокоиться. Если нервничаешь – укачай себя, это у меня с детства работает. Если больно – укачай себя. Если страшно – укачай себя. Если не знаешь что делать – ты знаешь, что делать.
Я вдруг замираю, делаю шаг к двери и понимаю, что Ниса не спрашивает, все ли в порядке, но в комнате она совершенно точно есть. И ближе ко мне, чем мне кажется.
Я словно знаю, она стоит неподвижно, прильнув к двери. Чувствует, что мои руки пахнут кровью. Я будто вижу ее, хотя на самом деле вовсе нет. Я стою неподвижно, и она неподвижно стоит, но между нами пропасть, потому что она замерла, как вещь на столе, как машина, за рулем которой никто не сидит, а я дышу, и сердце во мне бьется.
Я открываю дверь, и она действительно стоит напротив меня, смотрит. Я протягиваю ей руку, она перехватывает меня за запястье, касается языком порезов, сначала несмело, как будто инстинктивно, а потом лижет жадно, как кошка молоко. Это больно, но я терплю. Вместе с кровью, она будто еще что-то забирает, я не злюсь, не в отчаянии. И даже в голове все становится спокойнее, уходит боль, и мысли теперь ясные. Если бог не хочет слышать меня, я приду к нему и буду с ним говорить. Папа говорил, что народ воровства умеет ходить к своей богине. Я должен узнать, как.
К тому времени, как Ниса отстраняется, я совсем спокойный. Она говорит:
– Поговорил?
– Нет.
– Не получилось?
– Не получилось.
– Что теперь будешь делать?
– Теперь я найду бога и скажу ему, чего я хочу. Он меня просто не слышал.
Ради папы.
Я улыбаюсь ей, Ниса смотрит на меня с недоверием.
– Знаешь что, тебе нужно одеться в другое платье, твое грязное. Мы пойдем в Колизей! – говорю я.
– Ты серьезно?
Я смотрю на свою руку – ранки совсем небольшие, не кровят, тогда я оглядываю все вокруг, чтобы убедиться, что и с окружающим миром все в порядке. Комната у меня небольшая, большие пространства делают меня рассеянным. Здесь ничего особенного нет, мой шкаф с книжками, кровать и стол, даже телевизора нет. Я говорю:
– Ты книжку почитай пока. А я тебе принесу что-нибудь.
Я иду к Атилии. Она открывает дверь прежде, чем я постучусь.
– О, мой полезный брат. Может, спустишься к чаю?
– У меня дела. Я пойду спасать папу.
– Потрясающе, Марциан. Если бы я хоть на секунду думала, что ты не такой идиот, каким кажешься, я бы разозлилась.
– Мне нужно твое платье.
Атилия с полминуты смотрит на меня, ее глаза даже не имеют какого-либо осмысленного выражения, будто она не знает, как отреагировать. Тогда я добавляю:
– Это не для меня. Для моей девушки. У меня есть девушка.
Атилия возвращается в комнату, захлопывает дверь. Я еще раз стучусь, и она, настежь распахнув дверь, швыряет платье мне в лицо.
– Спасибо!
– Возьми свою девушку и спустись к чаю. Мама хотела тебя видеть не для того, чтобы ты спал до трех часов дня.
Я не совсем понимаю, почему она злится. Ниса ниже, чем Атилия, но, наверное, такое платье ей сойдет, пока мы не купим что-нибудь для нее. Я возвращаюсь в комнату. Ниса сидит на подоконнике, смотрит в окно. Я думаю: все равно что кошку домой взял.
Я отдаю ей платье и отворачиваюсь, чтобы не смутить ее и себя.
– Ты спустишься со мной к чаю?
– О, тут в кармане помада.
– Атилия рассеянная. Будет невежливо, если ты будешь жить здесь и не познакомишься с моей мамой и сестрой.
– И черные очки! Класс!
– Очень рассеянная. Они – императорская семья.
Я смотрю на серые обои, на которых и рисунка никакого нет – я не люблю яркие цвета. У меня от них голова болит, поэтому в комнате все предельно блеклое. Ничего ярче глаз Нисы здесь никогда не бывало.
– Можешь смотреть.
Я оборачиваюсь. На Нисе платье Атилии выглядит странно, ей особенно нечего демонстрировать в вырезе, и платье оказывается на ней длиннее, чем рассчитано. Губы у нее накрашены красным, как вишневым вареньем, и я впервые понимаю, что у помады Атилии совершенно не кровяной оттенок. Темные очки и платок, повязанный на лицо и шею каким-то странным, но гармоничным образом, делает ее старше.
– Как я? – спрашивает она без особенной кокетливости, скорее с жадностью.
– Как вдова из детектива.
Пока я принимаю душ, я слышу, как Ниса поет. У нее очень благозвучный голос. Намного нежнее, чем когда она говорит, глубокий, морской – то есть, с переливами, как у моря волны. Она поет на незнакомом мне языке нежные песни.
– О чем это? – спрашиваю я, когда застегиваю рубашку. Мне вдруг тоже становится совсем не стыдно перед ней.
– О горьком море, – говорит она. Я не уточняю, потому что она отвечает как-то неприветливо.
Мы спускаемся вниз. Я шепчу ей:
– Только никому не хами. Будь хорошей, ладно?
– Ты забыл, что это от тебя зависит моя жизнь, а не от меня. Я не хочу обижать твоих родителей. Правда.
– Маму. Папы у меня пока нет. Но я работаю над этим.
Столовая у нас просторная и светлая, здесь такие окна, что кажется, будто все стены из них состоят, и стекла чистые настолько, что их будто и на свете нет. У солнца нет никаких препятствий, часто это неудобно для глаз, но очень красиво. За длинным столом, укрытым кружевной скатертью с торчащими, всегда накрахмаленными уголками, сидят Атилия и мама. Перед ними батальоны и батареи пирожных, печений и конфет. Никто и никогда не съедал столько, чтобы эта армия хоть вполовину поредела, но смотреть на них красиво. Здесь пахнущие молоком и коксом пудинги, вязкие, нежные ириски, леденцы с нарисованными красителем, будто акварельными, цветами, длинные трубочки и тучные, крошащиеся миндальные слойки. На чайнике, молочнике и чашках цветут розы, как будто в спирту постоявшие – болезненно яркие.
– Добрый день, мама, добрый день, сестра, – говорю я. – Я хотел бы вам представить мою девушку, ее зовут Ниса.
Я вздыхаю. Все получилось, кажется, вежливо.
– Здравствуйте, – говорит Ниса. Взгляд ее только на секунду скользит по маме и Атилии, а потом возвращается к пирожным, горящий и полный зависти. Очки она снимает и кладет в карман платья. Это и хорошо, было бы не слишком вежливо, если бы она расхаживала в очках Атилии, уже и так надев ее платье.
– Спасибо большое за платье. Я так спешила к Марциану. Дело в том, что мы хотели бы провести еще немного времени вместе – скоро я уезжаю в Парфию, и неизвестно, когда выберусь в следующий раз.
Мы садимся за стол, запах сладостей становится водоворотом, сахар, шоколад, молоко и мед вертятся вокруг, так что кажется язык мой уже чувствует их вкус.
– Очень приятно, Ниса. Я – Октавия, а это моя дочь Атилия.
Мама улыбается, выходит вовсе не вымученно, а вежливо и приветливо. Мама не умеет быть властной, но умеет быть очень вежливой – и это тоже императорское умение. Перед мамой тост с медом, его золотая, липкая спина блестит на солнце. Мама смотрит на Нису с интересом, и мне кажется, что этот интерес вызван ее чертами скорее, чем тем, что она – моя девушка. Ниса ей будто напоминает кого-то, или мама в ней кого-то высматривает.
– Ниса не особенно много ест, она аллергик…
Но договорить я не успеваю.
– У меня аллергия на кошек, – говорит Ниса, она раскладывает по тарелке пирожные, конфеты, как горсть монет ссыпает леденцы из ладони, берет два покрытых глазурью пончика, которые как два глаза смотрят на нее снизу вверх.
Я думаю, что когда она будет есть, рана на ее шее, спрятанная под платком, будет шевелиться.
Мамин взгляд скользит по окну, за которым не шумная улица, а тихий сад, цветы заглядывают в окна, как голодные дети.
– Скажите, – начинает она. – Вам понравился Анцио?
– О, потрясающий город! Сложно было сделать визу, но оно того стоило!
Я беру два миндальных пирожных и общаюсь с ними, пока мама и Атилия общаются с Нисой. Оказывается, что Ниса потрясающе врет. Она рассказывает всякие истории о том, как мы познакомились, о ее учебе на ветеринара в университете в Парфии, о строгих парфянских законах, о том, что в Парфии вовсе не так плохо относятся к Империи, как здесь многие думают, и о том, какое прекрасное в Анцио море, и как мы гуляли вдоль набережной по ночам, и я покупал ей всякие безделушки.
Я ем миндальное пирожное.
Мама будто бы отвлекается. Она мягко направляет разговор, задает вопросы, улыбается, словно бы и забывает о том, что ей грустно. Атилия больше слушает, только один раз говорит:
– Очень интересный цвет глаз.
Ниса, ничуть не смутившись, отвечает:
– Ага. У нашего народа так.
Словом, все вроде бы здорово идет. У меня на чашке роза такая красивая, что больно смотреть, как она цветет. В какой-то момент мама говорит мне:
– Марциан, милый, сегодня воскресенье, я отпустила прислугу пораньше. Ты поможешь мне убрать тарелки. И я понимаю, что чай заканчивается.
Мы с мамой уносим чашки, на кухне мама с мягким звоном опускает их на стол, говорит:
– Она чудесная девочка.
– Спасибо. Мне тоже нравится.
Взгляд у нее становится задумчивым, будто она удивляется чему-то и немного грустным, как если бы в Нисе было что-то любимое мамой и далекое от нее. А потом мама проходится пальцами над раной на моей шее – безошибочно, будто может видеть, что у меня под рубашкой. Она не касается меня, но я чувствую ее прикосновение, так и не сбывшееся, электрическое.
– Что это?
Затем ее взгляд касается ранок на моих костяшках.
– И это.
– Меня покусала кошка.
Мама молчит, и я добавляю:
– Страстная, как кошка, моя девушка. У которой аллергия на кошек. А это, – я взмахиваю рукой. – Ушибся.
– Просто будь осторожнее, хорошо? Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось.
– Со мной ничего не случится, и я верну папу.
Она кивает мне. В отличии от Атилии, она никогда не общается со мной снисходительно, всегда мне верит.
– Как папа?
– Не просыпается. Снова стало дурно, хотя лихорадки нет. Сегодня я поеду к Дигне, привезу его кровь. Может быть, она что-то сможет сделать.
Дигна – моя учительница. Она всегда что-то могла.
Когда мы выходим в столовую, я вижу его, он стоит на лестнице, словно бы абсолютно здоровый. На нем его лучший костюм, будто он пришел на собственные похороны.
– Чай! – говорит он этим чужим голосом. – Без меня! Вот это я называю государственной изменой! Голову с плеч!
Я оборачиваюсь, ищу взглядом Нису и понимаю, что ее в столовой нет. По крайней мере, представления о чувстве такта в Парфии точно как у нас. Атилия поднимается из-за стола, мы с мамой стоим неподвижно, смотрим на него.
Вообще-то мы давным-давно не собирались вместе пить чай. Папа занимается делами государства, у него всегда какие-то встречи, обсуждения чего-то с сенатом и выступления перед народом, я об этом подробно не знаю, потому что там обсуждаются вещи сложные, сложнее тех, о которых я могу думать. У мамы расписание всегда гибкое – она в основном занимается благотворительностью, не потому что больше ничем не может, в конце концов это в ней императорская кровь, и ее роду дали власть. Мама просто не хочет заниматься государственными делами, ей никогда не были интересны такие вещи, но нравится помогать тем, кому плохо. Мама говорит, что помогая тем, кто нуждается в помощи, чувствуешь, что не зря живешь в этом мире. Атилия учится в университете, там их заставляют изучать международное право, и она все время злая из-за нагрузки. А я – я живу в Анцио, так что у меня уж точно ничего не получается с чаем.
Папа спускается по лестнице, шаг у него веселый, будто он слышит музыку в голове и идет ей в такт.
– И действительно, неужели вы не хотите провести со мной время? А если у нас остаются последние недели вместе? Последние дни?
Он не выглядит, как человек, который правда страдает от недостатка внимания. Папа издевается над нами, смеется.
– Давайте поговорим! Мы ведь родственники!
Он приближается к столу, ногой отодвигает стул. Я хочу, чтобы Атилия отошла от него, но она только послушно, как хорошая дочь, садится рядом.