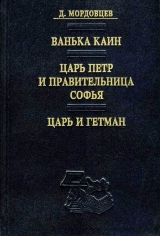
Текст книги "Царь и гетман"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
– Так… так… Пропала ж моя сива головонька, – бормочет старик, грустно качая головой.
– Так покоряешься?
– Покоряюсь, покоряюсь, пане.
– Сдаешь крепость?
– Сдаю… Ох, як же ж не сдать… зараз здам… тоди як…
– Что? Как?
– Тоди, як прийде приказ.
– Да приказ вот… – и Паткуль указал на универсал.
– Ни, не сей, пане… Се – холостый…
– Как холостой?
– Та холостый… же пане… У ляхов, пане, усе холосте – и сама Речь Посполита, уся Польща – холоста, не жереба… – Паткуль невольно улыбнулся этой грубой, но меткой, речи старого казака. Он сам давно понял, что Польша – это холостой исторический заряд, из которого ничего не вышло, и потому он сам, бросив это неудачливое, не жеребовое государство, поступил на службу России.
– Холостой приказ… то-то! А тебе нужен не холостой – жеребячий? – спросил он строго.
– Так, так, пане, – жеребъячий, заправський указ.
– От кого же?
– Вид самого царя, пане… О! Там указы не холости…
Паткуль понял, что ему не сломать и не обойти дипломатическим путем упрямого и хитрого старикашку, прикидывающегося простачком. Он попробовал зайти с другого боку – пойти на компромисс.
– А если я предложу тебе заключить с поляками перемирие до окончания войны со шведами? – заговорил он вкрадчиво. – Пойдешь на перемирие?
– Пиду, пане, – опять отвечает старик, потупляя свои умные глаза.
– А на каких условиях?
– На усяких, пане… Я на все согласен.
– И противиться королевским войскам не будешь?
– Не буду – борони мене Бог.
– И Белую Церковь сдашь?
– Ни, Билои Церкви не здам…
Это столп, а не человек!.. Он отобьется от десяти дипломатов, как кабан от стаи гончих… У Паткуля совсем лопнуло терпение…
– Да ты знаешь, с кем ты говоришь! – закричал он с пеною у рта. – Знаешь, кто я!
– Знаю… великий пан…
– Я царский посол, а ты бунтовщик!.. Ты недостоин ни королевской, ни царской милости, и с тобою не стоит вести переговоров, потому что ты потерял и совесть и страх Божий!..
– Ни, пане, не теряв.
– Я буду жаловаться царю… Он сотрет тебя в порошок!
– О! Сей зотре, шо зотре – в кабаку зотре…
– И сотрет!
– Зотре, зотре, – повторял старик, качая головой.
– Так покоряйся, пока есть время. Сдавай крепость! Правобережье навеки потеряно для Украины.
Старик выпрямился. Откуда у тщедушного старичишки и рост взялся и голос? Молодые глаза его метнули искры… Паткуль не узнавал старика и почтительно отступил.
– Не оддам никому Билои Церкви, – сказал Палий звонко, отчетливо, совсем молодым голосом, отчеканивая каждое слово, каждый звук. – Не виддам, поки мене видсиля за ноги мертвого не выволочуть!
Положение Паткуля становилось безвыходным, а в глазах польного гетмана Адама Сеневского, который истощил все средства Речи Посполитой, чтобы выбить Палия из берлоги, и не выбил, и которому Паткуль обещал, что он немедленно заставит этого медведя покинуть берлогу, лишь только пустит в ход свою гончую дипломатическую свору, – в глазах гетмана положение Паткуля при этой полной неудаче переговоров становилось смешным, комическим, постыдным. Испытанный дипломат, которому и Петр, и Польша поручали самые щекотливые дела, и он их успешно доводил до конца, дипломат, который почти на днях вышел с торжеством с дипломатического турнира, и где же – в Вене, в среде европейских светил дипломатии, этот дипломат терпит полное, поголовное, огульное поражение и от кого же! – от дряхлого старикашки… Да это срам! Это значит провалить свою дипломатическую славу совсем бесповоротно – сломать под своею колесницею все четыре колеса разом…
А старик опять стоит по-прежнему тихий, робкий, покорный, только сивый ус нервно вздрагивает…
А в окне опять конская морда и ржание…
– Геть – геть, дурный косю… не до тебе… Пиди до Охрима…
Паткуль вдруг рассмеялся, да каким-то странным, не своим голосом… Видно было, что его горлу было не до смеху…
– Какой славный конь, – сказал он, подходя к окну.
– О, пане, такий коник, такий разумный, мов лях писля шкоды, – весело говорил и Палий, приближаясь к окну. – Мов дитина разумна…
А «разумна дитина», положив морду на подоконник, действительно смотрит умными глазами, недоверчиво обнюхивая руку Паткуля, которая тянулась погладить умное животное.
– Славный, славный конь… ручной совсем…
– Ручный, бо я его, пане, сам молочком выгодував замисть матери…
– А где ж его мать?
– Ляхи вкрали, як воно що було маленьке.
Этот нежданный, негаданный дипломат в окне помог Паткулю выпутаться из тенет, в которые он сам запутался своею горячностью, – помог отступить в порядке с поля битвы.
– А который ему год?
– Та вже шостый, пане, буде.
– И под верхом ходит?
– Ходить, пане, добре ходить… тильки пидо мною – никого на себе не пуска, так и рве зубами…
– О! Вон он какой!
– Таке… таке воно, дурне.
– Точно сам хозяин, – улыбнулся Паткуль.
– Та в мене ж воно, пане, все в мене – и таке ж дурне…
– О! Знаю я это твое дурне…
– На сему коникови, пане, я и Билу Церкву брав.
– А!
Снова приходит Охрим и снова гонит в конюшню избалованного Палиевого «косю», который так кстати подвернулся в момент дипломатического кризиса. Паткуль спустил тон и видимо стал почтительнее обращаться со стариком, который со своей стороны тоже удвоил свою ласковость и добродушную угодливость.
– Ох, простить мене, пане, простить старого пугача, – говорил он, хватая себя за голову… Вид старости дурный став, мов коза – дереза… И не почастую ничем дорогого, вельми шановного гостя, голодом заморив ясневельможного пана, – от дурный оценек!
И старик звонко ударил в ладони. На этот зов как из земли выросли пахолята – два черномазых хлопчика в белых сорочках с красными лентами, в широких из ярко-голубой китайки шароварах и босиком.
– Чого, батьку? – отозвались в один голос пахолята.
– А, вражи дити!.. Зараз бижить як мога… нехай Вивдя, Катря, Кулина, та Омелько, та Харько, та Грицько, та вси стари й мали – нехай готують снидати, обидати, вечеряти та зараз несут дорогих напитков частувати вельможного пана и усих дорогих гостей… Худко! Швидко! Гайда!
Пахолята ветром понеслись исполнять приказания «дидуся».
Между тем Паткуль, стоя у окна, рассматривал внизу городок с его не массивными, но умелою рукою возведенными укреплениями, насыпями, окопами, рвами, наполненными водою, и бойницами.
– Однако пан полковник свил себе прочно орлиное гнездо, – сказал он, обращаясь к старику.
– Та воно ж, ясневельможный пане, гниздо и есть, тильки я не орел, а старый пугач, – отвечал улыбаясь старик.
– Не пугач старый, а старый Приам, – любезничал дипломат, думая хоть на древностях да на истории загонять упрямого казака.
– Де вже, пане, Приям!.. Анхиз безногий…
Паткуль удивленно посмотрел на старикашку… «А! Старая ворона и в истории смыслит», – подумал он невольно.
– Нет, не Анхизом смотрит пан полковник, а Ахиллом, – продолжал он свои исторические сравнения.
– Який там Ахилл, пане! Анхизка, убогий… Тильки в мене нема Енея, хто б вынись мене из моей Трои… Хиба Охрим замисть Енея…
И старик грустно задумался: перед ним прошла картина его молодости… его первая любовь… его первая жена – его хорошенькая дочка Парасочка… Вот уж двадцать седьмой год, и Параня его замужем… А Енея у него нет и не было.
– Да, Троя, истинно Троя, – повторял Паткуль, любуясь видом крепости.
– Троя, священная Троя Украины, – повторил и старик. – А хто-то введе деревьяного коня в мою Трою, як мене не стане? А поки я жив – не бувать тому коневи в моий Трои…
– О, это верно – улыбаясь заметил Паткуль. – Я хотел было ввести в твою Трою этого деревянного коня…
– Се б то Речь Посполиту, Польшу, пане? – лукаво спрашивает старик.
– Да, ее, только не удалось…
– Ни, пане, нехай вона и остаеться деревьяным конем: вона сама себе и зруйнуе – ся нова Троя разломиться сама натрое, попомнить мое старе слово, – сказал Палий пророчески.
Угощение посла удалось на славу. Паткуль все более и более дивился талантам старика: он не только умеет распутать дипломатический клубок, как бы он ни был спутан, не только понюхал истории, но умеет быть и любезным хозяином – угостить по-рыцарски.
Когда после угощения Палий, бойко сидя на своем красивом «конике», показывал гостю свою Трою, обнаруживая при этом необыкновенные качества военного организатора и сообразительность государственного мужа, Паткуль едва ли льстил старику, когда сказал, с уважением пожимая его руку:
– Клянусь, пан полковник, что я не преувеличу, если скажу теперь тебе, как после скажу Речи Посполитой: Палий – это единственный человек, который мог бы еще оживить упадшие силы некогда славной и могучей республики польской…
– Э, шкода! – грустно махнул на это старый Палий. – Не там мий Ерусалим и не там священный гроб моего Спасителя… Десь – инде… Alibi…
Паткуль ничего не отвечал… «Да это необыкновенный старик – он и язык Горациуса знает».
А между тем из-за крепостного вала слышались треньканья бандуры и горловой речитатив – говорок:
…Буде паньскую тысячу убраную,
Аксамитом крытую,
Шовками пошитую —
Буде мов череду гнати,
Упень рубати,
Буде великим панам великий страх завдавати…
X
На новом, новозавоеванном севере России, где непоседа царь закладывал новую столицу и вместе с тем закладывал в него всю свою крупную исторически ценную душу, на севере – это 1703–е от нарождения Христа Спасителя – лето выдалось такое же, как и царь, невмерное: то не в пору дожди и зябели, то не в пору и не в меру бездождие и засуха. Сначала всю весну лились с неба дожди, словно бы твердь небесная прорвалась или изрешетилась и оттуда хляби небесные и облачные лились на промокшую до последней нитки землю, а потом заколодило – ударили жары, настала сушь трескучая, пожгла до корня только что оправившиеся и выпрямившиеся после ливней хлеба и всякую снедь, задымилось, зачадило удушливым чадом все поневское, олонецкое, новгородское и белоозерское Полесье, горели и тлели леса, горела и тлела земля; клубы дыма выползали из глубоких торфяников, окутывали корни и стволы деревьев, заволакивая стоящею в воздухе дымною гарью. Птицы бросали гнезда и улетали из этого дымного царства. Люди ждали преставления света: это ад чадит, это геенна огненная просовывает свои горячие дымные языки из-под грешной земли, ад пожирает землю… «Оле, оле прегрешений наших!» – стонут старые грамотники, покачивая седыми глупыми головами, не ведавшими, что неведение-то и есть грех смертный, кара Божья… Сумрачный, заряженный гневом и своими думами ходит царь с страстною щемью в сердце, видя, как горят его дорогие леса, его корабельные боры, его сила и надежда… «О! Проклятое, бородатое, длиннополое неведение! Это ты палишь мои леса, сожигаешь мои корабли… А там – в голендерской да аглицкой земле – не горят боры великие… А у меня – горят…»
В это время, в один из душных, дымных дней, песчаным берегом Белого озера по направлению к Крохину медленно тащилась артель рабочих; в руках – у кого слега длинная, посох дорожный, у кого заступ, поработавший вдоволь в земле – матушке; за плечами – у кого котомочка с невещественными знаками бедного одеяния, либо старые лапти, у кого жалкие лохмотья старой овчины в память о том, что они изображали собой когда-то полушубок; на ногах – у того лапотки – отопочки, у другого слои засохшей и потрескавшейся грязи… Жарынь страшная, безвоздушная, какая только может быть на болотном севере во время лесогорения. Тихо в соседнем подернутом дымною пеленою лесе, тихо и на тихом Белоозере, над поверхностью которого тоже висит что-то дымное, белесоватое. На небе стоит солнце без лучей, а все-таки марит, душит банною теплынью. Очумевшие от жару вороны сидят тихо на деревьях, опустив отяжелевшие крылья и разинув рты – видно, что и птице дышется тяжело.
За артелью плетется мальчуган, лет восьми не более, с огромным лопухом на белокурой головке вместо шапки. Хотя живые глаза мальчика с любопытством поглядывают на плавный полет белобрюха мартына, скользившего над поверхностью озера, однако ноги у мальца видимо притомились. Всякий раз, когда мартын, делая в воздухе неожиданный пируэт, быстро падал в воду, вытягивая свои красные ножки за добычей, мальчик невольно вскрикивал: «Ах! Ишь ты!.. Не пымал… не пымал»… И лицо мальчугана оживлялось.
– Ух и жарынь же, людушки, вот жарынь… ух – ма! – говорил щадроватый, рябой мужик с клочковатою белой бородкой, распахивая ворот рубахи и обнажая коричневую грудь, которая была темнее его светлой спутавшейся бородки.
– Чово не жарынь! Хушь блины пеки на солнышке…
– Баня… что и говорить!.. Без веника баня.
– Это что, ребятушки! А вот упека, я вам скажу, так упека… в кизилбашской земле! – отозвался седой старик, видимо, из ратных людей, в истоптанных до онуч лаптях.
– А ты, поди, был тамотка? – отозвался щадроватый мужик.
– Бывывал… Еще в те поры мы с царем Петром Ликсеичем Азов-город брали.
– А далече эта земля от нас будет?
– Близехонько… рукой подать, клюкой достать…
– Ой ли, паря?
– Пра!.. У песьих голов…
– Что ты!.. Песьи головы… у кого?
– У людей… знамо, не у псов.
– Ври ты!
– Не вру… сам видывал, как Азов-град громили.
– А далече это, дядя?
– Да как вам сказать, ребятушки – три не тридевять земель, а без малова на краю света, за Доном… Спервоначала это лежит наша земля-матушка, московская, святорусская, а за нашей-то землей украйная земля – это, стало быть, край земли россейской, как, к примеру, вон край земли, где земля с небом сходится, а дале уж ничево нет.
– Что ты! На нет, сталоть, земля сошлась. А песьи ж, чу, головы где?
– Дале… за Доном за самым… За украйными городы лежит эта земля черкаская, а в ней все черкаские люди живут… народ черноволос, чубат… на голове хвост…
– Хвост! На голове на самой?
– На голове, говорят тебе.
– А може коса… не хвост?
– Толком тебе говорят… хвост, чуб по-ихнему… Коса-то у бабы да у попа сзади живет, а это – спереди, от лба да за ухо, да на спину али на плечо…
– Ах ты, Господи! Ну?
– Ну, черкасы это чубатые голосисты гораздо, песельники и гудцы знатные, говорят необычно, а по-нашему, по-россейски, разумеют маленько: скажешь это «Воды!» – даст испить тебе, скажешь «Хлеба!» – хлеб даст… А там за черкасами донские казаки, а за донскими казаками татары да ногаи, а за ногаями кизилбаши, а за кизилбашами арапы – черны, что черти, а глазищи и зубы – белы, что у псов… А там песьи головы.
– А турки, дедушка? – вмешивается в разговор малец с лопухом на голове, заинтересовавшийся россказнями старого ратного человека.
– Ах ты, «царская пигалица!» – усмехнулся старый ратный мальчику. – А где царской ялтын?.. Потерял небось?
– Нету… вот он, на гайтане.
И мальчик, распахнув на груди рубашку, показал висевший у него на шее вместе с крестом «царский ялтын» – небольшую серебряную монетку.
– Ишь ты, царско жалованье – не величка кружавочка, а сила в ей знатная, от самово царя, значит, – рассуждал старый ратник. – Камушек царь пожаловал, лычко, а все в ем сила – поди на!
– Все от Бога… нихто как Бог, – радостно говорил щадроватый мужик, с любовью поглядывая на мальчика.
– Вестимо, от Бога, – подтверждал ратный. – Вот хушь бы с турскими людьми, примером скажем, как мы Азов – от град добывали. Уж и натерпелись мы – не один ковш слез пролили, не один ковш и лиха, чу, выпили, а все Бог на добро концы свел. Царь это сам по Дону на галерах рати ведет – видимо – невидимо галер, а мы, пешая рать, берегом идем. С нами и черкаские казаки, что с Запорогов, и донские, с Дону… Уж и житье привольное, я вам скажу, на этом самом Дону! Ни бояр там нет, ни князей, ни этой приказной строки – все вольные люди. А села у них – станицами прозываются – как маков цвет цветут: земли вдоволь, арбузов да дынь этих в век не слопать. А там дале, к Азову-то граду, степь голая – ни души, только птица реет да зверь рыщет… Вот тут и натерпелись мы по горло: в степи упека такая, что конь не выносит, падает на ноги, а тебя-то и солнце палит, и комар этот да муха бьет – ну, ложись да и помирай без свечи – без савана, без попа – без ладану… А там эта татарва проклятая гикает да алалакает, словно зверь лютой, да стрелой бьет… Ну смертушка да и только… Ну шли это мы, шли, маялись, а там и до Азова дошли… Стоит Азов – укрепушка крепкая, водой обведен, валом обнесен, а там стена каменна, а за стеной еще стена, а супереди – еще две укрепушки, две каланчи высоких, белокаменных… Подошли, глядим – как ее, черта, возьмешь! Вот и выходит сам царь – от на берег, на коня садится, конь под ним что птица. «Насыпай, говорит, ребятушки, земляну стену до неба, до облака ходячего». Стали мы это сыпать – гору на гору ставим, до неба добираемся. И не диво! Немало нас было сыпальщиков: не одна, не две тысячи, а двудвенадцатеро тысяч рук работало, – зон оно и понимай, двудвенадцатеро тысяч, братеньки вы мои!
– Ну-ну-ну! – качал головой щадроватый мужик. – Сила не махонька…
– Чево больше! Прорва!
– До Божья оконца, поди, добраться можно?
– Где не добраться! Как пить дать…
– Так – ту, братеньки вы мои, – продолжал ратный, – насыпали мы эту Арарат-гору, а на Арарат-гору пушачки встащили – и ну жарить! Жарили мы их жарили, дымили, братец ты мой, дымили, инда светло небушко помрачилося, ясно солнышко закатилося… А сам – от царь от пушачки к пушачке похаживает, зельем – порохом пушачки заряживает – да бух, да бух, да бух! А там загикали донские да черкаские казаки – напролом кинулись… И что ж бы вы думали! Насустречу к им выходит старенькой – престаренькой старичок, седенькой – преседенькой, что твоя куделя белая, и несет это в руках Миколу – чудотворца. «Стой, – говорит, – братцы! Видишь, кто это?» – «Видим, – говорят казаки, шапки сымаючи. – Микола-угодник…» Ну, знамо, икона – крестются, целуют угодничка… А старичок – от и говорит: «Видите, гыть, братцы, что у ево, у угодничка-то, на лике?» – «Видим, – говорят, – брада чесная». – «То-то же, – говорит, – а царь – от ваш хочет попам да чернецам бороды обрить… Так не взять ему, говорит, Азова-града: подите и скажите это царю». Воротились это казаки, говорят царю: так и так – сам-де Микола-угодник выходил насустречу им, не велел брать города… А царь – от как осерчает на их, как закричит, как затопает ногами. «А! – говорит. – Сякие-такие, безмозглые! Не Микола то угодник выходил, а старый пес раскольничий, что ушел от меня с Москвы, к туркам убег, свою козлиную бороду спасаючи… А коли, говорит, он Николой стращает, так я супротив Миколы, говорит, Ягорья – храброго пошлю: ево-де Ягорьина дело ратное, а Миколино, гыть, дело церковное – так Миколе, гыть, супротив Ягорья не устоять…»
– Где устоять! – подтверждает щадроватый мужик.
– Не устоять – ни в жисть не устоять, – соглашаются и другие мужики.
– И не устоял, – заключает ратный, торжественно оглядывая слушателей. – Все от Бога.
– Это точно, что и говорить!
– А песьи головы, дядя, что сказывал ты, – любопытствует долговязый парень.
– Что песьи головы?
– Да каки они? Видал ты их?
– Как не видать – видывал.
– И близко, дядя?
– Не – ни – ни! Близко не подпущают, аспиды… Уж и шибко ж бегают – так бегают идолы, что и собакой не догнать… А поди ты, об одной ноге…
– Что ты! Об одной?
– Об одной.
– Ах, он окаянный! Как же он, сучий сын, бегает об одной ноге?
– А во как. В те поры, как Христос народился и в яслях лежал, прослышали об этом цари и бояре, жиды и пастухи и весь мир, ну и пришли Христу поклониться, да не токмо люди, а и птицы и звери. И прослышь про то Ирод, царь – жидовин, что вот-де новый царь народился, и будет-де этот самый царь царствовать и на земле, и на небе. Ну и распалился Ирод-царь гневом и говорит своим Иродовым слугам: «Подите, гыть, вы, Иродовы слуги, скрадьте младенца Христа и принесите ко мне!» – «Как же мы, ваше царское величество, – говорят Иродовы слуги, – скрадем ево, коли там у ево страж стоит, аньдел с огненным мечом? Он-де нас огнем и мечом посечет и спалит». А Ирод-царь и говорит: «К ему-де, гыть, к младенцу Христу, не токмо люди на поклонение идут, а и звери и птицы. Так вы, гыть, слуги мои Иродовы, наденьте на себя шкуры собачьи с собачьими головами и подите якобы поклониться младенцу со зверьем со всяким – и скрадьте ево». Ну ладно: сказано сделано. Надели на себя Иродовы слуги шкуры собачьи с собачьими, с песьими, значит, головами, и пошли. Входят да прямо к яслям. Только что, братец ты мой, руки они, Иродовы слуги, протянули, чтоба, значит, скрасть младенца, как аньдел хвать их по плечу огненным мечом, да так, братец ты мой, ловко хватил, что от плеча-то самово наскрость и проруби, до самова естества, сказать бы… Так половина-то тела с рукой, с ногой так и осталась тут на месте, у самых яслей, а они-то, Иродовы слуги, сцепившись друг с дружкой, рука с рукой, нога с ногой, и ускакали на двух ногах, по одной у каждого. Ну с тех пор, братец ты мой, так и скачут они, Иродовы слуги: коли он тихо идет, так на одной ноге скачет, а коли ему нужно наутек, так зараз в сцепку друг с дружкой – и тут уж их сам черт не пымает… А головы-то собачьи так и приросли у их к плечам – с той поры и живут песьи головы…
– Крохино, батя, Крохино! – закричал радостно мальчик, которого ратный «царской пигалицей» называл.
Из-за дымчатой синевы вдоль берега озера неясно вырисовывалось что-то похожее на бедные избушки, разбросанные в беспорядке по низкому склону побережья. Только привычный глаз человека, родившегося тут и выросшего среди этой неприветливой природы, да сердце ребенка, встосковавшегося по родным местам, могли различить неясные очертания бедных черных, кое-как и кой из чего сколоченных лачужек.
– Да, Крохино, – отвечал щадроватый мужик и перекрестился. Перекрестились и другие артельные.
– Шутка – сот семь-восемь, поди, верст отломали.
– Добро, что живы остались, – заметил ратный. – А мы вот с царем да с Шереметевым боярином и тысячи отламывали, а уж который жив оставался, кого в поле да в болоте бросали, которых в баталиях теряли – про то и не пытали.
В это время впереди показался маленький, едва заметный от земли человечек, который нес что-то за плечами. По мере приближения этого человека к артели можно было распознать, что то шел мальчик с кузовом на спине.
– Мотя! Это Мотька идет! – закричал мальчик с лопухом на голове.
– А точно он, постреленок, – подтверждал и щадроватый мужик, приглядываясь к тому, что шло им навстречу. – Куда это он, псенок, путь держит?
– К нам, батя.
– А что у ево, у псенка, за плечами?
– Кошель на грибы.
Мальчик в лопухе не выдержал и побежал навстречу мальчику с кузовом. – «Мотя! Мотька! Мотяшка!» – «А! Симушка! А батька где?»
Мальчики остановились друг против друга, расставив руки. Мотька положил на землю кузов, в котором что-то ворочалось и сопело, силясь просунуть мордочку между скважин плетешка.
– Что это там у тебя? – с удивлением спрашивает Симка.
– Мишутка махонькой… С дедом пымали ево… Несу в город за хлеб показывать, – скороговоркой отвечает Мотька. – У нас есть нечего, все вышло – и мякина и ухвостья, так иду с Мишуткой хлебца добывать.
Мотька, поставив кузов на землю, развязал мочалко, прикреплявшее плетеную крышку к кузову, и оттуда высунулась косматая лапка, а потом и острая мордочка маленького медвежонка. Мишутка усиленно моргал своими невинными, детски доверчивыми, как у ребенка, глазками, карабкаясь из кузова и опрокидывая его.
– Ах, какой махонькой! – с восторгом суетился около него Симка.
– Ай да зверина!.. Ха-ха-ха! Вот карапузина!
– Фу ты – ну ты, боярченок какой!
– Уж и точно боярченок…
– Не – черноризец младешенек, – заметил ратный, подходя к медвежонку, а вырастет в игумна – давить нашего брата станет.
Артель обступила медвежонка и забавлялась им. А звереныш, глупый еще по-звериному, доверчивый к человеку, облапил Симку и ну с ним бороться. Симка сразу, с человеческим лукавством, подставил доверчивому зверенышу подножку, и звереныш растянулся при общем хохоте артели.
– Ай да Симка! Зверя сломал!
– Глуп зверь – честен, на чистоту, а Симка-то уж с хитрецой парень.
Медвежонок снова лез на Симку, ожидая честного боя, но Симка опять слукавил по-человечески – увильнул, и Мишутка с своей звериной честностью опять не потрафил.
– Что, Мотюшка, дома у нас? – ласково спрашивал щадроватый мужик, гладя белокурую голову Мотьки.
– Хлебушка нету, – отвечал мальчик.
– А мякина?
– Вышла, и ухвостье вышло… Мамка с голоду пухнет…
– Ахти – хти, горе какое… А отец екимон?
– Лих, у-у как лих! Телку взял на монастырь за летошню соль.
Едкая горечь и какая-то робкая, покорная безнадежность отразились на лице мужика при последних словах мальчика.
– А этого где добыл? – спросил он, указывая на медвежонка.
– С дедом в лесу пымали – у бортей, – радостно отвечал мальчик.
– А медведица?
– Мы не видали ее, и она нас не видала… Мы как взяли его, так бегом домой…
– То-то, счастлив ваш Бог… А куда ты его несешь?
– В город, батя, – хлеба мамке да деду добыть…
Мужик поморщился – не то хотел улыбнуться, не то заплакать, а скорее и то и другое вместе.
– Нет уж, сынок, пойдем домой – я достану хлеба.
Медвежонка, несмотря на его сопротивление, снова посадили в кузов, и артель двинулась к поселку.
Поселок Крохино был беспорядочно раскинут на берегу озера и глядел чем-то не то недоделанным, не то разрушенным. Да почти оно так и было. Сначала поселок был вотчиною боярскою, а потом стал монастырскою, когда последний владелец Крохина с соседними пустошами, рыбными ловлями на Белоозере и иными угодьями, пожив в свою волю, уморив трех законных и семерых незаконных жен, которые потом поочередно являлись к нему во сне – иная с пробитым до мозга черепом, другая с вырванною вместе с мясом косою, третья с переломленными ребрами и тому подобное, засекши до смерти дюжины две людишек и хлопишек, разоривши дотла пять других вотчин с их людишками, женишками, детишками и животишками и допившись до того, что у него на носу бесы в сопели играли и в бубны били, – это-то чадушко перед смертью, поминаючи грехи свои, и отписало свои вотчины разным монастырям, дабы они, монастыри, служили по нем, по болярине Юрье, панихиду вечную – вплоть до самой трубы архангела, когда та труба призовет его, болярина Юрья, на Страшный Суд. Но ни в боярских руках, ни в монастырских крохинцам не было житья, окроме собачьего. Боярин лютовал над ними и разорял их, старцы монастырские сосали из них кровь по капле, разоряли поборами, морили на каждодневной работе – на ловле рыбы в пользу братии и монастырской казны, на рубке, возке и пилке лесу, на колке льду, на собирании грибов и ягод, даже на ловле белок, до шкурок которых был такой охотник «отец екимон» – эконом монастырский, любивший и спать на беличьей постели, и укрываться беличьим одеялом, и рясу и штаны носить беличьи, и сапоги опушать белкою. Не хуже боярина умели и святые отцы лютовать. Лютование это еще более усилилось с тех пор, как молодой царь Петр Алексеевич, возлюбив море и войдя во вкус всяких баталий и викторий, возложил на государственную спину такие великие тяготы, от которых, если не лопнул российский государственный хребет, так благодаря лишь слоновой выносливости и беспозвоночной податливости российского позвоночного столба: вся Россия была разделена на «купы», а из «куп» сгруппированы «кумпанства», духовные, светские и гостиные, – для постройки кораблей, и к этой тяжкой барщине привлечена была вся русская земля – кто давал деньги, кто лес, кто рабочих и топоры для стройки, а кто и то, и другое, и третье вместе; князи и бояре, митрополиты, гостиные и иные сотни, а наипаче «крестьянство», «подлый народ», мужики, – все отбывало кораблестроительную барщину. А там рекрутские наборы по несколько раз в год, сгоны рабочих со всех концов для государевых крепостных и иных работ, насильственные выселения лучших семейств в излюбленные царем места – все это проносилось над страною в виде каждогодных административных эпидемий и изнуряло страну до государственной чахоточности.
Вот почему лютовал «отец екимон» над крохинцами, таская с их дворов за рога последних телок, выжимая сок и из спины, и из топора мужичьего… «Оскуде житница господня даже до нищеты», – плакался «отец екимон» на государственные тягости и тащил в эту житницу и последнюю мужичью телку, и последний сноп овса, и заячью шкурку, и последний туясок мужичьего медку…
Да, не красна жизнь в Крохине. Глядит оно так, словно после черной немочи, мужиков почти не видать – все в разгоне: кто на корабельной стройке в Воронеже, кто у Шереметева в войске, кто на олонецких заводах, кто на крепостных работах, кто в бегах – почти вся Россия обратилась в беглое государство…
У крайней крохинской избы с прогнившею крышею, с покосившимися боками стоит баба в жалком одеянии и набожно крестится, вглядываясь в приближающуюся артель рабочих. В воротах стоит ветхий старик, переминаясь на своих исхудалых босых ногах…
– Никак наших Бог несет, – шепчет он недоверчиво.
– Упаси… помилуй… вот те хрест, – бессмысленно молится баба.
– Симушка, кажись, и Мотюнька с Мишуткой, а где ж Сысой?
– Ох хрест, ох хрестушка батюшка… помилуй…
Симка, увидав мать и деда, стремглав летит к ним. Мать так и присела не то от радости, не то от испуга… Нет, такие страдальческие лица не умеют выражать радости – они раз застыли на испуге и боязни, да так уж и отлились навсегда в испуганную, так сказать, форму.
– Мотри, мамка, мотри! – радостно бросается к матери Симка, распахивая рубашку на груди.
Мать припала бледным, остекленевшим от долгого голодания лицом к лопуху, прикрывавшему белокурую голову сына, и дрожит.
– Мотри – ко, на гайтане! – настаивает Симка.
– Что… что, родной?
– Ялтын царской.
– Ох, Господи!
– Сам царь подарил и по головке погладил… Это – царско жалованье.
Подошла артель. Стали здороваться. Сбежались бабы и ребятишки с соседних домов. Пошел шум по всему поселку – хлопанье дверей, скрип калиток и ворот, возгласы баб, писк и плач ребятишек, лай собак, которые более всех животных интересуются человеческими делами и разделяют их радости.
– Здорово, здорово, Сысоюшка, здравствуй, внучек Симушка, здорово Агапушка, – шамкал Симкин дед, обращаясь то к сыну своему, щадроватому Сысою, то к внучку, то к другим сельчанам, то к ратному. – С коих местов топерь, Агапушка, с Олонца?
– Нету, с самово Шлюхина-града, – отвечает ратный.
– Что ж это за град такой? Не слыхивал такова отродясь.
– Новый, значит, град, с немецкой кличкой – Шлюхин…
– Шлюхин – ишь ты, таких на святой Руси не бывало: Хлынов-город есть, холопий, а Шлюхина-града на Руси не бывало.
– Да это наш Орешек, что под шведом был, а теперь опять наш, – пояснил Сысой.
– Укрепа такая – Шлюхина крепость, – дополнил ратный.
– А царя видали?
– Как не видать, батюшка! Сам – от Симку по головке гладил и денег пожаловал…








