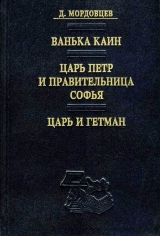
Текст книги "Царь и гетман"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
– Мама дома.
– Ну скажи матери, что я буду к ней в гости: пускай ковбаски готовит.
Болтая с девочкой, Мазепа украдкой поглядывал на мать. Та со своей стороны, молча вяжучи чулок, нет-нет да и клюнет сынка да опять в чулок спрячет свои птичьи глаза.
Но надо было начать о деле, а при девочке нельзя, не годится о таком важном деле при посторонних говорить. Мазепа взглядывает сначала на мать, потом на девочку. Ждать некогда…
– Ну, Оксана, – говорит он ласково, – возьми, дивчинко, котика да пойди поиграй с ним у садочку.
Девочка поднимает на него свои большущие серые глаза.
– У! Яки очи велики! Боюсь-боюсь их! Беги отсюда!
Девочка с котом на руках выбежала из кельи, а мать Мазепы, положив чулок на колени, устремила на сына безмолвный вопросительный, скорее испытующий взор… «Что он задумал? О чем намерен лгать и для чего? Или в первый раз в жизни хочет правду сказать?» – говорили пытливые глазки матери-игуменьи.
Мазепа пододвинул к ногам матери складную кожаную табуретку и опустился на нее. С минуту и тот и другая молчали. Мазепа сидел, опустив голову и устремив глаза на колени матери, на чулок, белевшийся на них. В памяти у него мелькнуло светлой искоркой, как он маленьким сидел, бывало, на этих коленях и играл дорогими ожерельями, блестевшими на белой точеной шее матери. Как давно это было! Не видать теперь и шеи белой, да и какая она теперь!.. А мать, глядя на седую наклоненную голову сына, тоже вспомнила белокуренькую головку Ивася… Седая уж и она, да как седа!.. Так и сжалось старое сердце – руки дрогнули…
Мазепа наклонился, взял эти маленькие, сухие, сморщенные руки и стал целовать их… Еще больше дрогнули руки.
– Что, Ивасю?.. Что с тобой, сынок? – дрогнул голос у старушки.
«Ковалику – ковалику! Скуй мени пичку, таку невеличку…» – доносился со двора веселый напев Оксанки.
Мазепа выпрямился и глянул в глаза матери. Он прочел в них давно, почти никогда не виданную нежность, и в сердце у него шевельнулось что-то острое… «И я бы был добрее, если б эти глаза добрее были», – сказалось у него в душе как-то невольно.
– Матушка! Благослови меня на доброе дело, – выговорил он наконец нерешительно.
– На доброе дело я всегда благословлю тебя, – отвечала игуменья. – Какое ж это дело, сынку?
– Я хочу в малжонство вступить – жениться.
– Жениться! В твои годы!.. А сколько тебе?
И старушка стала нетерпеливо перебирать четки, как бы считая годы, десятилетия. Голова ее дрожала, впалый рот жевал что-то, круглые глазки стали еще круглее… У Мазепы меж бровями прошла складка – та историческая складка, которую заметил раз и царь Петр Алексеевич, когда во время одного буйного пира, разгоряченный вином и неловким замечанием Мазепы, он дернул гетмана за сивый ус; заметил эту складку и Палий перед тем, как Мазепа велел его заковать в железа… Он не отвечал на вопрос матери.
– Восьмой десяток давно… не позднехонько ли, сынку? – продолжала старушка.
– Не в летах, матушка, дело… Аще в силах – говорит святое письмо… Могий вместити, да вместит, – сказал он резко.
– Так-то так… Ну да это твое дело… Ты не мала дитина – обдумал поди… Тебе жить… – Старушка как будто смягчилась и снова взяла чулок в руки. – А кого вздумал взять?
– Кочубеивну…
Старушка откинулась назад, заторопилась и спустила петлю. Сначала она не знала что сказать, и то глядела на сына, то на чулок, как бы со стороны ожидая разрешения своего недоумения.
– Кочубеивну!.. Дочку Кочубея Василия!.. Да он сам тебе в дети годится…
– А хоть бы и во внуки… Моя воля… – У Мазепы голос становился резче и складка между бровями обозначалась явственнее: лицо его превращалось в тот лик, которого пугались дети и собаки.
– А которую это из них?
Мазепа на это не отвечал, а точно оборвал басовую струну у гитары:
– Матрону!
Старуха рванулась было встать, но ноги ее не слушались – она их только поджала под кресла.
– Да ты Лот что ли! – оборвала в свою очередь старуха.
– Не Лот – Лот был святой человек, а я просто Мазепа, гетман, – отвечал он уж со спокойной злостью.
– Дочь-то свою брать себе в жены!..
– Она мне не дочь, а крестница.
– Все равно содомский грех… хуже еще – она твоя духовная дщерь…
Мазепа встал и начал ходить по келье. Лицо его было сурово. Глаза, смотревшие исподлобья, из-под седых нависших бровей, казалось, были не его, да и смотрели все как-то вбок, точь-в-точь глаза собаки, которую рванули сзади за икры, а она, не успев отмстить врагу, косо озирается, как бы ища, на ком сорвать злость.
– Боже мой! Боже мой! – говорила сама с собой старушка. – И когда умрет в нем эта похотливость проклятая!.. С детства такой: покоювкам ни одной не давал проходу… Там с этой Фальбовской связался… Еще милостив был пан Фальбовский – не к хвосту конскому привязал, а на спину…
– Да что вы, матушка, из могил людей выкапываете! – остановился он перед матерью.
– Как не выкапывать!.. Отца бы твоего выкопать – пусть бы порадовался на своего сынка…
– И порадовался бы… Из нашего и вашего роду кто был гетманом? Кто водил дружество с царями и владыками? Я один… Моего батюшки могила никому не ведома, козы по ней ходят и траву щиплют, а об сыне его и вашем, об Иване Мазепе, летописцы уже пишут, как вон писали о Мономахе да о других владыках земли… И твое имя, матушка инокиня Магдалина, по мне воспомянут будучие летописцы. Ради меня ты и игуменство получила, а не будь у тебя сына Ивана, тебя бы давно Палиева голутьба на поругу из твоих маетностей собаками выуськала, а то может, и по тебе бы давно козы паслись, как пасутся на батюшкиной могиле… Для тебя одной сын Иван – не сын: он-де стыд и поношение нашему роду… Знаю я тебя! Всю жизнь точила ты меня как червь старую осину: может, оттого и сидит во мне этот червь, которого никто, кроме меня, не чует… А каково жить-то с этой червоточиной в сердце. Вот часом оглянешься на свою прошлую жизнь, как собака на червивый хвост глядит, – и что ж увидишь там! Кто меня любил? Никто! Мать родная не любила! А за что! За то что мать – шляхтянка, молоком матери шляхтянки да католички отравленная, и у сына – на вон! – не панская кровь, а козацкая, батьковская… Да ты и эту кровь заисутила – ни я козак, ни я лях, а выродок какой-то, я хуже Измаила… Того отец выгнал в пустыню, но у него осталась мать Агарь… А у меня не было и Агари – у меня никого не было! Я думал – сын, сын у меня будет, – будет-де кому умираючи передать и добро мое и имя. Так нет у меня и сына! Некому меня любить… Одна душа добрая нашлась, дитя чистое, так и ту хотят отнять у меня… Нет! Не бывать этому! До патриарха вселенского дойду: он даст благословение…
Мазепа остановился, он был страшен и силен. Но и пред ним был кремень, хотя уже до половины закопанный в могилу. У старухи все лицо ходенем ходило.
– Патриарх даст, так я не дам своего благословения! – как-то долбанула она своим птичьим клювом и застучала клюкой, стоявшей у кресла. – Не дам!
– Так и не нужно мне твоего благословения!
Старуха швырнула на пол чулок, оперлась на клюку – посох и встала, дрожа всем тщедушным, иссохшим телом.
– Не нужно!.. Тебе материнского благословения не нужно, змееныш! – И она подняла посох. – Так вот же тебе – на!
Она, шатаясь и дрожа, пошла на него с посохом. Мазепа отступал. Старушка запуталась в чулке, слабые ноги не выдержали, и она клюнулась носом о пол, упав бесшумно, словно мешок со старым хламом…
– Будь же ты проклят, аспидово отродье! Проклят, проклят, про-о-клят!..
– Матушка!..
– Буди проклят, проклят!.. Аминь… буди проклят!
– Мамо! Мамо! – он хотел поднять ее.
– Прочь, прочь, проклятый! Сгинь с очей моих.
Мазепа вышел, не оглядываясь более на свою мать. В ушах у него звенело проклятие…
– Мене бить… гетмана… как последнюю собаку… сего еще не доставало!..
– А мати Галина котику рыбки давала! – зазвенел ему навстречу голосок и тотчас же смолк: Оксанка испугалась очей гетмана…
VIII
С проклятием матери и с горьким чувством глубокого одиночества и сиротства воротился Мазепа в свою столицу, в Батурин. Теперь он еще более почувствовал то, что в последний раз высказал матери – что его кто-то проклял от колыбели, наложив на всю его жизнь, как на братоубийцу Каина, печать отчуждения. Но он, Мазепа, не убивал брата, да у него и не было брата… И он перебирал всю свою жизнь… Но и там ничего, кроме старых ран, – ничего, над чем бы поплакала усталая память сладкими слезами.
Тут, во всей этой Малороссии, он чувствует себя чужим, отгороженным от сердца народа, как он всю жизнь был отгорожен от сердца матери: народ не любил его, не верил ему, чуждался его; у него один кумир, как тот израильский змий в пустыне, и этот змий – Палий. И казаки, и старшина не любят Мазепы, он это видит, чувствует, подмечая в глазах всех ту искорку недоверия, какую можно видеть у чужой собаки, которая может и укусить… Там, в тогобочной Малороссии, он и подавно чужой: над каждой хаткой, над вновь запаханными нивами, над вновь выросшими из «руины» городами витает тень того же змия пустыни, а на Мазепу все смотрят, как евреи смотрели на фараона…
Да и Москва, царь и Польша смотрят на него только как на сторожевую собаку, которая прикована на цепь около их, чужого, добра и должна лаять по ночам…
Сгинула бы совсем эта проклятая безмозглая хохлатчина!..
И он невольно припоминает стихи, когда-то сочиненные им:
Вси покою щире прагнуть,
Та не в один гуж вси тягнуть —
Той направо, той наливо…
А вот и здесь на сердце одна была у него услада, одна надежда, так и ту отнимают. Кочубеи и слышать не хотят о женитьбе на их дочери, когда гетман формально посватался, сам богатые ручники и подарки привез из Киева. А все эта проклятая Кочубеиха Любка, запорожец в юбке, такой же запорожец, как и сажонная Палииха… Ну да та теперь далеко – в Енисейске где-то, где холодное небо со снежною сибирною землею сходится… Там и Самойлович сгинул… Всех сломил Мазепа – одну эту Кочубеиху Любку не сломить. Эко Салтан-Гирей какой завелся на Украине! Нельзя, говорит, жениться на крестнице – земля-де пожрет обоих в первую же ночь после венца… Вздор какой, «нисенитница»! А она-де, говорит, Мотря, – еще «мала дитина»… Мала!.. Чуть ли не девятнадцатый год…
А сама Мотренька? О! Да она безумно любит старого, никем не любимого, одинокого среди своего величия и роскоши гетмана. Может быть, за это одиночество, за это сиротство и привязалось к нему чистое, еще никого, кроме «тата» да «мамы», не любившее девичье сердце… Все время после той охоты по пороше, когда Палииха убила медведя и когда потом гетман с войском ушел в поход на тот бок Днепра, в Польшу, девушка не переставала думать о нем. Окруженный ореолом могущества и славы, полновластный владыка целой страны, могучий умом и волею, каким он казался всем и ей самой, он в то же время в мечтах девушки рисовался грустным, одиноким, таким одиноким, каким не мог казаться самый последний нищий, таким сиротствующим, которому, как в тот день, когда он особенно был грустен и когда Мотренька приносила ему цветы, ничего не оставалось в этой жизни, как искать своей могилы. И молодое сердце девушки разрывалось на части при мысли, что никто, никто в мире не может утешить его, что нет в свете существа, на груди которого он мог хоть бы выплакать свои никому, кроме ее одной, невидимые слезы, существа, которое могло бы приласкать эту седую, так много и так горько думавшую голову и отвечать любящими слезами на его горькие, одинокие слезы. И Мотренька плакала иногда, как безумная, думая о нем, особенно после того как он сказал, что она одна составляет радость его жизни, яркое солнышко в его мрачной старости, и что это солнышко скоро закатится для него. Первое ее чувство, из которого выросла потом страсть, было жалость к нему – о, какая жгучая жалость! Так бы, кажется, и истаяло, изошло слезами молодое сердце.
Когда Мазепа во главе своей свиты – войскового обозного, есаула, генерального судьи, войскового писаря, полковников разных полков и другой казацкой старшины, окруженный блестящим эскортом из золотой украинской молодежи – бунчуковыми товарищами и сердюками, въезжал в Батурин под звуки труб и котлов, под звон колоколов и при многочисленном стечении народа, Мотренька не вышла вместе с другими навстречу гетману и отцу и притаилась в своем саду, мимо которого следовал торжественный кортеж, и когда из блестящей свиты выделилось седоусое понурое и болезненно угрюмое лицо Мазепы рядом с черноусым и моложавым лицом Кочубея, девушка, прикрытая зеленью сада, восторженно упала на колени и перекрестила эти две головы – голову отца и Мазепы; но в душе она крестила только последнего, а тату своего мысленно целовала и дергала за черный ус, что она, перебалованная им донельзя, очень любила делать. Это движение видела лишь старая няня, следившая за панночкой, и заплакала от умиления, глядя на свою вскормленницу и благоговейно бормоча: «От дитина добра… Божа дитина»…
В тот же день вечером Мазепа навестил Кочубеев, явившись к ним с полдюжиною сердюков, которые принесли целые вороха подарков – для самой пани судиихи и для панночек, которых у Кочубеев, кроме Мотреньки, было еще две. Гетман был особенно любезен с хозяйкою, рассказывал о своем походе, описывал яркими красками то цветущее положение, в каком нашел Палиивщину – ту часть тогобочной Украины, которую вызвал к жизни Палий. Говорил о новых милостях, оказанных ему царем как в виде дорогих подарков, так и любезных писем, и о слухах, ходивших насчет шведского короля, о его беззаветной храбрости, о простоте его жизни, ничем не отличающейся от жизни солдат. Рассказ его был жив, увлекателен, остроумен. Между серьезной речью блистали остроты, каламбуры, словесные «жарты», которые так любит украинский ум. Он пересыпал свою речь удачными пословицами, стихами, польскою солью. Панночки слушали его с величайшим удовольствием, а Мотренька украдкой любовалась им и болела за него, зная, догадываясь, что под этой веселой, живой наружностью таится глубокая тоска, переживается тяжкое одиночество.
– А все мои старые кости не нашли своей домовины, – неожиданно и с горечью заключил он свою живую и восхитительную беседу.
Это было сказано так, что Мотренька, прибежав в свою комнату, бросилась на колени перед образом и зарыдала.
Немного спустя Мазепа отыскал ее в саду с заплаканными глазами. Это было поводом к роковому объяснению, положившему начало той страшной исторической драме, которая через три года закончилась кровавыми актами – трагической кончиной отца девушки, поражением Карла XII под Полтавой и не менее трагической кончиной Мазепы, которого прокляла вся Россия и втайне оплакало лишь одно существо, одно, любившее эту анафематствованную церковью крупную историческую личность, когда ее, по-видимому, ненавидели все, и свои и чужие.
Увидев свою крестницу заплаканною, гетман спросил ее о причине ее слез. Девушка сначала молчала, сидя на скамейке под дубом и рассматривая дубовый лист от ветки этого развесистого зеленого гиганта, свесившейся к самой ручке высокой скамьи. Старик стал гладить ее голову, допытываясь о причине слез. Девушка продолжала молчать, теребя листок, как это делают дети, собирающиеся вновь заплакать, и по всему видно было, что она собиралась разреветься. Мазепа отнял от ее рук ветку, взял за подбородок, как ребенка, и хотел приподнять ее лицо. Девушка упиралась, Мазепа тихо-тихо и грустно назвал ее по имени. Снова молчание, только на руку ему скатились две горячие слезы… «Что с тобою, дитятко мое?» – с испугом спросил он. «Вас жалко…» И девушка, припав к плечу гетмана, горько, неудержимо плакала. Мазепа тихо привлек ее к себе и, одною рукою придерживая стан, другою гладя бившуюся у него на груди горячую головку, долго сидел молча, пока она не выплакалась и пока грудь ее не стала ровнее и покойнее биться на его груди. Тогда он отвел от себя ее заплаканное лицо и, глядя в детски светлые глаза, которых никак не мог забыть Павлуша Ягужинский, тихо спросил: «Ты обо мне плачешь?» – «Об вас». – «О том, что я одинок – в могилу гляжу?» – «О, тату!» Мазепа помолчал, как бы собираясь с силами… «Хочешь быть моею?» – дрожа и почти шепотом спросил он. «Я давно твоя…» Мазепа стиснул ее руки… «Я говорю: хочешь ли ты быть вся моею?» Девушка молчала, глядя на него безумными глазами… «Хочешь ли быть малжонкою старого гетмана – перед людьми и Богом?» Девушка снова упала к нему на грудь с страстным шепотом: «Возьми мене… неси мене хочь на край свита… я твоя… твоя!..»
Непостижима душа человеческая!.. В этот самый момент перед глазами ее пронеслось какое-то видение: яркое весеннее утро, сад и земля, усыпанная розовым цветочным снегом, и юноша с заплаканными, такими мягкими, теплыми какими-то глазами… «Мне восемнадцать уже исполнилось», – говорит юноша.
Когда на другой день Мазепа объявил о своем сватовстве, Кочубеи решительно отказали ему. Гетман был глубоко поражен. Девушка плакала безутешно. Но она уже не могла жить без того, кого она полюбила. Между нею и Мазепою начались почти каждодневные тайные свидания по ночам, то в саду Кочубеев, то в саду гетмана. Старик охвачен был всепожирающею страстью. Никогда в жизни не любил он так, как полюбил теперь, хотя любить ему приходилось не раз и в самую раннюю весну своей жизни, еще при дворе Яна-Казимира, а потом в саду у пана Фальбовского и в самом зрелом возрасте. Зато никогда не встречал он и такой женщины, такого чудного и обаятельного ясностью и полнотою духа существа и с таким глубоким и серьезным складом чувства, какое он нашел в этой своей предмогильной привязанности. Он и в молодости не испытал того, что теперь в первый раз испытывал: это обаяние и опьянение целомудренного, робкого какого-то чувства, в котором господствовали более чистые порывы духа. Может быть, это чувство очищалось чистотою той, которая вызвала его, но Мазепа чувствовал глубоко, что он сам переродился с этой привязанностью; в нем проснулась неведомая для него сила – доброта… Ему в первый раз в жизни стало жаль погубленных им жертв – Самойловича, Палия и легиона других, забытых им. В сердце его в первый раз шевельнулась холодная змея – совесть, стыд за свое прошлое, чувство брезгливости своих собственных мерзких дел, которые до этой роковой минуты не казались ему гадкими. Руки его дрожали, когда в темноте ночи они ловили руки девушки, трепетно ждавшей его, – и дрожали боязнью, что вот-вот и ночью, во мраке, лаская его, она увидит на этих руках невинно пролитую кровь, ощутит слезы, которые заставили вылиться из множества глаз эти сжимаемые нежными пальчиками девушки жесткие, злодейские руки. «Прости, прости меня, чистая!» – шептал он невольно, обнимая колени дорогого ему существа. А девушка, страстно обнимая и целуя седую голову, надрываясь плакала: «Головонько моя! Серденько… На горенько я с тобою спозналася…»
Но скоро об этих свиданиях проведала мать Мотреньки, и тогда для последней адом стал ее родительский дом. За несчастной учредили строгий надзор. Суровая, гордая, несдержанная на язык Кочубеиха поедом ела дочь, язвя ее своим змеиным языком с утра до ночи. Девушка выслушивала такие замечания, такие оскорбительные намеки, от которых кровью обливалось ее тоскующее сердце. Но что было мучительнее всего – это ничем не сдерживаемая брань, которая сыпалась на голову Мазепы. Ему приписывалось все, что только может быть унизительнее для человека…
Но девушка не плакала – она точно окаменела. По целым часам она сидела в своей комнате, не двигаясь с места и прислушиваясь к вспышкам домашней бури, и только тогда, когда матери не было дома, она со стоном бросалась на пол и страстно молилась… И опять-таки молилась за него… Она видела свое горе, знала, как переносить его, но его горя она не видала, а не виданное так страшно…
Что делает он?.. Как он выносит свое горе?.. До девушки доходят слухи, что он болен… Она представляет себе его одиночество, беспомощность… От нее не отходит его образ, тоскливый, скорбный… И она готова на казнь идти, лишь бы увидеть его, утешить…
Самое могучее чувство женщины не любовь, а жалость. Когда жалость закралась в сердце женщины, в ней просыпаются неслыханные силы, слагаются решения на неслыханные дела и подвиги: тут ее самопожертвования не знают пределов, героизм ее достигает величия…
После долгих мучительных дней в сердце Мотреньки сложилось, наконец, последнее бесповоротное решение: она должна идти, чтобы взглянуть на него! От этого не остановят ее ни позор, ни смерть…
И вот ночью, когда все в доме спали и когда старая няня Устя, наплакавшись над своею панночкой, которая в несколько недель извелась ни на что, тоже глубоко уснула, скукожившись на полу у постели своей панночки, Мотренька тихо сошла со своего ложа, перешагнув через спящую старушку, тихо в темноте оделась, отворила окно в сад и исчезла…
Тенистым садом она прошла до того места, где их сад сходился с садом гетмана, и сквозь отверстие, сделанное еще прежде в частоколе и закрытое густым кустом бузины, вошла в гетманский сад. Но как войти в дом? Как пройти мимо часовых, мимо расставленных везде сердюков и стрельцов, которые хотя и дремали по ночам, но около них не дремали собаки?.. Девушка приглядывалась сквозь темную зелень, не светится ли огонек в рабочей комнате гетмана… Может быть, он сидит еще, работает… Нет, он, вероятно, болен, бедненький, лежит одинокий, всеми покинутый, хоть покой его и оберегает свора этих сердюков и московских красных кафтанов… Страшно в темной глубине сада. Где-то меж старыми дубами филин стонет, пугач страшный: «Пу-гу, пу-у-ггу!» А из-за этого птичьего стона слышится, как за садом, должно быть на выгоне, свистит «вивчарик», которого никогда Мотренька не видала, но знает его ночной свист – не то свист птички, не то зверька. А еще выше, из-за вершин лип и серебристых тополей глядят чьи-то далекие очи, Божьи, всевидящие: они смотрят на Мотреньку, следят за каждым ее шагом, даже за биением ее сердца… Но она ведь ничего дурного не сделала: она исполняет евангельскую заповедь – ей жаль больного, страдающего… Мотренька двигается дальше, трепетно прислушиваясь к чему-то: что-то стучит около нее, не то идет за нею, крадется… «Ток-ток – ток»… Господи! Что это такое?.. Девушка останавливается, прислушивается… Все стучит, все идет: «Ток-ток – ток!..» Ох! Да это стучит у нее внутри – это «токает» сердце в ребра, вот тут под сорочкой…
Но Боже! Что-то движется, кто-то идет по аллее… Девушка так и затрепетала на месте… куда двинуться! Где скрыться!.. Кто-то говорит точно сам с собою: «Может Карл, может Петр… кто сломит… а мне куда? До кого, да и на что!.. Эх, Мотренько!.. Мотренько!» Огнем опалило девушку – это голос гетмана… «Тату – тату! Любый…» Мазепа остолбенел на месте – раскрыл руки… Девушка всем телом упала к нему на грудь, обвилась вокруг него, шепча что-то, – и тихо, без чувств опустилась у ног оторопевшего гетмана… Он хотел вскрикнуть и не мог. Дорогое существо лежало без движения… Дрожа всем телом, старый гетман упал на колени, припал к дорогому, как-то беспорядочно брошенному наземь неподвижному телу девушки и, обхватив ее дрожащими руками, прижал к себе, как маленькую, как бывало он нашивал ее еще в свивальничках, спящую, и, целуя ее лицо, волосы, шею, понес в дом, не чувствуя не только «подагрических» и «хирагрических» болей, но даже забыв, что ему далеко за семьдесят…
Мимо двух стрельцов, которые с удивлением видели что-то несущего на руках гетмана – «не то ребенка махонького, не то собаку – темень, не видать – ста», Мазепа вошел в дом, прошел в свой кабинет и бережно опустил свою ношу на широкий турецкий диван. Но только что он хотел подложить под голову девушки подушку, чтоб не скатывалась голова, как Мотренька открыла глаза.
– Тату, тату! Я у тебе, любый мий! – и руки ее обвились вокруг шеи старого гетмана, который, стоя у дивана на коленях, плакал от счастья.
– Як же ж ты змарнила, дитятко, сонечко мое!.. Личко худеньке… очици запали… – шептал он, заглядывая ей в лицо.
– Ничого, таточку, теперь я с тобою… буде вже, буде!
– Рыбонько моя… ясочко…
В этот момент где-то тревожно ударили в колокол. Мазепа вздрогнул. Начались учащенные удары, беспорядочные, набатные. Только во время пожаров и бунтов так отчаянно кричат колокола. Что это? Не бунт ли? Не встали ли казаки и мещане на стрельцов, на самого гетмана? Недаром так косо они смотрели всегда на московских людей. А может быть, пожар…
Нет, в окна не видать зарева, а набат усиливается. И гетман и девушка тревожно смотрят друг на друга, в глазах последней испуг…
– Не лякайся, дитятко мое, я зараз узнаю, – успокаивает ее гетман.
Он хлопнул два раза в ладоши, и в дверях показался хорошенький мальчик, пахолок, одетый в польский кунтушик. Он стрункой вытянулся у дверей. Большущие серые глаза его выражали больше, чем изумление: в них был ужас… У пана гетмана ведьма, русалка, «мавка»… Но скоро глаза пахолка блеснули радостью: он узнал панночку.
– Покличь, хлопче, московского полковника Григора Анненка, – сказал гетман.
– Анненко сам тут, ясневельможный пане, – бойко отвечал пахолок.
– Тут! Чого ему?.. До мене?
– До ясневельможного пана гетмана.
– Так покличь зараз…
Мотренька между тем, незаметно выйдя в образную, упала на колени и горячо молилась.
Вошел Анненков, Григорий, начальник московского отряда, состоявшего при гетмане для охранения как особы гетмана, так и его столицы, Батурина. Анненков был мужчина уже немолодой, полный, светлорусый, с голубыми глазами навыкате.
– Что случилось в городе, господин полковник? – спросил Мазепа чисто по-русски. – Что за сполох? Пожар?
– Никак нет, ваше высокопревосходительство! Это генеральный судья звонит.
В глазах Мазепы блеснуло что-то холодное. Он понял, что там объявляли войну.
– Что ж он в звонари, что ли, записался?.. Давно бы пора!
– У него, ваша ясновельможность, дочь – девка сбежала.
– Сбежала! – нахмурился гетман. – Али она собака?.. Сбежала! – говорил он с неудовольствием.
– Ушла отай, ваша ясновельможность.
– Так он и намерен звонить всю ночь, никому спать не давать? А? – гетман сердился, правый ус его нервно подергивался.
Анненков знал Мазепу и знал, что это дурной знак. Быть буре.
– Я спосылал к нему Чечела, – сказал он скороговоркой, чтоб остановить его, – так говорит: пока-де дочь мою не найдут, буду звонить хоть до Покрова.
– А если я заставлю его звонить кандалами, да не до Покрова, а до могилы, – сказал гетман тихо, понизив голос, но в этом понижении звучало еще более угрозы.
Потом он задумался и заходил по комнате. Тусклый свет нагоревших восковых свечей в серебряных канделябрах падал по временам на какое-нибудь одно место его седой головы, то на висок, то на затылок, и казалось, что эта гладкая голова покрыта фольгой.
– Мотренько! – вдруг сказал он, подойдя к двери образной. – Выйди сюда, дочко.
Девушка вышла, бледная, заплаканная, но спокойная: она видела того, по ком тосковала… Он не болен… Анненков почтительно поклонился, не без смущения взглянул на гетмана.
– Вот где обретается дщерь генерального судьи, ее милость Мотрона Васильевна Кочубей, – сказал Мазепа, обращаясь к Анненкову. – Она у гетмана… Ее милость не сбежала и не отай ушла из дома родительского… Она пришла просить моего покровительства, и я по долгу службы и по знаемости, како крестный отец Мотроны Васильевны и гетман, принял ее под свою защиту.
Между тем набатный звон не умолкал. Видно было, что Кочубей, настроенный женою, намеревался привести в исполнение свою угрозу – звонить до Покрова. Мазепа подошел к крестнице, стоявшей у стола, и положил ей руку на плечо.
– Доню! – сказал он с нежностью в голосе. – Чуешь звон?
– Чую, тату, – едва слышно отвечала девушка.
– Се родители твои зовут тебе до себе, – продолжал гетман. Девушка молчала. Видно было только, что золотой крест, который висел у нее на груди, дрожал.
– Доню, дитятко мое! Що я маю робити с тобою? – еще с большей нежностью и грустью спросил Мазепа.
Девушка подняла на него заплаканные глаза, ресницы дрогнули, но она опять не сказала ни слова.
Мазепа подошел к Анненкову и, указывая на девушку, сказал:
– Видишь, полковник, она пришла искать суда – она, дочь генерального судьи малороссийского… Кто повинен рассудить ее с родителями?
– Никто, кроме Бога, ваше высокопревосходительство! – отвечал Анненков.
– Но Бог судит на том свете, – возразил гетман, – это Божий суд. Но ее милость ищет суда людского. Меня Бог и люди поставили судьею над малороссийским народом. Я посему повинен рассудить и ее милость Мотрону Васильевну с ее родителями. Я и рассужу их – и горе неправым.
Голос его прозвучал грозно, словно бы посылал в битву свои полки. Седая голова поднялась высоко. Но набат не унимался.
– Доню! – снова заговорил Мазепа. – Се твои родители жалуются на нас Богу – до Бога кричат мидным языком… Повинись родителям, дитятко! Вернись до дому.
– Тату! Не гонить мене!
– Доненько моя! Я не гоню тебе, я прошу тебе: повинись теперь закону. А там – я покажу им, кто я!
Затем, обращаясь к Анненкову, Мазепа сказал:
– Тебе, полковник Григорий, я поручаю с честию и с великим бережением проводить их милость Мотрону Васильевну Кочубей в дом генерального судьи, ее родителя. Скажи Кочубею мою властную и непременную волю: если с сего часу я узнаю, что он дозволит себе или жене своей сделать хотя бы то наималейшее утеснение, либо огорчение дочери своей родной, а мне духовной, то я, гетман, не токмо дщерь его силен взяти, но и жену отъяти у него не премину. Скажи это ему!
Потом он подошел к Мотреньке, поцеловал ее в голову и перекрестил.
– Се мое благословение тебе, дщерь моя любимая! Прощай, моя дочечко! Господь да пошлет тебе своего ангела хранителя, а я не оставлю тебя и не забуду… Забвенна буди десница моя!
Девушка молча поцеловала его руку и, взглянув полными слез глазами в глаза Мазепы, направилась к Анненкову. Мазепа остался среди комнаты угрюмый и безмолвный: казалось, что в этот момент он постарел несколькими годами.
Выйдя в другую комнату как-то машинально, ничего не понимая, Мотренька заметила, что у двери стоит молоденький пахолок и плачет.
– Ты об чем это, хлопчик? – спросил его Анненков.
– Панночку жалко! – и пахолок совсем расплакался.
IX
Прошло еще два года. Борьба Петра с Карлом XII принимала такой острый характер, что со дня на день следовало ожидать кризиса, и, по-видимому, рокового для России. Союзник Петра Август, король польский, был раздавлен коронованным варягом, который, казалось, пришел со своего далекого полуострова, из-за Варяжского моря, на континент, чтобы повторить в новейшей истории России и Польши роль предков своих, какими историки называют старых варягов Рюрика, Синеуса и Трувора. Верного слугу Петра и Августа, бойкого и ловкого Рейнгольда Паткуля, которого Палий часто вспоминал в Сибири, этот коронованный варяг на польской, униженной и разоренной им земле колесовал самым ужасным образом, приставив в палачи поляка, не умевшего колесовать, а потом растерзанные части его тела выставил как указательные знаки на пяти колесах по дороге из Варшавы в Москву! По этой дороге Карл гнался за Петром, убегавшим из Польши во Москву – в эту постылую Москву, не научившую в течение столетий своих солдат драться и побеждать варягов. Петр бежал в Москву затем, чтобы вывезти из нее все казенные и церковные сокровища на Белоозеро, подальше от страшного варяга, а оттуда бежать в свой новый «парадиз» и защищаться там отчаянно или пасть, но только не в Москве, а там, в Петербурге, поближе к дорогому морю.








