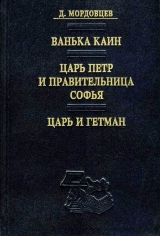
Текст книги "Царь и гетман"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
– Отряд? Тем лучше? – обрадовался неугомонный варяг. – Arma! Arma!..
– Arma virumque cano, ваше величество! – улыбаясь своими серьезными глазами, добавил Орлик.
– О! Это начало Вергилиевой «Энеиды»… Прекрасно, почтенный скриба (Карл любил цитаты из классиков, и Орлик с умыслом сослался на Вергилия)… Вы хорошо владеете языком Цезаря: я не забыл вашей латинской прелиминарной договорной статьи, присланной моему министру графу Пицеру…
Орлик поклонился. Мазепа снова угрюмо молчал, косясь на Карла. Его беспокоило привезенное Орликом известие о появлении какого-то отряда.
– Так прикажете, ваше величество, нам ближе рассмотреть, что это за отряд, – не утерпел он, – может статься, это неприятель.
– Тогда мы на него ударим, – поторопился нетерпеливый король.
– Непременно, ваше величество, только прежде узнаем его силу.
– Я никогда не считаю врагов! – заносчиво оборвал Карл.
– Но, быть может, это наши друзья, ваше величество, – вмешался старый Реншильд.
– Хорошо. Так узнайте.
Тогда Мазепа, Орлик, принц Максимилиан, Гилленкрук и белый медведь Гинтерсфельд отделились от группы и поскакали к стогу сена, черневшемуся в том направлении, куда указывал Орлик. Юный Максимилиан со слезами на глазах умолял короля позволить ему участвовать в этой неожиданной маленькой экспедиции, и Карл отпустил его. Прискакав к стогу, они увидели, что ниже, в пологой ложбине, бурлит речка, которой они издали не могли заметить, и что хотя ночью и выпал снег, а к утру подморозило, однако реченка не унималась и делала переправу на ту сторону невозможной. Речка эта, по-видимому, изливалась в верховье Сейма, по ту сторону которого лежал путь от Воронежа на Глухов, пересекая Муравский шлях.
Скоро из засады, из-за стога сена, можно было различить, что по ту сторону речки по гладкой равнине действительно пробирался небольшой отряд. Зоркий глаз Орлика тотчас же уловил то, что было нужно знать: в отряде виднелись и донские казаки с заломленными набекрень киверами и московские рейтары. Они сопровождали пару больших колымаг. Скоро этот отряд с колымагами так приблизился к реке, что из засады можно было даже различать уже лица этих неведомых проезжих. В передней колымаге сидел ветхий старик, высунувший голову и, по-видимому, глядевший на бурливую речку. Из-за его головы виднелась голова женщины.
Орлик вздрогнул даже, увидав старика.
– Та се сам сатана! – невольно вырвалось у него восклицание.
– Хто, Пилипе? – с неменьшим удивлением спросил Мазепа.
– Та сатана ж Палий!
Мазепа задрожал на седле и тотчас схватился за «дубель – тувку» – коротенькую двустволку, висевшую у него на левом плече. Взведя курок, он выехал из засады, за ним выехали и другие. Казаки, сопровождавшие колымаги, увидав засаду, осадили коней.
Мазепа ясно увидел, что из колымаги на него смотрит Палий. Как ни было велико между ними расстояние, но враги узнали друг друга.
– Га! Здоров був, Семене! – хрипло закричал Мазепа. – А ось тоби гостинец.
Дубельтувка грянула. Мазепа промахнулся.
– Га! Сто чертив тоби та пекло! – бешено захрипел он и снова выстрелил – и снова промахнулся, проклиная воздух.
На выстрелы с той стороны отвечали выстрелами, но тоже бесполезно: слишком велико было расстояние для тогдашнего плохого оружия.
На выстрелы прискакал Карл со своею свитою. Но было уже поздно: колымаги и сопровождавшие их конники скрылись за небольшим пригорком.
Мазепа молча погрозил в воздух невидимо кому…
XII
Квартируя со своим войском в Малороссии всю зиму 1708–1709 года, Карл постоянно порывался то пробраться на юг, в Запорожье, в союзе с запорожцами и крымцами пройти потом с огнем и мечом вдоль и поперек Московии, столкнув Петра, как лишнюю фигуру с шахматной доски; то, загнув в самую Азию, оттуда прошибить железным клином владения Петра и прищемить его опять к стенам Нарвы, как черного таракана; то, наконец, волком забраться в его овчарню, в корабельное гнездо – в Воронеж – и там придавить его вместе с его игрушечными кораблями. И в этих-то мечтаниях беспокойный варяг и теперь, в тот день, как мы увидели его с Мазепой, Орликом и другими, далеко отбился от своего войска с небольшим отрядом, для того, чтобы облегчить свою беспокойную душу и охолодить немного свою горячую железную башку хотя тем, что вот-де понюхал-таки он, чем это там поближе к корабельному гнезду пахнет и какая это там Сарматия. В эту-то безумную, бесполезную экскурсию свита его и натолкнулась на Палия, который, будучи возвращен Петром из ссылки с Енисея и обласканный им в Воронеже, возвращался теперь на свою дорогую Украйну, которой он уже не чаял видеть у преддверия своей могилы.
Нечаянная встреча с Палием заставила задуматься и Карла и Мазепу. Если Палий возвращен царем из ссылки, то как он очутился в этой половине Малороссии, в самой восточной? Почему он не следовал из Сибири на Москву, а оттуда на Глухов или прямо на Киев? Что заставило его проехать гораздо ниже и перерезать Муравский шлях? Одно, что оставалось для решения этих вопросов, это то, что сам царь теперь где-нибудь тут, в этой стороне, и скорее всего – что он в Воронеже. Очень может быть, что он с этой стороны намерен с весны начать наступление, и тогда надо во что бы то ни стало занять крепкую позицию на Днепре, упереться в него и сделать его базисом операционных действий. Мазепа так и действовал: он говорил, что надо укрепиться в Запорожье. «Это гнездо, из которого всегда вылетали на московскую землю черные круки, а теперь из этого гнезда вылетит сам орел», – пояснил Мазепа, называя орлом Карла. Карлу и самому нравилась эта мысль; но какая-то варяжская непосестость, жажда славы и грому подмывала его побывать и нагреметь разом везде – и в Европе, и в Азии, и, пожалуй, за пределами вселенной.
«Вот чадушко! – думал иногда Мазепа, глядя на беспокойное, дерзкое лицо Карла с огромным, далеко оголенным лбом и с высоко вздернутыми бровями, какие рисуются только у черта. – Вот чадо невиданное! И лоб-то у него, точно у моего цапа, что проклятые москали съели в Батурине. Этим лбом он бы и барася моего сшиб с ног… Вот уж истинно медный лоб!»
Далеко за полдень воротился Карл со своею свитою из описанной выше сумасбродной экскурсии. Подъезжая к своему лагерю, он заметил в нем необыкновенное движение, особенно же в лагере Мазепы, расположенном бок о бок с палатками шведских войск. Видно было, что казаки и шведские солдаты бросали в воздух шапки и шляпы, что-то громко кричали, смеялись, обнимались с какими-то всадниками, спешившимися с коней. Гул над лагерем стоял невообразимый. Лошади ржали, как бешеные, точно сговорились устроить жеребячий концерт.
– Что это такое? – с удивлением спросил Карл, осаживая коня.
– Я и сам не знаю, ваше величество, что оно означает, – с неменьшим недоумением отвечал старый гетман. – Разве пришло из Польши ваше войско – так нет: это, кажется, не шведы. Не пришло ли подкрепление от турок?
– Нет, султан что-то ломается, должно быть, Петра боится.
– Так крымцы…
– Не гоги ли и магоги пришли мне на помощь против Александра Македонского? – шутил Карл, который вечно шутил, даже тогда, когда вел тысячи своих солдат на верную смерть.
– О, нам бы и гоги и магоги пригодились, – пасмурно отшутился Мазепа.
Орлик, не дожидаясь разъяснения загадки, пришпорил коня, понесся было вперед, светя красным верхом своей шапки, но, проскакав несколько и приблизясь к группе всадников, ехавших к нему навстречу, он всплеснул руками и остановился как вкопанный: прямо на него скакал какой-то рыжеусый дьявол и широко раскрыл руки, словно птица на полете.
– Пилипе! Друже! – кричал рыжеусый дьявол.
– Костя! Се ты!
– Та я колись був, голубе.
– Братику! Голубе!
И, не слезая с коней, приятели перегнулись на седлах, обнялись и горячо поцеловались. Только кони под ними, как оказалось, не были приятелями: они заржали, одыбились и как черти грызли друг дружку.
Подскакал и Мазепа, которого подмывало нетерпение…
– Гордиенко! Батьку отамане кошовый! – закричал он радостно.
– Пане гетьмане! Батьку ясневельможный! – отвечали ему.
– Почоломкаемось, братику!
– Почоломкаемось…
И они начали целоваться, несмотря на грызню бешеных коней.
– Як? До нас с Запорогив.
– До вас, пане гетьмане, до вашои коши…
Подъехал и Карл со свитой. Мазепа тотчас же представил ему усатого дьявола, по-видимому, большого охотника целоваться хоть с казаками. Да и не удивительно: усатый дьявол был запорожец, а у них насчет бабьего тела строго… Поцеловал только бабу, либо ущипнул, либо за пазуху ненароком забрался – зараз «товариство» киями накормит, потому – закон такой на Запорожье: этакого скоромного, бабьятины, чтобы ни-ни! Ни Боже мой!
– Имею счастие представить высочайшей потенции вашего королевского величества кошевого атамана славного войска запорожского низового Константина Гордиенка, – сказал Мазепа церемонно, официальным тоном.
Гордиенко, осадив коня, сидел на седле, словно прикованный к нему, жадно вглядываясь своими маленькими узко разрезанными, как у калмыка, глазами в того, кому его представляли. Лицо Гордиенка смотрело так добродушно, и не шло к нему другое имя, как Костя: немножко вздернутый кирпатый нос изобличал какую-то детскость и веселость; загорелые круглые щеки скорее, кажется, способны были покрываться у него краской стыдливости, чем гнева; только рыжие усища, спадавшие на широкую грудь длинными жгутами, как-то мало гармонировали с этим добродушным лицом и точно говорили: по носу – добрый человек, а по усищам – у! – бедовый козарлюга! Самому чертяке хвост узлом завяжет…
Сказав первую фразу к лицу короля, Мазепа повернулся к кошевому и спросил по-украински:
– Кланяешься, батьку отамане, его величеству королю славным войском запорожским?
– Кланяюсь, – был ответ. И кошевой низко склонил голову перед Карлом.
– Dux Zaporogiae Константин Гордиенко кланяется вашему величеству славным войском запорожским! – торжественно перевел Мазепа королю поклон кошевого.
– Душевно рад! Душевно рад! – весело, с необычайным блеском в сухом взоре отвечал Карл. – А сколько у вас налицо славных рыцарей? – спросил он, обращаясь к кошевому.
Тот молчал, наивно поглядывая то на короля, то на Мазепу, то на Орлика, как бы говоря: «Вот загнул загадку, собачий сын!»
– Он, ваше величество, понимает только свою родную речь, – поспешил на выручку Мазепа.
Шум усиливался. Запорожцы, целовавшиеся со своими приятелями казаками-мазепинцами, заметив или скорее догадавшись, что это король приехал, и увидав знакомые лица Мазепы и Орлика, шумно закричали: «Бувай здоров, королю! Бувай здоров на многая лита!»
– Это они приветствуют ваше величество, – пояснил Мазепа.
Карл, у которого лицо дергалось от волнения и брови становились совсем торчмя, двинулся к запорожцам в сопровождении графа Пипера, старшего Реншильда, белоглазого Гилленкрука, медведковатого Гинтерсфельда и розового Максимилиана, обводя глазами нестройные толпы храбрых дикарей и приветствуя их движением руки.
Пришельцы действительно смотрели не то дикарями, не то чертями: все, по-видимому, на один лад, но какое разнообразие в частностях! Шапки – невообразимые, невообразимых размеров, высот, объемов и цветов и между тем это нечто вроде цветущего маком поля, что-то живое, красивое. А кунтуши каких цветов, а штанищи каких цветов, широт и долгот!.. Это что-то пестрое, болтающееся, мотающееся, развевающееся по ветру, бьющее эффектом… А шаблюки, а ратища, а самопалы, а чеботы всех цветов юхты и сафьяну!.. Только настоящая воля и полная свобода личности могли выработать такое поражающее разнообразие при кажущейся стройности и гармоничности в целом… Тут есть и оборванцы; но и оборванец чем-нибудь бросается в глаза, поражает – или усищами необыкновенными, или невиданными чеботищами, или ратищем в оглоблю, или чубом в лошадиную гриву…
Карл радовался, как ребенок. Ему казалось, что он видит настоящих Геродотовых сарматов, рожденных львицами пустыни, вскормленных львиным молоком. Что бы было, если б таких чертей увидала Швеция, Европа, – и эти черти сами пришли к нему…
– Что, старый Пипер! Что Гинтерсфельд! Вот с кем потягаться! – обращался он то к Пиперу, то к белому медведю Гинтерсфельду, то к сухоносому Реншильду.
А что касается до юного Максимилиана, так он глаз не сводил с невиданных усищ Кости Гордиенка, да с одного страшенного чуба, который казался чем-то вроде лошадиного хвоста, торчавшего из-под смушковой конусообразной шапки запорожца в желтой юбке… но это была не юбка, а штаны, на которые пошло по двенадцати аршин китайки на каждую штанину.
На радостях Карл приказал задать пир запорожцам на славу. Тут же, середи лагеря, поставили нечто вроде столов – доски на бревнах, изжарили на вертелах почти целое стадо баранов, недавно отбитое у москалей, выкатили несколько бочек вина, нанесли всевозможных ковшей, мис и чар для питья – и началось пирование тут же, на воздухе, тем более что солнце стало порядочно греть и весна брала свое.
Тут же поместился и Карл со своим штабом и со всею казацкою и запорожскою старшиною.
Обед вышел необыкновенно оживленный. Карл был весел, шутил, перекидывался остротами с графом Пипером, трунил над старым Реншильдом, заигрывал посредством латинских каламбуров с Мазепой и Орликом, которые очень удачно отвечали то стихом из Горация, то фразой из Цицерона; шпиговал своего белого медведя, который, не обращая внимания на шпильки короля, усердно налегал на вино. Даже Мазепа повеселел и когда увидел, что около одного из отдаленных столов какой-то ранний запорожец уже выплясывает, взявшись в боки, и приговаривает:
Ходе пан, ходе
И задком и передком,
Ходе пан, ходе,
Паню за хвист воде, —
развеселившийся гетман, указывая на пляшущего казака, сказал Карлу:
– Да, ваше величество, —
Nunc est bibendum,
Nunc pede libero
Pulsanda tellus…[2]2
Теперь – пируем!
Вольной ногой теперь
Ударим оземь!
(Пер. С. Шервинского)
Гораций. «Оды», 1,37,1–4. Ода написана Горацием в честь победы, одержанной в 31 г. до н. э. императором Августом при мысе Акции над объединенным флотом бывшего триумвира Антония и египетской царицы Клеопатры. Это перевод начала песни древнегреческого поэта Алкея на смерть тирана Мирсила «Пить, пить давайте…»
[Закрыть]
Пляшущий за королевским столом запорожец особенно понравился Карлу. Желая выразить в лице плясуна свое монаршее благоволение всему свободному запорожскому рыцарству, король сам наполнил венгерским огромную серебряную стопу работы Бенвенуто Челлини и приказал Гинтерсфельду поднести ее импровизированному свободному художнику в широчайших штанах на «очкуре» из конского аркана. Когда Гинтерсфельд, переваливаясь, как медведь, приблизился к плясуну, выделывавшему ногами удивительнейшие штуки, и протянул к нему руку со стопою, запорожец остановился фертом и ждал.
– Чого тоби? – спросил он вдруг, видя, что швед молчит.
– Та пий же, сучий сын! – закричали товарищи.
Запорожец взял стопу, взглянул на Гинтерсфельда веселыми, как у ребенка, глазами и, сказав «на здоровьечко, пане», опрокинул стопу в рот, словно в пропасть. Потом, полюбовавшись на стопу и лукаво пояснив «у шинок однесу», опустил ее в широчайший карман широчайших штанов, откуда у него торчала люлька и болталась китиця от кисета с тютюном, тщательно обтер рот и усы рукавом и полез целоваться со шведом…
– Почоломкаемось, братику!
– Добре! Добре, Голото! – кричали пирующие. – Ще вдарь, ще загни – нехай вин подивиться!
И Голота – это был он – «вдарил» и «загнул», снова «вдарил» – и ну «загинать» спиной, ногами, каблуками, всем казаком «загинал»!.. А Гинтерсфельд, неожиданно поцелованный запорожцем, стоял с разинутым ртом и только хлопал глазами, поглядывая на казацкие штаны, в которых громыхала королевская стопа… «Вот тебе и стопа, вот тебе и тост!» – выражало смущенное лицо шведа.
А Голота, увлекаясь собственным талантом, вошел в такой азарт, что вместо ног пустил в ход руки и, опрокинувшись торчмя вниз головой, так что чуб его стлался по земле, стал ходить и плясать на руках, выкидывая в воздухе ногами невообразимые выкрутасы и хлопая красными, донельзя загрязненными чеботами друг о дружку.
Во время этих операций из кармана штанов его посыпались наземь кремень и «кресало», люлька и кисет, моченый горох, которым он раньше лакомился, и сушеные груши. Вывалилась из кармана и королевская стопа. Гинтерсфельд, увидав ее, нагнулся было, чтобы поднять драгоценный сосуд, но Голота остановил его словами «не руш, братику» и, собрав с земли свои сокровища, снова пустился в пляс, но только уже не на руках, а на ногах.
Не утерпели и другие казаки – повскакивали с земли, расправили усы, подобрали полы, взялись в боки и ну садить своими чеботищами землю. Тут была и молодежь и седоусые старики. Тем поразительнее была картина этого необыкновенного пляса, что старики вывертывали ногами всевозможные выкрутасы молча, посапывая только, и с серьезнейшим выражением на своих смурых седоусых лицах, словно бы этот пляс составлял для них нечто вроде исполнения общественного, громадного долга и словно бы они, выкидывая своими старыми, но еще крепкими ногами трепака, должны были показать этим молодежи в вечное назидание, что вот-де так-то пляшут гопака старые люди, что так-де плясали его отцы и деды, испокон века, как и земля стоит, и что так-де следует выбивать этого гопака, «поки свит сонця».
– От так, дитки! От так треба! – приговаривали они, светя то лысыми головами, то седыми усами, «бо шапок чортма» – шапки давно на утоптанной земле валяются. – От так, хлопци! От так, дитки!
А «детки» – и не приведи Владычица! – не только не отстают от «батьков», но, конечно, за пояс их затыкают легкостью своих ног, живостью и упругостью мускулов и прочего казацкого добра.
А уж сбоку тут же на куче конских седел и прочей сбруи, сваленной копною, примостился одноглазый казачок «сиромаха» Илько, страстный музыкант и поэт в душе, на этой самой музыке и глаз потерявший, потому что раз как-то в недобрую годину он так натянул витую проволокой струну на своей бандуре, что растреклятая струнища возьми да и лопни, да и выхлестнула сиромаху Ильку левый глаз, оставив правый для стрельбы из мушкета в ляха да татарина, – примостился кривой Илько со своей бандурой, заходил по ней пальцами, заерзгал по ладам – и бандура «загула – загула»…
И около короля возрастает оживление. Молчаливый кошевой, доселе не проронивший ни единого слова, но запивший изрядно все предложенные ему Карлом кубки, уже подергивается на месте от нетерпения, а серьезный Орлик, с улыбкою глядя на своего друга Костю, нарочно подмигивает ему, что «вон-де там так настоящий праздник – по – людськи-де умеет веселиться товариство…» Увлеченный картиною общего оживления Карл уже настойчиво требует от Гилленкрука, чтоб он составил маршрут и план похода в Азию и доложил проект военному совету из шведских, украинских и запорожских военачальников.
– Помилуйте, ваше величество, ведь мы живем не во время Шехеразады, – отбивался Гилленкрук, боясь, чтобы сумасбродный король в самом деле не забрал себе в железную башку этой шальной идеи.
– А я хочу повторить Шехеразаду! – настаивает железная голова. – Я хочу, чтобы Европа прочла «тысяча вторую сказку Шехеразады».
В это время подошел смущенный Гинтерсфельд, не смея взглянуть в глаза королю.
– Что, мой богатырь? – спросил этот последний.
– Я поднес ему кубок, ваше величество, но он его в карман положил, – отвечал смущенный богатырь.
– Как в карман положил?.. Не выпивши вина? – засмеялся Карл.
– Нет, ваше величество, он вино выпил, поцеловал меня и кубок положил в карман.
– Ну и прекрасно: я ему жалую этот хороший кубок как своему союзнику, – весело сказал Карл.
Мазепа, глянув своими хитрыми глазами на ничего не понимавшего кошевого Костю, поднялся с места и, улыбаясь своею кривою и тонкою верхнею губою без участия нижней, торжественно произнес:
– Ваше королевское величество! Вы оказали величайшую милость всему запорожскому войску вашим драгоценным подарком.
– Очень рад, – отвечал Карл, – желал бы сделать им еще больший подарок.
– И этого много, ваше величество: они пропьют его всем кошем за ваше драгоценное здоровье.
– Тем больше рад… Виват, мои храбрые союзники и их доблестный полководец, кошевой Константин Гордиенко! – воскликнул он, подымая кубок.
Добродушный Костя – кошевой, услыхав свое имя, единственно понятное ему в речах короля, встал и закричал таким голосом, которого хватило бы на десять здоровенных глоток:
– Гей, казаки-братци! Панове товариство! А нуте многая лита его королевскому величеству! Многая, многая лита!
– Многая лита! Многая лита! – застонало все Запорожье, плясавшее и не плясавшее, евшее и пившее, кругом целовавшееся и спорившее без умолку.
Пир приходил к концу. Многие запорожцы были уже совсем пьяны: одни обнимались со шведами, иные дружески боролись с ними, пробуя свои силы, и то швед летал через голову ловкого запорожца, то дюжий швед сминал под себя неловкого, мешковатого казака.
Юный Максимилиан, увидав эту борьбу, бросился к ратоборцам и увлек за собою силача Гинтерсфельда. Последнего, выпившего порядком, шибко подзадорило то, что он увидел, и он пошел пробовать силу: став в боевую позицию, он показывал вид, что ищет охотника побороться, засучивая рукава. Охотник тотчас же нашелся. Наплясавшись вдоволь и увидав своего нового приятеля, топтавшегося шведа, якобы подарившего ему кубок, Голота подступил к нему с ясными признаками, что хочет с ним потягаться, т. е. поплевывая и фукая в ладони.
– А ну, братику, давай! – говорит он, расставляя ноги и протягивая вперед руки.
Гинтерсфельд понял, что его приглашают на единоборство, и немедленно облапошил противника. Началась борьба. И Голота и Гинтерсфельд, согнувшись в пахах и обхватив друг друга, стали медленно топтаться и кружить на месте, широко расставляя ноги и нагибая друг дружку то в ту, то в другую сторону. Ноги так и делают борозды по земле, все напряженнее становятся мускулы рук и затылок единоборцев, но ни тот, ни другой еще не делают последних усилий. Наконец Голота сделал отчаянное напряжение и приподнял шведа – словно отодрал от земли прикованные к ней могучие ноги богатыря, но ни перекинуть через голову, ни смять под себя не смог. Снова став ногами на землю, шведский богатырь в свою очередь сделал усилие, подогнулся немножко коленками к земле под своего неподатливого противника – и не успели казаки, обступившие борцов, мигнуть очами, как Голота перелетел через голову шведа и зацепив подборами двух-трех казаков, валялся уже недалеко за спиною ловкого варяга, трепыхая в воздухе своими красными чеботами.
– Ого-го-го! – застонали запорожцы.
– Голла! Голла! – захлопали в ладоши шведы, а более всех «маленький принц».
Честь запорожцев была затронута. Голота, приподнявшись на четвереньки, растрепанный, запачканный, красный, и, обводя вокруг себя изумленными глазами, старался подобрать высыпавшиеся у него из кармана сокровища: горох, сушеные груши, огниво и люльку.
– Задери-Хвист! Дядьку Задери-Хвист! – кричали запорожцы. – Кете, сюды, дядьку!
Из толпы выполз плечистый коренастый запорожец с короткими обрубковатыми ногами, с короткою и толстою, как у вола, шеею и с добрым ленивым лицом.
– Чого вы, вражи дити? – сонно спросил он, оглядывая товариство.
– Та он Голоту побороли… Он вин рачки лазит, горох сбирае, – пояснили «вражи дити».
Мешковатый запорожец свистнул…
– Фю-фю – фю! Овва! Хто ж се его так?
– Та он той бугай – вернигора…
Мешковатый запорожец, подойдя к Гинтерсфельду, смерил его глазами и опять свистнул.
– Ну давай! – лаконически бухнул он и отбросил шапку.
Противники молча обнялись. Можно было думать, что это немая встреча друзей, немые объятия или что это соединило их безмолвное горе. Стоят – и ни с места, только нет-нет да и пожмут друг друга. А лица все краснее становятся, слышно, как оба сопят и нежно жмут один другого в объятиях. Но вот они начинают медленно-медленно переставлять ноги и как-то всегда разом обе, боясь остаться на одной опоре. Вот уже запорожец подается, гнется… Вот-вот опять сломит шведский бугай… Пропало славное войско запорожское! Срам! Осрамил дядько Задери-Хвист всю козаччину! Это, верно, не то, что тогда, как он настоящего разъяренного бугая удержал за хвост и осадил наземь, за что и прозвали его «Задери-Хвист»… Эх, пропал дядьку… Но дядько, во мгновение ока припав на одно колено, так тряхнул шведа, что тот своим толстым животом саданулся об голову запорожца, страшно охнул и растянулся, как пласт, пятками к казакам… А запорожец уже сидел на нем верхом и, достав из-за голенища рожок с табаком, преспокойно нюхал, похваливая: «У! Добра кабака…»
Храбрый Гинтерсфельд не скоро очнулся…
Тем временем в другом месте запорожцы успели затеять с шведами уже настоящую ссору. Перепившись до безобразия, эти дети степей и раздолья, подобно Голоте, начали тащить со столов всякую посуду, и серебряную, и оловянную. Шведы хотели было остановить дикарей, замечали, что не годится так грабить, отнимали добычу. Запорожцы за сабли – и пошла писать!
– Се ваше и наше, а що ваше – те наше! – кричали низовые экономисты.
– А наше буде ваше – от що! – подтверждали другие.
– У нас усе громадське, кошове! Нема ни паньского, ни козацького.
Шведы не понимали новой экономической теории своих союзников и стояли на своем, защищая столы с посудой.
– Нам у шинок ничого дата, – поясняли некоторые, более спокойные запорожцы, но упрямые шведы и этим не внимали.
Тогда запорожцы бросились на шведов и одного тут же зарубили. Сделалась суматоха. Шведы также обнажили сабли и кинулись на зачинщиков. Началась уже свалка, скрещивалась и визжала сталь, усиливались крики. Но в этот момент прибежали кошевой, гетман и другая старшина.
– Назад! Назад! Якого вы биса! От чорты! – заревел страшный голос Кости Гордиенка.
Это был уже не тот добродушный, застенчивый Костя с детскими глазками, что сидел за королевским столом: это был зверь, которого знали запорожцы и трепетали. Они остолбенели, услыхав его рев. Сабли их так и остановились в воздухе с застывшими руками.
Пришел на шум и Карл со свитою. На земле валялся обезображенный сабельными ударами труп злополучного защитника права собственности. Несколько в стороне лежал лицом кверху массивный Гинтерсфельд, бессмысленно поводя глазами, а около него тут же на земле сидел его противник и никак не мог насыпать себе на хитро сложенные дулей пальцы понюшку табаку, насыпая все мимо да мимо.
– Что тут случилось? – спросил Карл строго. – Убийство?
– Пошалили дети, ваше величество, и вот одному досталось, – поторопился ответить Мазепа.
Карл увидел Гинтерсфельда и попятился назад.
– Это еще что! – грозно крикнул он. – Моего могучего Гинтерсфельда!.. Кто его?
– Се я его… поборов, – бормотал совсем опьяневший запорожец, силясь засунуть рожок за голенище.
– Они боролись, ваше величество, – пояснил Мазепа недоумевающему Карлу, – и вот этот пьяница поборол и зашиб вашего богатыря.
Карл ничего не отвечал. Он понял, с какими людьми столкнула его судьба.
XIII
Наступило лето 1709 года. Близилась роковая развязка для всех действующих лиц исторической драмы, избранной предметом нашего повествования.
Что делала в это время та нежная рука, которая так жестоко, хотя невольно, разбила и гордые политические мечты Мазепы, и личное его счастье, отняв у него и покойную смерть старости, и место на славном историческом кладбище его родины? Что делала и что чувствовала несчастная дочь Кочубея?
После ужасной смерти отца она вместе с матерью и другими сестрами находилась несколько времени под арестом, но потом они были освобождены.
Что пережила бедная девушка за все это время – известно только ей одной, и только необыкновенная живучесть молодости, да страшно богатый запас здоровья, которым так щедро, так по-царски наделила ее чудная, благодатная природа Украины, спасли ее от смерти, от безумия, от самоубийства в порыве тоски и отчаяния, охватывавших ее порою так, что она готова была искать забвения в могиле, в глубокой реке, в самоудавлении… Ведь она страстно любила и отца, которого сама же погубила, и мать, которая прокляла ее и не хотела видеть до смерти. Она любила и того, которого, как и отца, потеряла навеки…
Проклятая и изгнанная с глаз матери, она приютилась у матери того, которого продолжала любить и любила с новою, небывалою нежностью, любила его, далекого, потерянного для нее навсегда, одинокого и славного в ее сердце, в ее памяти и проклятого всеми, как и она проклята матерью. Там, в монастыре, у матери Мазепы, она с безумной тревогой в сердце расспрашивала, бывало, старушку об ее Ивасе, с которого та теперь в глубине своей души сняла материнское проклятие в тот день, как его начала проклинать церковь. Она постоянно, бывало, просила мать Магдалину рассказывать ей о том времени, когда курчавенький Ивась Мазепинька был маленьким, как он рос, что любил, как шалил, как учился. И старушка в долгие зимние вечера рассказывала ей о своей молодости, о жизни при дворе польских королей, о том, как у нее родился Ивась, как она его лелеяла и холила, и какой это был странный, неразгаданный мальчик. Слушая рассказы матери Мазепы, Мотренька чувствовала, что ее горе становится как будто менее острым и что тут, при этих рассказах, присутствует его душа, его мысль, его память о ней…
С наступлением весны Мотренька начала иногда посещать могилу своего отца, которого вместе с Искрой похоронили в лавре. Как часто девушка перечитывала скорбную надпись, высеченную на камне над братскою могилою ее дорого татка и милого, «жартливого» дяди Искры!.. Вот эта горькая надпись:
«Кто еси, мимо грядый, о нас неведущий,
Елицы здесь естесмо положены сущи?
Понеже нам страсть и смерть повеле молчати,
Сей камень возопиет о нас ти вещати:
И за правду и верность к монарсе нашу
Страдания и смерти испиймо чашу.
Злуданьем Мазепы всевечно правы,
Посеченны зоставше топором во главы, —
Почиваем в сем месте Матери Владычне,
Подающия всем своим рабам живот вичный».
«Року 1708, месяца июля 15 дня, посечены средь обозу войскового, за Белою Церковию, на Борщаговце и Ковшевом, благородный Василий Кочубей, судия генеральный, и Иоан Искра, полковник полтавский».
«Ах, тато, тато! – думалось Мотреньке при чтении этой эпитафии. – Зачем же злуданьем Мазепы? Разве он виноват во всем, что случилось?.. Я, проклятая, виновата. Я погубила и тебя, и Мазепу, и всю Украину… Не встать ей теперь больше никогда. А всему я, проклятая, виною… На что я родилась, кому на счастье, на утеху? Никому, никому-таки в свете!.. На одно горечко да на зло родила меня недоля – родила на недолю всем. Не родись я на свет Божий, не знал бы меня маленькою мой гетман милый, не крестил бы меня в купели на горе, не носил бы меня на руках вместе с булавою, не полюбил бы меня, проклятую гадюку… А то полюбил, и я полюбила его, душу мою в него положила… Думали и так и так, и то и это загадывали, и далеко и высоко – ох, высоко загадывали!.. А вон что вышло… Теперь и этот швед сюда пришел, и царь нагрянул, а все из-за моей недоли, все из-за меня, окаянной: не будь меня на свете, не будь этой косы гаспидской (и девушка горько улыбнулась, взяв из-за плеча свою толстую, мягкую косу и перебирая ее пальцами)… не будь этой косы, не будь меня – гетман не полюбил бы меня, не пошел бы против воли мамы и татка, а татко не пошел бы к царю… А вышло вон оно как: пропал татко, и гетману приходилось пропасть, а все из-за меня… Что ж ему оставалось делать? – Идти к Карлу, чтоб он заслонил собою Украину от царя, и он заслонил, и гетмана моего милого взял… А кто теперь верх возьмет? Возьмет царь – не станет моего гетмана, возьмет Карл – что тогда будет?.. Эх, татко, татко! Зачем ты все это сделал?.. Да это не ты, а мама: ты бы отдал меня моему гетману, так мама не схотела… „Не хочу, говорит, завязать тебе свет – отдать за старого гетмана: выходи, говорит, за молодого, за Чуйкевича“. А на что мне Чуйкевич, хоть он и молодой? На что мне был этот „козинячий лицарь“, как его все называли с той поры, как он от гетманского цапа меня спас? Что я ему? Так только – счастье мое разбил, долю мою по ветру пустил да пылью развеял. А на что ему была моя доля, моя краса девичья? Вон женился же он на Цяце нашей: значит, ему все равно было – что я, что Цяця».








