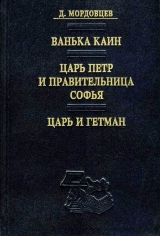
Текст книги "Царь и гетман"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
– Де не проклята! – подтвердили бабы-Потурчилась суча дочка!
А Мотренька! Вся попунцовевшая от волнения, сожаления и стыда, при последних словах лирника бросилась к матери да так и повисла у нее на шее…
– Мамо! Мамо! – лепетала девочка. – Яка ж вона негожа… яка вона, мамо!..
– Хто, доню?
– Маруся – Попивна Богуславка…
И девочка разрыдалась… Все были растроганы… Даже молчаливый Мазепа, у которого заискрились старые глаза, тихо подошел к своей крестнице и перекрестил уткнувшуюся в подол Кочубеихи черненькую головку. Мотренька с той поры никак не могла забыть ни Маруси Богуславки, ни «бидных невольников»…
V
В то время, когда началось наше повествование, крестнице Мазепы было уже шестнадцать лет. Девочка выравнялась в статную, стройную, прекрасно развитую женщину, которая казалась несколько старше своих в сущности еще детских лет. Но эта возмужалость пришла к ней вместе с ее южным горячим темпераментом, в котором сказывалась немножко восточная кровь – кровь Кочубеев, может быть хаджибеев, давно забывших свое татарское гнездо и превратившихся в коренных украинцев. Необыкновенно живая, впечатлительная, страстно стремительная Мотренька с годами становилась все сдержаннее, ровнее. Быстрые движения кошки превратились в движения плавные, полные непринужденности и грации. Только цвет волос и какой-то глубокий свет черных глаз изобличали что-то жаркое, азиатское, смягченное необыкновенною мягкостью лицевых очертаний. Но грезы детства не отлетели от нее с возмужалостью, и если она не искала цветка папоротника в шестнадцать лет, как искала раньше, то взамен этого мысль ее и живое воображение развертывали перед нею картины всего мира, среди которых не последнее место занимали далекие, никогда не виданные моря с плавающими по ним галерами турецкими… А на галерах – эти «бедные невольники»… А вдали, на азиатском берегу, на серой скале, висящей над морем, стоит девушка и ломает себе руки… Это – Маруся Богуславка…
Несколько лет Мотренька прожила в Киеве, в одном из женских монастырей, где она под надзором настоятельницы и наиболее образованных монашенок докончила свое образование, начатое дома. В монастыре ее часто навещал Мазепа, который все по-прежнему любил и баловал свою крестницу и всегда с интересом расспрашивал настоятельницу об успехах своей любимицы. И Мотренька со своей стороны все более и более привыкала к старому гетману. Она даже узнавала топот гетманского коня, когда Мазепа, особенно по праздникам, заезжал в монастырь или во время обедни, или после службы. Когда он входил в церковь, то, не оглядываясь, Мотренька, узнавала об его приближении и всегда была рада его видеть, тем более что он или привозил ей вести от отца и матери или оделял ее подружек-монастырок разными «ласощами».
Как дома, так и в монастыре Мотренька проявляла несколько большую самостоятельность характера и пытливость, чем того желали бы ее родители и воспитатели, взросшие на преданиях и на законе обычая, столь крепком в то старосветское время. Дома она ходила искать цвет папоротника, бродила одна по лесу, чтобы встретиться с «мавкою» или русалкою, но искания ее оказались напрасными. В монастыре она задалась упрямым решением – помогать выкупу «бидных невольникив» из турецкого плена. С этой целью каждую церковную службу, особенно же в большие праздники, она вместе с матерью – казначеею и другими инокинями обходила всех молящихся в церкви, таская огромную кружку с надписью: «на освобождение плененных» – и часто к концу службы кружка ее была битком набита медью, серебром и золотом… «На бидных невольников… на страдающих в пленении», – шептала она, погромыхивая звонкою кружкою, – и карбованцы сыпались в кружку черноглазой клирошанки…
Однажды Мотренька произвела в монастыре небывалый, неслыханный соблазн… Дело было таким образом. Монашенки постоянно твердили, что женщина не может входить в алтарь, что она – нечистая, что раз она вступила в святая святых, ее поражает гром… Мотренька решилась войти во святая святых, но не из шалости, а по страстному влечению того чувства, которое влекло ее ночью в лес за цветком папоротника… Три дня она постилась и молилась, чтоб очиститься, – и наконец, когда церковь была пуста, со страхом вступила в алтарь… Там она упала на пол и жарко молилась – благодарила Бога за то, что она не нечистая… В этом положении застала ее старая монастырская «мать оконома» – и остолбенела на месте… «Изыди… изыди, нечистая!.. Огнь небесный пожрет тя», – завопила старушка… Мотренька тихо поднялась с колен, приложилась к кресту, благоговейно вышла из алтаря и радостно сказала изумленной «окономе»:
– Матушка! Бог помиловав мене… Вин добрый – добриший, ниж вы казали…
Девочка была строго наказана за это, но Мазепа, которому мать игуменья пожаловалась на его крестницу, с улыбкой заметил:
– Вы кажете, матушка, що дивчини не след у олтарь ходить, що дивчина не чиста… А як вы думаете, мать святая, дяк Опанас, що по шинкам, да по вертепах, да по пропастях земных вештаеться, чище над сю дитинку Божу?
На это матушка игуменья не нашлась что отвечать.
С годами Мазепа все больше и больше привязывался к своей крестнице. Иногда ему казалось, что он был бы счастлив, если б судьба послала ему такую дочку, как Мотренька. С нею он не чувствовал бы этого холодного, замкнутого сиротства, которое особенно стало чувствительно для старика после смерти жены, более сорока лет делившей его почетное, но тягостное одиночество в мире. Мир этот казался для него монастырской кельей, острогом, из которого он управлял миллионами свободных, счастливых людей, а сам он был и несвободен, и несчастлив. Да и с кем он разделил бы свою свободу, свое счастье? Кому он нужен не как гетман, а как человек?.. На высоте своего величия он видел себя бобылем, круглым сиротой – гетманской булавой, перед которой все склонялись, но которую никто не любил. Хоть бы дети! Хоть бы какие-нибудь семейные заботы, горе, боязнь за других!.. Нет, ничего нет, кроме власти и отчуждения!..
Иногда на старика нападала страшная, смертная тоска… Для кого жить, зачем? Чего искать? Личного счастья? Но какое же у булавы личное счастье! Да и какое возможно счастье под семьдесят лет! Отрепья старые, жалкие обноски – сухое перекати-поле, зацепившееся за чужую могилу…
Хоть бы дети! Так нет детей! Никого нет! Какое проклятое одиночество! Есть дети… усатые и чубатые «дитки – козаки»…
А он – их «батько»… Но не радуют и эти «детки»… Не радует вся Украина-матка… Для нее разве жить? Ее оберегать? Но надолго ли? Кому она потом, бедная вдовица, достанется? Разве не начнут ее опять трепать и москали, и ляхи, и татары? А ей бы пора отдохнуть, успокоиться…
Вси покою щире прагнуть…
А там, по ту сторону Днепра «тогобочная Украина» тоже мутится… Семен Палий широко загадует… Палий свербит на языке поспольства, на языке всей Украины… Скоро Мазепа и на Украине останется вдовцом, бобылем.
Такое мрачное раздумье нападало на старого гетмана всякий раз, когда ему нездоровилось. К тому же из Москвы приходили тревожные вести: царь разлакомился успехами… Этою весною он уже стал пятою на берегу моря – и не сбить его оттуда… А оттуда, разохотившись, повернет опять на Дон, поближе к этим морям, да и на Днепр, да и на всю Украину…
«А ты, старый собака, чого дивишься! От вин загарба твою стару неньку, Украину – и буде вона плакать на риках вавилонских… О, старый собака!..»
Так хандрил старый гетман, взволнованно бродя по пустым покоям гетманского дворца в Батурине, в то время, когда Кочубеиха, застав свою дочь за чтением Дмитрия Ростовского, заговорила о Мазепе и о том, как он когда-то крестил Мотреньку.
– Занедужав, кажуть, дидусь, – заметила, кстати, Кочубеиха.
– Хто, мамо, занедужав? – спросила Мотренька.
– Та вин же, гетьман.
Девушку, по-видимому, встревожили слова матери. Она давно привыкла к старику, привязалась к нему – ее привлекал его светлый ум, его ласковость, а еще более – его одиночество, которое девушке казалось таким горьким, таким достойным участия.
– Що в его, мамо? – спросила она торопливо.
– Та все то ж, мабуть…
– Та що бо, мамочко?
– Певне – подагра та хирагра… Чому ж бильше бути в его! Нагуляв соби… Час и в домовину…
– Ах, мамо! Грих тоби… А вид подагры, мамо, можно вмерти?
– Як кому… Вин уже сто лит вмирае – та й доси не вмер…
Девушка ничего не отвечала – слова матери слишком возмущали ее. Но она решилась навестить больного старика, как он навещал ее в монастыре, и потому оставила без возражения то, против чего в другое время она непременно бы восстала.
После разговора с матерью Мотренька вышла «у садочек» и нарвала там лучших цветов, которые, как она знала, нравились старому гетману, особенно когда ими была убрана его крестница. Ей так хотелось утешить, развлечь бедного «дидуся», который всегда бывало говорил, что Мотренька – чаровница, которая всякую боль может снять с человека одним своим щебетанием.
Нарвав цветов, она направилась к дому гетмана через свой сад, за которым тянулись гетманские усадьбы. На дороге встретился ей отец, который шел вместе с полтавским полковником Искрою. Лицо Кочубея просияло при виде дочери. Искра тоже любовался девушкою.
– Де се ты, дочко, йдешь? Чи не на Купалу? – ласково спросил отец.
– Який сегодни, тато, Купало?
– Та як же ж! Якого добра нарвала повни руки. Хочь на Купалу.
– Та се я, тагуню, до пана гетьмана… Мама каже – вин занедужав…
– Та що ж – ты его причащать идешь?
– Ни, тату, – так… щоб вони не скучали…
– Ах ты моя ясочка добра! – говорил Кочубей, целуя голову дочери.
– Та як же ж, татуню, – мини жаль его…
– Ну, йди – йди, рыбочко… Вид твого голосу й справди полегшае…
– Бувайте здорови! – поклонилась она Искре.
– Будемо. А дайте ж и мини хочь одну квиточку, – улыбнулся Искра.
– На що вам?
– Та хочь понюхати… може й мини легше стане…
– Ну нате оцей чернобривец…
– Овва! Самый никчемный… От яка…
Девушка убежала. Она знала, что Искра как истый украинец, любивший «жарты», долго не оставил бы ее в покое; а ей теперь было не до «жарт».
У ворот гетманского двора стояло несколько «сердюков», принадлежавших к личному конвою гетмана. Это были большею частью молодые украинцы, дети наиболее «значных» малороссийских семейств, из коих Мазепа, воспитавшийся на польский лад, старался искусственно выковать нечто похожее на европейское дворянство и польское шляхетство, положительно несовместимое с глубоко демократическим духом казачества и всего украинского народа. Молодые люди, скучая бездействием, выдумали себе забаву: они свели на единоборство огромного гетманского козла с таким же великаном, гетманским бараном. И козел и баран давно жили на одном дворе и всегда враждовали друг против друга: козел считал своею территорией ту часть гетманского двора, где помещались конюшни, а баран считал себя хозяином не только около поварни, но и у самого панского крыльца, и при всякой встрече враги вступали в бой. Теперь сердюки заманили их за ворота и раздразнили того и другого. И козлу и барану они присвоили названия сообразно ходу тогдашних политических дел: козел у них изображал «москаля», а баран – «шведа».
В то время, когда на улице показалась Мотренька, бой между «москалем» и «шведом» был самый ожесточенный: козел, встав на задние ноги и потрясая белой бородой, свирепо шел на своего противника; а баран, стоя на одном месте и понурив голову, с бешенством рыл землю ногами. В то время, когда козел не успел пройти половину пространства, отделявшего его от противника, баран разом ринулся вперед – и противники страшно стукнулись лбами. Сила удара со стороны барана была такова, что козел осел на задние ноги и замотал головой.
– Крипись, москалю!
– У пень его! У пень, шведе!
– А ну ще, москалю! Не той здоров, що поборов…
Но голоса сердюков разом смолкли, когда они увидели, что рассвирепевший козел, заметив идущую по улице Мотреньку, поднялся на дыбы и направился прямо на нее… Молодые люди оцепенели от ужаса, растерялись, не зная что делать, куда броситься. Девушка также растерялась… А между тем страшное животное шло на нее… расстояние между ними с каждым мгновением ока уменьшалось.
Но в этот момент из кучки сердюков бросается кто-то вперед, в несколько скачков достигает до козла – и хватает его за заднюю ногу… Животное спотыкается, ищет нового врага, оборачивается – и в это время остальные сердюки окружают его. Тот из них, который первым столь самоотверженно бросился на разъяренное животное и остановил его, поднялся с земли при немом одобрении товарищей. Он был бледен. Глаза его смущенно смотрели в землю.
Девушка первая оправилась от испуга. Подойдя к тому, который первым бросился на ее защиту, она остановилась в нерешимости. Молодые сердюки также чувствовали себя неловко.
– Спасибо вам, – первою заговорила девушка, обращаясь к тому, который оказался находчивее прочих. – Чи вы не забились?
– Ни, Мотрона Василивна, – отвечал тот, не смея взглянуть на девушку. – Простите нас, Бога ради, – мы вас налякали…
– Як вы?.. Вы тут не винни…
– Ни… се наши играшки… Се мы, дурни, его розсердили… Тильки не кажить, будте ласкави, панови гетьманови, що вы злякались…
– Не скажу… на що казати?.. Я не маленька…
– Щире дякуемо… А то вин нас со свиту сжене…
– Ни бийтесь… А оце вам рожа – за те що вы смилый козак. И девушка подала ему розу. Молодой сердюк взял ее, повертел в руках, понюхал и воткнул за околыш шапки.
– О який лицарь! – засмеялись товарищи.
– Козинячий лицарь, – пояснил тот, кому досталась роза.
Девушка тоже засмеялась. Она не знала, что этот «козинячий лицарь» будет играть важную роль в ее жизни… Это был Чуйкевич…
Пройдя мимо часового, ходившего около крыльца гетманского дома, девушка из светлых сеней вступила в большую приемную комнату, увешанную оружием и бунчуками. На пороге встретил ее огромный датский пес, видимо обрадовавшийся гостье.
– Здоров, Цербер, – сказала Мотренька, гладя красивое и ласковое животное. – Пан дома?
Пес радостно залаял, услыхав про пана, которым он эти дни был недоволен: эти дни пан такой хмурый, сердитый, что как ни виляй перед ним хвостом – он не замечает этого собачьего усердия и ничем не поощрит его.
Из приемной девушка отворила дверь в следующую комнату и приостановилась на пороге. Это была также довольно просторная комната с стенами, украшенными картинами и портретами. Одна стена занята была стеклянным шкапом с книгами, а вдоль другой на полках блестело серебро и золото. Сайгачьи головы с рогами, кабаньи морды с огромными клыками и чучело громадного орла с распростертыми крыльями довершали украшение этой комнаты.
Остановившись на пороге, девушка увидала знакомую широкую спину и такой же знакомый польский седой затылок. Мазепа, нагнувшись над столом рассматривал лежавшую на нем ландкарту.
– Од Днипра за Случ, а там за Горынь, а там за Стырь и Буг до самого Кракова… Так-так… А от Кракова Червоною землею до Коломии, а от Коломии до самого моря… Ото усе наше… Де била сорочка та прямый комир – то наше… Ох, бисова поясница! – бормотал старый гетман, водя пальцем по карте.
– Добридень, тату… Здоровеньки були, – тихо сказала девушка.
Согбенная спина старика мгновенно выпрямилась. Он обернулся – и хмурое, усталое, угрюмо – болезненное лицо его осветилось радостной улыбкой. По серым глубоко запавшим глазам прошло что-то теплое…
– Се ты, ясочка моя… Спасибо, доненько…
У старика дрогнул голос – он остановился… Девушка быстро подошла к нему и поцеловала руку.
– Помогай – би, тату, – еще тише сказала девушка, – що вы шукаете там? (Она указала на карту.)
Старик, взяв ее за руки и грустно глядя ей в глаза, так же тихо отвечал:
– Могилы соби шукаю, доненько.
– Якои могилы, тату любый? (И у нее голос дрогнул.)
– Глыбокои, глыбокои, доненько, могилы, щоб, почиваючи в ний, моя сидая голова плачу людського не чула, щоб очи мои старии, сырою землею присыпании, не бачили бильше твоей головки чернявенькой, щоб замисть горя сумной едноты – в сердци моим черви – гробаки мишкали… Глыбокои, глыбокои могилы шукаю я, доненько моя.
В голосе старика звучала глубокая, тихая, безнадежная тоска, словно бы в самом деле он хоронил себя… Девушка чувствовала, что к горлу ее приливают слезы… Она крепко сжала старые руки.
– На що могилу!.. Не треба могилу, таточко… Не треба вмирати… Що болит у вас?
– Душа болит, доню… Прискорбна душа моя даже до смерти, – говорил старик, садясь около стола и усаживая около себя девушку. – Для чого я живу? Кому на корысть, на утиху? – продолжал он как бы сам с собою. – Ни дитей у мене, ни ближних… Ближний далече мене сташа – и аз в мире сем, точию в пустыне пространной… О! Ты не знаешь, дитятко, яке то велико горе – сиротство старости! Яки довги, страшни ночи для старика безридного!.. Оце ходишь по пустым покоям, слухаешь витру або лаю собачого, ждешь сонця… а сонце прийде – и воно не грие… Так лучче в домовину, та в могилу – щоб не бачить ничого и ничого не чути… Де мои други и искрении? – Нема их! Один Цербер друг мий и товарищ – весь добрый и вирный… Буде з мене и пса, бо я – гетьман, игемон великий народу украиньского… Та Господи ж Боже мий! Бог – Саваоф, игемон видимого и невидимого мира – и той не один, и той в тройци… А я – я один, один як собака!
Он остановился. Девушка грустно склонила голову, машинально перебирая цветы, положенные ею на стол.
– Се ты мени, доню, на могилу принесла? – тихо спросил Мазепа, дотрагиваясь до цветов.
– Бог з вами, тату! – с горечью сказала девушка и тихонько смахнула слезу, повисшую на реснице.
– Бог… Бог зо мною… истинно… А ты знаешь, дочко, что есть посещение Божие? – как-то загадочно спросил он.
– Не знаю, тату.
– Ох, тяжко Его посещение!.. Посети Бог мором и гладом… Огнем посети Бог страну – вот что есть посещение Божие… А мене посетив Бог – горькою самотою…
Острою болью по сердцу проходили эти безнадежные слова одинокого старика – эту острую боль чувствовала девушка в своем сердце, и слезы копились у нее на душе… Бедный старик!.. И власть, и богатство, и почет – все есть, а душа тоскует… Девушка не знала, что сказать, чем утешить несчастного…
– А вы б чаще до нас ходили, тату, – сказала она, не зная, что сказать.
Мазепа горько улыбнулся и опустил голову.
– До вас?.. Спасиби, моя добра дитина.
– Далиби, таточку, – ходить… А то он вы яки… могилу шукаете… Мене вам и не жаль…
И девушка вдруг расплакалась. Она припала лицом к ладоням, и слезы так и брызнули между пальцами…
Старик задрожал – эти слезы ребенка не то испугали его, не то обрадовали…
– Мотренько!.. Мотренько моя!.. Дитятко Боже… сонечко мое весиннее… рыбочко моя, – бормотал он, сжимая и целуя черненькую головку. – Не плачь, моя ясочко, ластивочко моя! Я не вмру, я не хочу вмирати… Я буду довго, довго жити… Подивись на оцю бумагу (и он поворачивал плачущую голову девушки к лежащей на столе ландкарте), подивись оченятами твоими ясненькими… Я не могилу шукав соби – ни! Я миряв нашу Украину – неньку… Он яка вона! Дивись вона разляглася – од Сейму до Карпатив и от Дону до самой Вислы… Оце все наше буде, доненько моя, – все твое буде… Ты хочешь, щоб воно все твое було? – спросил он, загадочно улыбаясь.
– Як мое, тату? (Девушка отняла руки от заплаканного лица и глядела на старика изумленными глазами.)
– Твое, доненько… Оце все твое буде: и Батурин, и Киев, и Черкасы, и Луцк, и Умань, и Львив, и Коломия, и вся Червона Русь, и Прилуки, и Полтава – все твое, як оця твоя запасочка червоненька, як оци твои корали на шийци биленькии… Тоби жалко мене, дочечко моя?
– Жалко, тату.
– И твои очинята карии плакатимут на моий могильци?
– Тату, тату!
Девушка опять заплакала. Мазепа опять начал утешать ее.
– Ну, годи – годи, серденько мое, не плачь… Я не буду… Подумаем лучче, що маем робити… Мы ще поживемо… Коли ты хочешь, щоб я жив – я буду жити.
– Хочу, таточко.
– И ты будешь до мене старого ходыти, як теперь прийшла, рыбочко?
– Буду… хочь кожен день…
– И ты не скучатимешь с старым собакою?
– Ну, яки бо вы, тату!
– Так не скучатимешь?
– Не скучатиму… я таки буду жити з вами…
Опять загадочным светом блеснули старые, помолодевшие глаза гетмана.
– А твои – батько и мати? – нерешительно спросил он.
– Тато – ничего… вин добрый… А мати – може й вони ничого…
– А сама ты хочешь до мене?
– Та хочу ж бо! Яки вы!..
Мазепа задумался. Он хотел еще что-то спросить, но не решился.
– Так будемо жити, – сказал он после непродолжительного молчания. – Ты мени даси и здоровье, и молодии годы… А я вже думав кинчати мою писеньку… А писня моя тильки ще заводиться…
Куда девалась и подагра и хирагра! Мазепа бодро заходил по комнате. Седая голова его гордо поднялась, и просветлевшие глаза глядели куда-то вдаль…
– Чи чить, чи лишки?.. Чи Петро, чи Карло, – бормотал он, нетерпеливо встряхивая головою, словно бы на нее садилась докучливая муха. – О, Семене – Семене Палию… мы ще не мирялись с тобою… Помиряемось… чи чить, чи лишка… О, мое сонечко весиннее!..
VI
Семен Палий… Почему Мазепа вспомнил о нем при воспоминании о Петре и Карле? И почему он желал бы с ним померяться?
Эти вопросы очень беспокойно занимали Мотреньку после ее свидания с Мазепой, да и многие другие мысли наводнили ее впечатлительную головку после разговора с старым гетманом, разговора, подобного которому она еще ни разу не вела в жизни ни с Мазепой, ни с кем-либо другим. И что сталось с гетманом? То он ищет могилы, говорит, что «встосковался» на этом свете не глядел бы на мир Божий в своем одиночестве, то обещает ей, Мотреньке, всю Украину, как вот эту червонную плахту… И отчего ей не жить с ним, чтоб он не скучал? У него нет детей, никого на свете, не так, как у них, у Кочубеев, – и братья, и сестры, и родичи… А он – один, бедненький, как былиночка в поле… Но что ему сделал Палий! И зачем они все четверо сошлись – Мазепа, Палий, Петр – царь и Карл – король! Надо бы расспросить кого-нибудь! Но кого?.. Маму, хиба? Так мама ни Палия, ни Мазепы не любить… А хиба, татка? – Татко добрый. Так татко смиячиметься… «Пиди, скаже, в цяцю пограйся…» От кого спытаю: старую няню – вона все знае…
Так думала Мотренька, ворочаясь с боку на бок в жаркой постели… А тут еще этот «соловейко» не дает спать – щебечет тебе под самым окном всю ночь, точно ему сорокоуст заказали: щебечи да щебечи от зари до зари…
Да и ночь как на беду жаркая, тихая, душная – лист на дереве не шелохнет, воздух куда-то пропал, нечем дышать человеку… Вместо воздуху в окна спальни пышет душный запах цветущей липы – точно и она задыхается… А этот «соловейко» так и надрывается, так и стучит, кажется, под самое сердце…
«А той сердючок молоденький, що цапа за ногу пиймав… Який чудний… Козинячий лицарь… И яки в его очи чудни… А ну буду думати про цапа, может й засну… Цап-цап – у цапа роги, у цапа борода, мов у москаля… Цап… цап… Мазепа… Палий… Петро… Петро… Карло… А те молоденьке москальча, що весною плакало у садочку?.. Царський, бач, денщик – Павлуша Ягужинский, а плаче, мов дивчинка… А що се соловейко все одно спивае?.. А може, й ранок близько… Подивлюсь у викно…»
И Мотренька осторожно сползла с кровати, чтобы пробраться к окну, выходившему в сад. Она была в одной сорочке, босиком и с распущенной косой, потому что не любила спать ни в чепчике, ни с заплетенною косой… А теперь же так жарко!.. Вот она идет к окну, а в окна кто-то смотрит… Ох!.. Да это белые цветы липы – это они так пахнут…
– Оце вже! Чи не коров доити? – послышался вдруг голос из угла спальной.
– Ах, няня! Як ты мене злякала! (Это была старуха нянька, Устя, спавшая у панночки на полу.)
– Де злякати! Сама злякалась… Думала, видьма йде – розхристана, простоволоса…
– Мени, няню, жарко – не спится…
– Може, блошки кусают?
– Ни, няню, – блох нема… А так жарко… Я все думаю про Палия…
– От тоби на! Чи тебе не зглажено часом?
– Ни, няню… А ты бачила Палия?
– Бачила, панночко… Що се вин тоби, дитятко, приснився?
– Не приснився, няню, а я так думала… Який вин, няню?
– Та старый, дуже старый… Такий старый, як ота тополя у перелазу… От, сказать бы, я стара: ще коли жив був старый Хмильницький и мене замиж оддавали, так и тоди Палий був уже старый-старый, аж сивый… От уже я семый десяток по земли вештаюсь, симсот, може, раз на мене смерть косою замахувалась, симсот, може, молоденьких дубкив, що мини на домовину росли, посохло й позрубовано, а я все, мов бовкун – зилля, бовванию на свити, – а Палий Семен так и передо мною такий ветхий, як я перед тобою, моя зелененька ягидко…
– А який, вин, няню, из себе?
– Великий та понурый, а очи – оттаки, а вусы – сиви та довги, мов рогачи…
И старуха, сидя на полу, показывала, какие огромные глаза у Палия и какие длинные усы.
– Що ж вин робе, няню?
– Татар, та ляхив, та жидив бье. Ему так вид Бога наказано…
– А сам вин добрый?
– Такий добрый, рыбко моя, такий добрый, що и сказати неможно… Бо вин од святой золы уродивсь…
– Як од святой золы, няню?
– Так – од золы… В его й батька не було – тильки мати…
– Як же ж се, няньцю, я не розумию.
– А от як, рыбко моя… Оце був соби чоловик та жинка, а в их дочка Оленка. От и поихав той чоловик у поле орати. Оре та й оре – коли хрусь! – щось хруснуло пид плугом у земли… Дивиться чоловик – аж то голова чоловича, та така велика голова, мов казан… От и дума той чоловик: «Се мабуть великого лицаря голова, такого лицаря, що вже давно перевелись…» От вин и взяв ту голову – дума: «Нехай батюшка пип над нею молитву прочитав, та помьяне, та водою свяченою скропить, та по-християнськи поховае…» Приихав до дому той чоловик и голову с собою привиз та й положив ии на лаву, а сам сив вечеряти… Повечеряв – а голова все лежит на лави. А жинка, глядючи на голову, и каже: «Мабуть, голова ця на своим вику богато хлиба переила». А голова й каже: «Буде вона ще исти…»
– Ох, няню! Се мертва голова сказала? – с испугом спросила Мотренька, поглядывая на окно.
– Та мертва ж, рыбко.
– Ох, як страшно!
– Чого страшно, рыбко? Се од Бога.
– Ну, няню?
– Ну голова й каже: «Буду я ище исти…» От жинка та як злякаеться, та у пич ту голову й кинула… И стала та мертва голова билою золою… Выгрибли золу у горщик – поставили на лави, щоб москалям на поташ продати… А дочка того чоловика, що найшов голову, не знала, що то зола – думала, що силь, та й посолила соби кусочок хлиба – так маленький шматочок – и ззила… Та важкою ото и стала…
– Важкою, няню? Як се б то?
– Важкою, рыбко… Ты сего не знаешь ще… Бог ий сына дав… од золы…
– Ну, няню, – се казка…
– Яка казка!
– Та казка ж, няньцю…
– А Палий казка?
– Ни, няню, – Палий не казка.
– Так то, бач, рыбонько, и був сам Семен Палий – от золы родився… Тоди вин ще не був Палий, а просто Семеник Гурченко, бо его мати була Гурченкова… Той чоловик, що найшов мертву голову, був Гурко.
– Який Гурко? Що в Борзни?
– Та вин же ж борзеньский, рыбко… Ото Гурки в Борзни – то его родичи по матери та по дидови, а сам вин од золи родився, вид попилу… Ему б, бач, треба було бути Золенком, або Попилченком, а вин сам себе зробив Палием…
– Як же ж се, няню?
– А от як, рыбко… Як той Семеник, що вид попилу родився, став парубком, от и захтив козакувати: «Пиду, каже, мамо, та пиду в Запороги». От и пишов. Йде – йде, дивится – Запороги стоят, горы страшенни. А на горах тих запорозци стоять та й дивлятся – смиются: як-то вин, молоденький хлопчик, на гору страшенну злизе… Бо посередини гори, рыбко, на великому камини сидит – не к ночи будь сказано – сидит сам… – Старуха остановилась.
– Хто сам, няню?
– Та чорный, рыбко.
– Який чорный?
– Та нечистый, сказать бы, – чортяка…
– Ну? Се впьять казка, няню…
– Ни, не казка, рыбко… От сидит та козинячими нижками тупотить та рогами в гору бье…
Мотреньке вспоминается козел, который сегодня шел на нее, потрясая бородой и рогами, и ей стало смешно…
– Так у его, няню, роги, як у цапа?
– Як у цапа, рыбко… От вин сидит, та нижками тупотить, та рогами в гору бье… А Семеник як стрелит из мушкета, як загуркотит по горах, – дивляться козаки, аж там, де сидив нечистый, одно поломья паше та смола пекельна – кипит… Се бач, Семеник чорта убив – спалив его. От запорозьци й кажуть: «Оце так козак! Оце так Палий – самого чорта спалив». А кошовый и каже: «Ну, брате, буде же ты Палием, та йди на Вкраину, та пали от так усяку нехрист, як ты дидька лисого спалив». И с того часу став вин Палием.
– Ах яка бо ты, няньцю, – возразила Мотренька, – та се ж не про Палия разсказуют, а про святого Юрия, як вин чорта спалив.
– Эге, рыбко, то таки святый Юрко, а се – Палий… От и пишов Палий за Днипр на Вкраину. Иде та й иде. Як оце побаче татарина, так зараз из мушкета – лусь! – и вбив татарина. А як побаче ляха, то зараз шаблюкою – брязь! – и стяв головку у ляшка. А як побачит жидовина, то зараз на аркане его, та на осину и повисит, як собаку… Так од самого Запорожжа до Вкраины и проложив великий шлях: зараз знати, де йшов Палий – оце тут татарин застреленный валяеться у степу, а тут лях порубаный лежить, а тут жидовин повишеный висит – так и знати Палиеву дорогу… А сам вин – Мати Божа! – такий, що его ни куля не бере, ни шабля не вруба, мов зализо. А оце як начнуть козаки с татарами або з ляхами битись, то Палий сам гарматы заряжае навхресть – и бье за двадцать верст, а чужи гармати до его не достают. А кинь у его такий, що ледве земля его держить, а на простого коня вин только руку положит, так той кинь на землю пада. А шабля в его в пьять пуд-таки важка. Як оце який козак провинится, то Палий и дае ему свою шаблю нести, так той бидный аж стогне – не пидниме нести, а други козаки за его смиются… Оттакий-то, рыбко, той Палий…
А «рыбка» между тем, слушая болтовню старушки, спала крепким сном. Упав горячей головой на руки, положенные на подоконник, она долго прислушивалась к щелканью соловья и к монотонному говору старой няни; перед нею проходили, словно в тумане, образы Палия и Мазепы, которые сливались как бы в одно лицо, и только у Мазепы старые глаза искрились слезою – и Мотреньке стало его жалко-жалко… То выступал этот молоденький белокурый сердючок с пышною розою на шапке, то шел на нее никогда не виданный ею москаль Петр в виде огромного «цапа»… И сон неслышно подкрался к ней под щелканье соловья, так что когда няня подошла к ней, то увидала только белую спину, до половины прикрытую белою сорочкой, да черные косы, густыми прядями лежавшие на подоконнике… В окно уже заглядывала заря чудного, просыпающегося утра…
– А воно вже й спит… От дурна дитина! – тихо бормотала старуха, качая головой. – От дурне! Як же ж я его теперь положу на лижко – вже мени его не пидняти на руки: славу Богу – выросло… Он яке, спасибо Богови, выгодавалось: здоровеньке та повнотиле та кругленке, мов яблучко червоне, и не вщипнешь его… А де ж его подняти! Мене, стару, переросло… О-о-хо – хо!.. А чи давно ж его на руках носила, кашкою, мов горобчика, годувала?.. Молоде росте, як твой мак цвите, та як мак и опадае: сонечко пригрие, витрец повие – весь цвит розвие… Поки дитина, поти й горя не знае, писни спивае та в косу стрички заплитае… Спи-спи, дитятко, поки косою свитешь, горенька не знаешь… А прийде час – и его пизнаешь…








