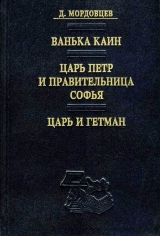
Текст книги "Царь и гетман"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
– Иван Самуйлович! Что с тобою приключилося? Ты живый еще, дяковати Бога! – говорил Палий, протягивая руки. – Обнимемся, друже.
Странный старик продолжал сидеть, держа чекмарь в правой руке.
– Обнимемося, обнимемося, Семене, – сказал он, наконец, спокойным голосом. – Подержи булаву! – обратился он повелительно к часовому, протягивая чекмарь: – Се есть клейнот войсковый.
Часовой повиновался, изумленно поглядывая то на воеводского товарища, то на косого подьячего.
– Теперь обними мене, Семене… Ты давно с Запорогов?.. Что мои козаки?.. Повертаются из Крыму? Где обретается ныне с войском московским боярин князь Василий Васильевич Голицын?.. Какие указы, слышно, получены от великих государей Иоанна и Петра Алексеевичей и правительницы царевны Софии Алексеевны? – спрашивал странный старик, обняв Палия и вновь принимая чекмарь из рук часового.
Палий понял, что пред ним только тень его школьного товарища и друга, впоследствии славного гетмана Ивана Самойловича, – тень, живущая памятью прошлого, слепая и глухая ко всему, что теперь ее окружало… Счастливое безумие! Завидно несчастному это безумие – безумие, когда память и потерянный рассудок застыли на картинах счастливого прошлого, на воспоминаниях золотой поры молодости и с ней – могущества и славы… И в уме Палия горько прозвучали слова, за несколько часов до этого прочитанные ему женой в рукописной тетрадке «летописцев козацких», в которых говорится о превратностях судьбы бывшего гетмана Самойловича: «И за тую гордость и пыху скаран от Господа зостал, же перше от чести великой отдален и як який злочинца з бесчестием на Москву голо проважен, а напотом маетности и скарбы, которые многие были, усе отобрано, в которых место великое убожество осталося, вместо роскоши – срогая неволя, вместо карет дорогих и возников – простой возок, тележка московская с поводником, вместо слуг нарядных – сторожа стрельцов, вместо музыки позитивов – плач щоденный и нарекания на свое глупство пыхи, вместо усех роскошей панских – вечная неволя…»
Палий заплакал. Чужое горе, и притом такое, было для него жесточе его собственного.
Он не знал, что отвечать на эти вопросы своего безумного друга, и молчал, не отнимая от глаз «хусточки», которую подала ему жена.
– Так ты, полковник Семен Иванович Палий, признаешь сего человека, – спросил воеводский товарищ, подходя к плачущему старику и кладя ему на плечо свою жирную с сердоликовым в алтын величиною на указательном пальце и красную руку.
Палий отнял от глаз платок и, казалось, не понимал, что ему говорили. Глаза были заплаканы.
– Признаешь сего человека? – повторил воеводский товарищ, показывая головою на странного старика.
– Признаю, боярин, – тихо отвечал Палий.
– Кто ж он таков есть имянем и знанием?
– Бывый малороссийский гетман Иоанн Самуйлович.
– Как бывый, Семене! – перебил безумец. – Божою милостию Иоанн Самуйлович, Малороссии обеих стран Днепра и Запорогов великий гетман.
– Гетман, точно великий гетман, – повторил Палий, горестно качая головой.
– Он был сослан в Сибирь? – продолжал воеводский товарищ.
– Сюда, в Сибирь, а в какой город оной – то мне неведомо, боярин.
– А давно ли то было?
– Давно… о вельми давно… Я тогда был еще в Запорогах.
– То было року тысяща шестьсот восемьдесят седьмого, – добавила Палииха.
– О! Девятый – на – десять год уже – давно, – говорил воеводский товарищ, качая головой. – Но неведомо, как он попал сюда.
Потом, обращаясь к самому Самойловичу, он спросил:
– Господин гетман, в каком городе находился ты в ссылке?
– Как в ссылке! Кто меня ссылал! – отвечал тот гордо. – Меня еще недавно государыня царевна София Алексиевна грамотою похваляла.
– А где ты был теперь? – продолжал воеводский товарищ.
– Мы с боярином князь Василием Васильевичем Голицыным в Крым ходили.
– А ныне где твоя милость обретается?
– Ныне… ныне я не знаю… Вчера мы у Великому Лузи были, и я сына Грицька выслал на той бок Днепра до Сечи з войском, – бормотал несчастный, силясь что-то припомнить, – вероятно то, что произошло после этого рокового «вчера» – и не мог, на этом роковом дне обрывалась нитка его памяти и его рассудка.
Только Палий и его жена знали события этого рокового дня, следовавшего за роковым «вчера». Несколько часов назад еще, сегодня же, Палий, грустно качая головой, слушал, как пани-матка через свои огромные очки нараспев читала «летописца козацкого».
«И як прийшло войско малороссийское на Кичету, и там старшина козацкая – обозный, асаул и писарь войсковый Иван Мазепа и иные преложеные, – видячи непорядок гетманский у войску и кривды козацкия, же великие драчи и утеснения арендами, написали челобитную до их царских величеств, выписавши усе кривды свои и людские и зневагу, якую мели от сынов гетманских, которых он постановлял полковниками, и подали боярину Василию Василиевичу Голицыну, просячи позволения переменити гетмана Ивана Самуйловича, которую зараз принявши, боярин скорым гонцом послал на Москву до их царских величеств. На которую челобитную прийшел указ от их царских величеств и войско застал на Коломаце, где боярин ознаймил старшине козацкой и нарадившися з собою, оточили сторожею доброю гетмана на ночь; а на светанню прийшовши старшина козацкая до церкви, и узяли гетмана з бесчестием, ударивши, и отдали Москве. И зараз сторожа московская, усадивши его на простые колеса московские, а сына гетманского Якова на коницю худую охляп, без седла, и проводили до московского табору, до боярина, и там узяли за сторожу крепкую… И так того часу скончалося гетманство Ивана Самуйловича, поповича, и сынов его, который на уряде гетманства роков пятнадцать зоставал и месяц…»
– Видишь сам, боярин, в каком он несчастном состоянии ума? – тихо спросил Палий, показывая на Самойловича.
– Вижу, полковник, вижу – не в своем уме.
– Что ж вы с ним учините?
– Сам не знаю… Отпишу обо всем на Москву – буду ждать указу.
– Так, так… А как он попал сюда?
– Найден бекетами и доставлен в Енисейск.
– А далеко найден и как?
– Верст за сто, а то и более будет… Сказывал бекетным, что заблудился якобы у Запорожья и ищет свое войско…
Палий грустно покачал головой. А Самойлович, задумчиво вертя в руках чекмарь – воображаемую гетманскую булаву, бормотал про себя:
– Одна надия у меня на писаря, на Мазепу… разумна и правдива голова… Мы с ним у шоры уберем прокляту Москву…
– А поки до указу, боярин, отдай его мне на поруки, – по-прежнему тихо сказал Палий.
– Вин, небога, може, давно голодный, – пояснила Палииха.
– Так, так, – соглашался боярин, – по человечеству жаль его.
– Коли не жаль! Подивиться на его…
А несчастный продолжал бормотать, витая своим безумием в прошлом:
– Мазепа и сынов моих добру и письму научил… Мазепа и се и те… О! Голова Соломоновой мудрости!..
– Так вы его одпустите до нас, господин боярин? – не отставала пани-матка.
– Отпущаю, матушка, отпущаю: поберегите его…
– Мы доглядимо, никуды не пустимо.
– Да и куда ему, матушка, отсель уйтить! Сторонка не близкая…
– Так, де вже ему уходить! Хиба в домовину…
– Ну, матушка, до домовины ему далеко – поди тысяч шесть верст будет.
Пани-матка улыбнулась.
– Домовина – се гроб по-нашему, – сказала она.
– А! – удивился боярин. – Вот язык чудной! Гроб у них домовина… Да оно и вправду, матушка, – гроб есть наша вечная домовина…
Самойловича увели наконец, прибегнув к маленькому обману. Палий показал вид, что перед ним настоящий гетман и постоянно обращался к нему со словами: «пане гетьмане», «ясневельможный», «батьку козацький» и т. п. Он поддерживал в нем его тихое, спокойное заблуждение, что они теперь находятся в Украине, на Днепре, недалеко от Запорожской Сечи, а именно на хуторе у Палия. На Енисей безумец смотрел как на Днепр…
– А, Днипро батьку, здоров був! – приветствовал он голубую, широкую ленту воды при виде Енисея, когда подходил к невольному жилью Палия. – Ото добре будет, как поплывут тут чайки козацкие да в море выйдут! Они там будут Царьград мушкетным дымом окуривать, а мы тут у Крыму орде чосу задамо.
– Задамо, задамо, – подтверждал Палий, грустно опуская седую голову.
Они вошли в избу.
– Вот и куринь мой, пане гетьмане, – говорил Палий.
– Добрый, добрый куринь, – бормотал безумец. Ему представили Симашка и Охрима.
– А Мазепа где? – спохватился безумный.
Палий смешался было – вопрос застал его врасплох. Но пани-матка выручила своей находчивостью.
– Мазепа универсалы пише, пане гетьмане, – сказала она.
– А! Универсалы… добре, добре… У Мазепы перо соловьиное… у… мастер писать, собачий сын!.. На тот час, как мы с Дорошенком на перах войну вели, Мазепа золото был для мене: такого, було, спотыкача у листу надряна, що у Дорошенка, було, аж шкура заболит… «Ознаймучи», було, вверне, да «здирства вшеляки», да латинською речию, мов перцем, пересыплет – так у вражого сына Дорошенка од такого листа аж очи рогом… Золото, а не писарь Мазепа…
Палий заметил, что в памяти несчастного прошлое сохранилось нетронутым и представлялось в последовательном и логическом порядке; в картинах прошлого воскресал и потерянный рассудок его, сказывалась и ясность представлений; но в настоящем был хаос и полное забвение всего, что происходило уже за пределами этого светлого круга. Старики вспомнили даже, как они юношами учились в киевской коллегии и как несмотря на дружбу, на глубокую, можно сказать, взаимную привязанность, они были непримиримыми врагами там, где дело касалось первенства: и тот и другой хотел быть первым в коллегии и потом на всей Украине. Будучи оба одарены богатыми способностями, они быстро усваивали все, что касалось знания, обогащения памяти научными сведениями, – и вечно воевали из-за первого места в классе.
– Цесарь, Цесарь, собачий сын, этот Мазепа, – бормотал Самойлович, который в ссылке, по-видимому, совсем усвоил великорусскую речь и все на нее сбивался: – Настоящий Цесарь – veni, vidi, vici…
– А помнишь, друже, как мы с тобою в коллегии хотели оба бути цесарями – наводил Палий на прошлое.
– Как не помнишь!.. «Лучше быть первым на Украине, чем вторым за партою в коллегии» – это ты ж выгадал, – задумчиво улыбался Самойлович, не расставаясь со своим чекмарем.
– Я, я… Только не удалось мне быть первым на Украине, – продолжал Палий, тоже впадая в русскую речь. – А вот ты был первым…
– Как был! Я и поднесь первым остаюсь: Дорошенка отправил туда, где козам рога правят.
Палий спохватился, поняв свою ошибку.
– Так, так, точно, первый ты на Украине, пане гетьмане…
– Ты… признайся теперь, Семене, с досады на меня и на тот бок Днепра ушел? А? – лукаво допрашивал безумец. – Не осилив Иоанна Самуйловича?..
– Правда, правда – по зависти ушел…
– И скучна, пустынна должна быть оная «руина»? А?
– Была пустынна, теперь там рай земный, страна обетованная, текущая медом и млеком… Там бы и умереть…
И у Палия защемило сердце от одного воспоминания об отнятом у него крае – о новом царстве Украинском… Хвастов, Паволочь, Погребищи, Белая Церковь – эта «новая Троя», как ее назвал Рейнгольд Паткуль, – все это, как пестрая лента, протянулось в памяти старика и выдавило слезы из глаз.
– А вот что, Семене, – снова начал безумец, – мы с тобою отвоюем эту правобережную Украину у ляхов, а потом (безумец огляделся по сторонам – не подслушал бы его кто) отложимся от проклятой Москвы, поставим новое царство Украинское: я буду царем сегобочного царства Украинского, ты же, Семене, царем тогобочным, как бывало в коллегии за партою: и я и ты первый… И будет у нас два царства, како две Иудеи, либо царство Римское и Византийское… А Москва нам не помеха: она ныне сама с собою не справится… Да и у нее на сей час два царика, два младенца – Иоанн да Петр, коими баба, дивчина, заправляет аки мамка…
Слушая безумца, Палий горестно улыбался: пусть-де утешается перед смертью несчастный, у которого горе вычеркнуло из жизни и из памяти двадцать лет страданий, двадцать долгих лет, в продолжение коих у Палия и у Самойловича успели пожелтеть сивые бороды, а из младенца Петра вырос великан, который топчет своими победоносными ногами не только сегобочную и тогобочную Украину, но и все балтийское и варяжское побережье с Карелиею и Ингерманландиею… Куда безумным старцам тягаться с этим великаном, у которого и силы и замыслы непомерны, как его рост.
Пани-матка между тем и добрый Охрим хлопотали по хозяйству, чтобы успокоить и накормить дорогого гостя, безумного гетмана своего. С него сняли лохмотья и дали ему чистую сорочку и иную одежу, взятую у Семашка, так как платье тщедушного и маленького телом, хотя могучего духом Палия было не по плечу коренастому, хотя тоже теперь сгорбленному и пригнутому к земле, некогда гордому вельможному гетману. Семашко притащил живой рыбы на обед – достал у рыбаков на Енисее. А безумец все не расставался со своим чекмарем – булавою даже тогда, когда Палий переодевал его… Украдет… украдет этот собачий сын, Петрушка Дорошонок, как его покойный царь Алексей Михайлович в грамоте облаял – хочется ему моей булавы, – пояснял несчастный.
Увидав на столе неприбранную по нечаянности тетрадку «летописцев козацких», Самойлович взял ее и, щурясь старческими своими близорукими глазами, начал перелистывать.
– А, «летописец козацкий» … Того ж року… того же року зима велика была, – шептал он, перелистывая тетрадку. – А! Вот и обо мне пишут – гетман Иван Самуйлович… Так, так… «Того же року тысяща шестьсот семьдесят восьмого»… А! Давно сие было – десять лет назад… Ну, ну, почитаем: «Того ж року, июля 10–го, войска великие подступили турецкие с визирем Мустафою под Чигирин с тяжарами великими…» Так, так… это об Чигиринском походе, когда проклятый Дорошенко турок на Украину призвал… Ну «а войско его царского величества с князем Ромодановским и гетманом Иваном Самуйловичем переправилося того часу через Днепр, нижей Бужина, на поля чигиринския…» О… помню, помню: трудное то было время – немало полегло в поле козаков… А все проклятый Дорошенко, да и Юрасько Хмельницкий там был…
Перелистывая тетрадку, он прищурился к одной страничке и задумался.
– Об ком бы сие писано было, о каком гетмане? – удивлялся он.
– Что такое, пане гетьмане? – тревожно спросил Палий, догадываясь с ужасом, что безумец наткнулся на ту именно роковую страницу, где описывалось его собственное, Самойловича, падение. – Что там писано? Да будет тебе, пане гетьмане, читать – поговорим лучше.
И Палий хотел как-нибудь тихонько стащить эту злосчастную тетрадку.
– Нет, постой, постой, Семене, – не давал безумец, – о ком бы сие писание?.. «И оточили сторожею доброю гетмана на ночь (читал он, водя пальцем по строкам), а на светанню, прийшовши старшина козацкая до церкви, и узяли гетмана з бесчестием, ударивши, и отдали Москве. И зараз сторожа московская, усадивши его на простые колеса московские, а сына гетманского Якова на коницю худую охляп, без седла, и проводили до московского табору»…
Несчастный остановился и смотрел на Палия безумными глазами. Он, казалось, хотел что-то припомнить – и не мог… Вот-вот, кажется, что-то припоминает… Ночь такая жаркая… Слышатся окрики часовых… А там утром шум на площади, крики: «Давай гетмана, сучого сына! Киями его, злодея!» Лошадь… кого-то тащут… кто-то бьет в ухо: кажется, это его бьют, гетмана Ивана Самуйловича… Нет – это сон!.. И тележка московская – сон…
Несчастный мучительно силится припомнить что-то – и мозг его не слушается, память отлетела… Какие-то осколки в памяти – жаркая ночь и крики – только… Что ж после было, утром? Кого везли на тележке?.. Кого били по уху и по щеке? Его, Божою милостию гетмана Иоанна, – нет, не может быть!.. А, кажется, били… щека и теперь как будто горит…
– А красная у меня, Семене, левая щека? – дико глядя на Палия, спрашивает несчастный…
– Нету, пане гетьмане, не красная, – дрожа всем телом, отвечает Палий.
– То-то… а горит… это я сегодня во сне видел, что меня кто-то в щеку ударил… на московской тележке везли меня… Вот какой сон!
– Всякие сны бывают, пане гетьмане.
– Да, да… а горит щека…
В это время в избу вошла пани-матка, вся раскрасневшаяся, с засученными за локти рукавами шитой сорочки. Она «поралась» в кухне, готовила обед дорогому гостю, ясневельможному гетману обеих половин Украины.
– А я вже и обидати наварила, пане гетьмане! – весело сказала она. – Зараз буду дорогого гостя частвувати чим Бог послав у московський неволи…
Палий строго взглянул на жену, и она, спохватившись, прикусила свой говорливый, бойкий язык. Она тотчас же собрала на столе все, что на нем лежало, в том числе и предательского «летописца козацкого».
Несчастный гетман, впрочем, услыхав слово «обидати», забыл опять все – и прошедшее и настоящее: он ощутил только одно чувство теперь – это мучительное чисто животное чувство голода, который томил его он и сам не помнит, сколько уж дней и ночей… В безумце проснулось животное, и он жадно ждал обеда…
За обедом ел он с алчностью идиота, молча и как будто со злобой пожирая огромные куски хлеба, рыбы, обжигаясь горячим и давясь неразжевываемою беззубым ртом пищею. Со свесившимися на лицо прядями седых волос, пасмы коих полузакрывали его впалые, как у мертвеца, щеки, с глазами, горевшими безумным огнем из-под седых длинных, словно собачьих, бровей, со ртом, набитым пищею, – он походил на зверя или озверевшего, одичалого человека…
И Палий, и пани-матка, и Семашко, и Охрим с глубоким сожалением и какою-то боязнию смотрели на несчастного и почти ничего не ели. Под конец обеда он стал есть спокойнее, не так торопливо. Бледное лицо немножко утратило свою мертвенную бесцветность. Глаза стали добрее, осмысленнее.
– А теперь выпьемо по чарци сливянки за здоровье пана гетьмана! – провозгласила пани-матка. – Я з Украины привезла-таки сиеи доброй горилки не одну пляшечку… Охрим, щоб не отняли ии москали, виз пляшечки за пазухою.
– Та в штанях, – пояснил добросовестный Охрим.
Палий опять сделал жене глазами знак насчет «Украины» да «москалей». Пани-матка поняла намек и замолчала.
Выпили по чарке. Самойлович совсем ожил, даже как будто выпрямился, вырос. Выпили по другой – и гетман тотчас же охмелел: усталость, голод, теперь с избытком удовлетворенный, и душевное истомление взяли свое… Старик скоро уснул, сжав свою воображаемую булаву обеими руками, и долго спал, иногда бормоча во сне бессвязные речи: «Мазепа золото – не писарь»… «Украинское тогобочное царство»… «Украинский царь»… «Щека горит»…
Проснувшись, он не скоро узнал Палия – все как-то дико всматривался в него, потом спросил, где он, где Мазепа, и успокоился, когда ему отвечали, что Мазепа универсалы пишет. Подойдя к окошку и увидав Енисей, спросил, что за река? Ему опять отвечали, что Днепр. Он сказал, что хочет пойти на берег – посмотреть, скоро ли его «казаки на чайках приплывут, чтоб идти Крым и Царьград плюндровать…»
Вышли на берег. Летнее солнце клонилось уже к западу. За Енисеем далеко тянулись темные леса, высились серые с темною же зеленью горы. Над рекою носились и «кигикали» чайки – точно в самом деле это Днепр… То же голубое небо, то же теплое, даже жаркое, как и у Перекопа солнце, та же трава под ногами, что и в Киеве, у Крещатицкого спуска… Все тот же один невидимый Бог раскинул и над Киевом с Днепром, и над Енисейском с Енисеем этот голубой шатер, убрал землю свою зеленью, набросал в нее цветов, а с цветами набросал помеж людей счастья, горы счастья, а дьявол, тот что в Печерском монастыре, «во образе ляха», бросал на немолящихся людей свои цветы – «лепки», – этот завистник от века набросал помеж людей горя горстями, целые горы горя набросал…
Гетман в немом умилении остановился над рекою – глядит на небо, на далекое заречье, на реку, на воду, на водные струи, катящиеся к северу!.. К северу!..
– Что это такое делается? – с изумлением и ужасом сказал гетман, глядя на воду, а потом глянул на небо, на солнце, опять на воду. – Что это?!.. Днепр не туда побежал… не на полдень, а на полночь… Господи!.. Что ж это такое?
Палий побледнел и задрожал на месте… Гетман глянул на него, на свой чекмарь, огляделся кругом… Палию казалось, что он видит, как у безумца волосы на голове шевелятся… Он уж, кажется, опять не безумец… понял все… все вспомнил!..
– Так это был не сон… не сон… Меня били в щеку – гетмана били… Вот уж двадцать годов горит от пощечины щека гетманская… О! Проклятый Мазепа!.. Это он…
И Самойлович, уронив чекмарь, упал ничком, как ребенок, стукнулся головою в песчаный берег и зарыдал…
– О, мои детки!.. О, проклятый Мазепа… о-о!
Палий, подняв глаза к небу, перекрестился и безнадежно махнул рукой… А небо было такое же голубое, как и над Украиною, над Киевом, над Мазепою…
VII
Что же делал в это время Мазепа, которого где-то в далекой Сибири, в неведомом ему городе проклинали люди, занимавшие не последнее место в воспоминаниях его долгой, как дорога до Сибири, жизни?
Что думал он в то время, когда один из этих проклинавших его, самый несчастный, колотился головой о песчаный берег Енисея и тщетно звал к себе тени дорогих сынов своих, тоже погубленных Мазепою?
Мазепа думал о скорой женитьбе своей, о хорошенькой Мотреньке, о том, какие у них пойдут дети от этого «малжонства», о том, как он наденет на свою сивую семидесятилетнюю голову и на черненькую головку Мотреньки венцы, да не церковные, не венчальные, а маестатные, настоящие владетельные венцы… И детки его от Мотреньки будут расти в порфирах да виссонах… Ведь она его любит – «сама сказала и рученьку биленькую дала…»
Задумав жениться и не получив еще согласия на этот брак родителей невесты, он по какому-то сродственному сцеплению мыслей вспомнил, что и у него есть мать, о которой он редко думал, хотя и продолжал побаиваться – единственное существо в мире, которому Мазепа не мог смотреть прямо в глаза и робость перед которой не вышибли из него долгие семь с половиною десятилетий жизни. Может быть, он потому побаивался матери, что это опять-таки было единственное существо в мире, которое знало, что Мазепа всю жизнь фальшивил и лукавил – лукавил от первых проблесков в нем сознания, лукавил от колыбели. Она заметила начало этого лукавства в своем «Ивасе» еще тогда, когда «Ивась» спал в колыбельке, убаюкиваемый усыпительными детскими песенками и еще не имел своей кроватки. Она заметила, что «Ивась» не любил засыпать под колыбельную песню, а любил, лежа в своей «колисочке», играть золотыми мишурными кистями, спускавшимися от верха колыбели и развлекавшими его. Мать часто наблюдала за ребенком и подсмотрела, что, когда его начинали качать и монотонно петь – «у котика, у кота колисочка золота», он скоро закрывал глаза и, по-видимому, засыпал, но тотчас же оказывалось, что он притворялся, чтоб только скорей перестали его качать и оставили его с любимыми «цацями» – кистями. Притворство и лукавство росли в «Ивасе» с годами, и эти качества тем более укоренялись в нем, что развитие ребенка совершалось под двумя несходными нравственными влияниями: отец, старый шляхтич Мазепа, души не чаял в своем «Ивасе Коновченке», как он называл будущего казацкого «лыцаря», и до крайности баловал его; а мать, вспоенная немножко молоком польской культуры, мечтала выработать из своего сынка «уродзонего панича» с лоском, грацией и манерами отборного паньства. Способный и сметливый мальчик гнулся и в ту и в другую сторону словно угорь, обманывал мать, которая была баба не промах, попадался впросак, вился перед нею как змееныш, а потом, когда мать окончательно пристроила его ко двору короля Яна – Казимира, где тоже приходилось виться и так и этак, – юный Мазепа окончательно превратился в нравственно беспозвоночное существо. Лукавить, притворяться, лгать – стало его природой, и он так выхолил в себе лукавую душу, что сам иногда не сознавал, лукавит он или действует искренно. Эта внутренняя приросшая к душе лукавость в свою очередь выработала и внешние органы для своего проявления, превратив образ Мазепы в какие-то неуловимые лики – именно лики, несколько ликов, а не лицо: лик кротости, целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви перед сильными мира сего, лик добродушия и даже простоватости перед равными и лик милого беса, которого не отличишь от ангела, перед прекрасным полом. И только старость уже наложила на эти лики печать какой-то угрюмости, да и то в моменты лишь его одиночества и раздумья. Оттого Петру он казался добрым, умным и преданным стариком, полякам казался своим братом шляхтичем, а женщины были от него без ума, – и только народ, дети и собаки сторонились от его глаз, как ни старался он сделать их добрыми и ласковыми. Одна мать хорошо видела эту бесовскую триипостасность своего чадушка под всеми соусами, потому что изучила с пеленок этого чадушка, и чадушка побаивался своей матушки. Зато вдали от матушки – а он был всегда вдали от нее – он лукавил везде и всегда: перед москалями прикидываясь их покорным и строго исполнительным орудием, перед поляками рисуясь своими симпатиями к польской культуре, перед православным духовенством воздвигая храмы и давая в монастыри большие вклады, перед католиками лаская их таинственными недомолвками. Он лукавил и перед собой и перед Богом – лукавил на молитве, стоя дольше на коленях перед образами, чем того желало бы его лукавое сердце и подагрические ноги. Зная это, хитрая старуха-мать, увидав, бывало, своего сынка – гетмана, как он, заходя иногда в Фроловский монастырь, где его матушка была игуменьей, распинается на людях перед Спасителем в терновом венце, бывало нет-нет да и шепнет, проходя мимо молящегося гетмана:
– Ивасю! Али ты не знаешь, что у Бога очи лучше моих?.. Я и то вижу, а он…
Вот и теперь перед женитьбой он надумал навестить эту ведьму – матушку и испросить у нее родительского благословения, тем более что, возвращаясь из похода с правобережной Украины на левобережную, он заехал в Киев как для свидания с киевским воеводою князем Дмитрием Голицыным, так и для закупки подарков и приданого для своей невесты.
Мазепа приехал в монастырь в богатой берлине с двумя сердюками позади. Лицо его после продолжительного похода по Заднепровской Украине для восстановления покорности в бывшей Палиивщине казалось усталым, несмотря на густой загар, наложенный на него южным солнцем, что еще более выдавало сивизну его головы и усов, ставших в последние три года совсем белыми, чисто серебряными. Таким же серебром отливала пара отличных серых коней, запряженных в берлину, обитую внутри малиновым бархатом, к которому и была прислонена лукавая сивая голова гетмана.
Выйдя из берлины, он направился по монастырскому двору, пестревшему всевозможными цветами, прямо к келье игуменьи. Встречавшиеся ему монашенки робко и низко кланялись, не глядя на него, а попавшаяся на пути кудлатая черная собака, взглянув в добрые глаза гетмана, поджала хвост и, словно укушенная августовскою мухой, бросилась под ближайшее крыльцо. Далее попалась молоденькая черничка с большими черными глазами – хотела, по-видимому, их спрятать, но не успела: вспыхнула, поклонилась и тоже, как собака, юркнула в сторону. Мазепа проводил ее глазами и вступил на знакомое крыльцо.
В сенях не оказалось никого, в первой просторной келье – тоже. Окна открыты в сад. Пахнуло запахом цветущей липы и листьями увядающей розы – это на окне, на листе синей бумаги сушились розовые лепестки на солнышке. В соседней келье сквозь полуоткрытую дверь слышны голоса.
– Я, бабусю, принесу котику червонную ленточку на шею, – щебечет детский голосок.
– Червонную нельзя, дитятко, – отвечает старческий голос.
– Отчего, бабусю?
– Котик живет в монастыре, а в монастыре ничего червонного нет.
– А цветы, бабусю?
– То цветы Божьи сами червонные, а носить на себе червонного нельзя.
– Та котик же, бабусю, не монах…
Мазепа улыбнулся и тихо отворил дверь, он все делал тихо, как-то неожиданно, словно пугал.
– Те-те-те! Старе и мале котиком забавляются, – сказал он, входя во вторую келью.
В этой келье, просторной, светлой, с богатыми образами в переднем углу и с цветами на окнах в глубоком кресле наподобие ниши сидела старушка, по-видимому, глубокой старости. Она была в монашеском одеянии, хотя по-келейному, но с перламутровыми четками на правой руке, и вязала чулок. Маленькое, от старости сжавшееся личико было необыкновенно бело, так что едва отличалось от таких же белых, сухих и мягких как лен волос, выбившихся из-под черного платочка, охватывавшего всю голову. Сухой, горбатый, как у кобчика, нос, острый, кверху поднявшийся подбородок, полное отсутствие губ, давно и безвозвратно втянутых беззубым ртом, и небольшие серые круглые, как у птицы, глаза – невольно приковывали внимание к этим живым останкам человека. Но что особенно било в глаза, так это черные брови, непонятным образом уцелевшие среди общего отцветания этого ветхого существа и придававшие какую-то молодую живость птичьим глазам.
У ног старушки забавлялся огромным клубком черный котик, а около него на полу же сидела девочка лет двенадцати – тринадцати, одетая по-городскому, в белой с узорами сорочке и в голубой юбке.
После первого восклицания Мазепа подошел к старушке, низко наклонил голову и подставил почти к самому носу маленького съежившегося существа обе ладони пригоршней для благословения.
– Благословите, мамо и матушка-игуменья, – сказал он тихо, опустив глаза.
Старушка подняла свои, сделала головой движение, как бы клюнула клювом Мазепу, положила на колени чулок, снова клюнула и благословила, гремя четками.
– Во имя Отца и Сына… Бог благословит…
– Живеньки-здоровеньки, мамо? – спросил гетман, целуя руку матери.
– Живу… Вот последние панчошки плету себе для дороги на тот свет, – и она указала на чулок. – Далекая дорога!
– Далекая, мамо, далекая… только, Бог даст, еще поживем.
Старушка махнула сухой ручкой.
– Что уж об нас!.. А вот как ты, сынку, живешь?
– Да мы, матушка, сейчас из походу – до Львова доходили, всю тогобочную Украину ускромнили, а то Палий ее избаловал ни за что… Заезжал и до дому – до ваших маетностей…
– А! Пусто там?
– Нет… Только холопы того дуба срубали, что вы посадили в день моего рождения.
Старушка вздохнула и молчала. Мазепа тотчас переменил разговор.
– А! И Оксанка тут! – ласково обратился он к девочке. – У! Какая большая стала дивчина… А очи, ай батюшки, еще больше стали… Ух, боюсь – боюсь Оксанкиных очей…
Девочка рассмеялась, взяла кошку на руки и стала ее гладить.
– Так червонную ленточку ему нельзя? – улыбаясь шутил Мазепа.
– Нельзя, грех… А я ему беленькую шелковую стричечку принесу, – заговорила девочка.
– Ну добре. А что батько, старый Хмара?
– Татко до Запорожжа поихали с козаками.
– А мати, в городе?








