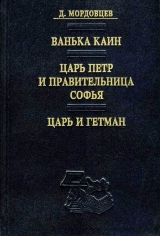
Текст книги "Царь и гетман"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)
Он машинально крестится, но не знает, о чем молиться, что просить и за кого. Ему разом стало страшно за всех – и за тех, что рядами двигались к крепости как бы подгоняемые громом, и за тех, неведомых ему, которых эти за что-то ненавидели и стремились убить их…
– Езус – Мария! О! – послышался сзади его тихий стон.
Он с испугом обернулся – и остолбенел от изумления. В нескольких шагах от него опять показалось что-то вроде того видения, которое поразило его в саду Диканьки, среди цветущей природы Украины. Но это было другое видение, хотя такое же прелестное, только без короны и цветов. Павлуша видел только большие черные глаза, которые его пугали своим каким-то глубоким и густым – так по крайней мере Павлуше казалось – блеском… Это была молоденькая девушка, высокенькая, плотная.
– Его убьют! Езус – Мария! – повторила девушка как бы вопросительно.
– Кого убьют? – невольно спросил Павлуша. – Царя?
– Нет… царя я не знаю…
– Так кого же?
– Моего доброго господина.
– А кто твой господин?
– Мой господин – Александр Данилыч.
– Меншиков?
– Да, Меншиков.
У девушки заметен был нерусский выговор. Но русские слова, как видно, она знала.
– А ты кто же? – спросил Павлуша.
– Я Марта Скавронска, из Мариенбург. Меня русские в полон взяли. А ты кто?
– Я денщик царский – Ягужинский Павел. А ты у Меншикова теперь?
– У Меншикова. Он добрый…
– Что ж ты у него делаешь?
– Я служу ему.
Между тем канонада разгоралась. Слышался уже не стук отдельных ударов, а сплошной гул, который перекатывался из конца в конец, как удаляющаяся гроза.
Войско, предводительствуемое Борисом Шереметевым и ведомое молодыми русскими и преимущественно немецкими офицерами, извивалось вокруг маленькой крепости в виде огромной змеи, которая с каждой минутой суживала свое страшное кольцо и должна была скоро задавить жалкий Ниеншанц. Крепостные батареи, в большей части подбитые русскими ядрами, умолкали одна за другой. Казалось, что войско шло на мертвеца…
– Лют сегодня Борис, – послышался голос царя.
– Да добрым был ли он, государь, и от младых ногтей?
– Подлинно так. Намедни доносит мне: «Послал-де я во все концы пленить и жечь, дабы-де помнили вороги твои, государевы, твоих ратных людей – как они-де чисто бреют».
– Брадобрей, государь, точно брадобрей, Шереметев Борис Петрович.
– Да, крутенек Боря.
Это царь в сопровождении Меншикова ехал к другому концу поля битвы, чтобы ничего не оставить без внимания. Ягужинский и Марта увидели их. Узнав Меншикова, Марта радостно вскрикнула. Царь оглянулся.
– А! Это ты, Павлуша… А кто с тобой?
– Это Марфуша, государь, моя полонянка ливовская, – отвечал Меншиков, ласково взглянув на девушку, которая тоже глядела на него радостно.
Быстрым взглядом царь окинул интересную полонянку с ног до головы. Глаза девушки, встретившись с глазами царя, словно застыли: это был какой-то детский, полный глубокого удивления взгляд.
Царь тоже как бы изумился. Перед ним почему-то мелькнул образ Анны Монс… Точно Аннушка… Нет, не Аннушкины глаза.
– Как тебя зовут? – быстро спросил царь.
– Марта, ваше… ваше величество.
– А кто твой отец?
– Самуэль Скавронски.
Девушка отвечала тихо, робко, не спуская глаз с вопрошающего, точно это была исповедь… По лицу царя пробежало нервное подергивание.
– Давно она у тебя? – спросил царь, быстро обращаясь к Меншикову.
– Недавно, государь.
– А при каком деле она у тебя?
– Портомоя…
Царь снова молча взглянул на девушку, потом на Ягужинского, пришпорил коня и скрылся. Ускакал и Меншиков.
Осыпаемая ядрами, не видя ниоткуда помощи, крепость недолго сопротивлялась. Петр широко перекрестился, когда увидел, что на одной из крепостных башен показался белый флаг.
– Пардону просит, – весело сказал царь, – я не чаял так скоро добыть ключи от рая.
– Ключи-то, государь, может, и добыты, да дверь-то в рай еще не отворена, – заметил Меншиков. – Может, она приперта изнутри…
– Что ты врешь, Данилыч! – сердито сказал царь.
– Не вру, царь-государь… Дверь-то райская не токмо засовом изнутри засунута, да и архистратиг Михаил за дверью с огненным мечом стоит.
– Что ты!
– Верно, государь: сейчас сам увидишь – погоди немного.
Сказав это, Меншиков удалился, а царь поскакал к тому месту, где Шереметев распоряжался осадой крепости.
Крепостные ворота скоро отворились, и престарелый шведский комендант вынес ключи на блюде.
Пока все это происходило, из обоза воротился Меншиков в сопровождении седого как лунь старика. Он был одет, не как местный житель, не по-чухонски, а по-русски. Характерные лапти, покрой рубахи с косым воротом и волосы с подстриженной маковкой изобличали его национальность. Старик молча приблизился к царю. Из старых, запавших, но еще светившихся жизнью глаз текли слезы. При виде царя старик повалился в землю.
– Встань, старик. Говори – кто ты такой и зачем пришел к нам? – спросил царь.
Старик поднялся и, всплеснув руками, снова зарыдал.
– Ну говори же, старичок.
– Господи! Сорок годов я русскова духу не слыхал, слово родное забывать стал… А ноне вот на, поди! – сам осударь великий… речь православную слышу…
И старик крестился дрожащими руками.
– Ну так говори – кто ты и что хочешь поведать нам, – повторил царь.
– Пес я, осударь, одичалый, – мотая головой, говорил, старик. – Одичал совсем – отбился от родново дому, от земли православной. Блаженныя памяти при царе Лексей Михайлыче ушел я из Великого Новагорода от тесноты боярской – и вот скоро пятый десяток как маюсь тут среди чуди белоглазой… Ох, опостылела мне она, эта сторонка чужая, проклятая, а повороту мне к родной земле нету… Хуть бы кости старые привел Бог родною землицею присыпать…
– Ну так что ж ты хотел поведать нам? – нетерпеливо говорил царь.
– Осударево дело, батюшка, осударево, – как бы спохватился старик. – Я вот, осударь, здесь грешным делом рыбку ловлю и на взморье частенько бываю. Так ноне, осударь, утром я и видел корабли шведские в море – от Котлина от острова, надо бы так полагать, сюда идут…
– А много кораблей? – тревожно спросил царь.
– Многонько, осударь. Только я так тебе скажу, царь-батюшка, – эти-то швецки корабли можно голыми руками побрать.
– А как?.. Говори, старик, я твою службу не забуду.
– Спасибо, царь-осударь, на добром слове, а я служить своему батюшке-царю всегда рад.
– И ты говоришь – корабли сюда идут? – нетерпеливо спрашивал царь.
– Надо так думать, осударь. Я их обычаи знаю. Всяку весну они тут плавают – по Неве вплоть до Ладоги… Так я тебя научу, осударь, что делать!.. Вот туда пониже, за этим коленом, от Невы влево речечка махонька течет – Мыя называется, так лесом-то эта самая Мыя и доходит до взморья… А вправо от Невы идет рукав – он идет за островом за Янисари – и тоже в море входит… Так ежели, примером сказать, ты, осударь, пойдешь кочами своими рукавом, а кто другой у тебя с другими кочами войдет в Мыю – речку, так коли швецки корабли придут да в Неву зайдут, тут и бери их, как карасей в верше…
Царь казался взволнованным. Никогда ему не представлялась такою легкою возможность первой морской виктории. И вдруг!.. Да это вероподобно, рассказ старика дышит такой простотой, такой уверенностью… А он и не подозревал о существовании тут лесной речонки, обходной струи, в которую корабли не могут попасть, но которая именно создана для его легких лодочек… Промысл Божий… Дверь райская отворяется… Старик – это посланник Божий, это новый старец Пелгусий, который предсказал победу Александру Невскому, тут же на берегах этой самой заколдованной Невы…
– И ты верно, старичок, знаешь, что есть здесь обход лесом? – с волнением спрашивал царь.
– Есть, осударь, Мыя называется.
– И ты проведешь по ней мои кочи?
– Проведу… как не провести!
………………………………………………
Ночь тихая, прозрачная, с широкою зарею от заката до востока, с прозрачно-голубоватым небом, с робко мигающими звездами, которые как бы боятся, что вот-вот из-за темного бора выглянет бессонное солнце и прогонит их с бледного неба. Но все же это ночь, обязывающая ко сну и к покою. Спит полуразрушенный Ниеншанц, окруженный белыми палатками. Это – русское войско, которое тоже спит, оберегаемое дремлющими часовыми. Спит темная Нева, и только слышится ее тихий, сонный шепот – это катится сонная вода речная от Ладоги до самого моря. Спят, уткнувшись в берега, словно утки, маленькие лодочки, составляющие флотилию царя. А среди их, среди этих серых уточек, спят две огромные птицы – не то гуси, не то лебеди… Это два шведских корабля, взятые с бою маленькими русскими лодочками…
Не спит один кто-то… Вон на берегу реки стоит этот кто-то, задумчиво глядя на воду, на реку, сонно бегущую к морю… Кому же больше быть, как не царю? У кого другого такой нечеловеческий рост – в полтора роста человеческого? У него одного только…
Да, это он – он не спит. Не спится ему после первой славной морской виктории. Могучие грезы одолевают беспокойную голову царя… Радостью и гордостью блестят его глаза всякий раз, как они останавливаются на шведских кораблях…
«Все это мое – мое отныне и до века, – думается царю. – На сем месте созижду дом мой – и будет стоять он, пока стоит российское государство, пока земля стоит…»
И он нетерпеливыми шагами начинает ходить по берегу, останавливается, размеривает, говорит сам с собою… А беспокойная мысль забегает вперед. Уже ему видится на этом месте громадный город, весь изрезанный каналами, охраняемый неприступною крепостью, и корабли, корабли… Никогда в жизни Петр не был так счастлив, как в этот день. То, о чем он мечтал с детства, с тех пор как увидал Переславское озеро, для чего он подтянул на дыбу всю Россию, – сбывалось: ноги его стояли на клочке земли, который омывала морская вода, вода европейского моря – и этот клочок земли был его собственностью, и никто у него этого клочка не отымет… А эти два чудовища морские – и их он взял с бою, как и этот клок земли… Теперь у него будут свои морские чудовища, им есть где разгуляться, расправить свои белые крылья…
– Пойду – напишу про свою радость Аннушке да князю – кесарю, – сказал он, топнув ногой.
И он быстро пошел к своей палатке. Ему не спалось в доме, не спалось под крышей – его тянуло под открытое небо, а потому он и по взятии Ниеншанца оставался в походной палатке, где и работал и спал. У входа в палатку стояли часовые. Царь, отдернув полог, увидел, что у самого входа лежит что-то на пологе, скомкавшись в клубочек.
– А, это ты, Павлуша, – сказал царь. – Ступай к себе, спи, я еще писать буду.
Ягужинский, не совсем очнувшийся от сна, тихо удалился в свое отделение палатки. Но царь тотчас же вернул его.
– А бумаги Кенисена где? – спросил он.
– У тебя на столе, государь, – отвечал юноша, бледнея и со страхом глядя на царя.
– Хорошо, ступай спи.
Но Ягужинскому не довелось спать в эту ночь…
Он внимательно стал слушать из-за наружной перегородки, что делает царь… Все слышно – слышно даже его могучее дыхание, слышно, как он потянулся, зевнул, хрустнул пальцами и присел к своему походному столу.
– Боже, благодарю Тебя! – слышалось из-за перегородки. – Сна мне нет от великого счастья… Какой день, какой славный день…
Послышался шорох бумаги, хруст взламываемого сургуча… У Ягужинского сердце упало… Скоро, сейчас он увидит это страшное…
– Эх, бедный, бедный Кенисен! Не дожил ты до моего счастья, – слышался тихий, задумчивый говор царя с самим собою. – Посмотрим, что-то у тебя тут есть… А! Что это такое!
«Страшное, страшное увидал», – думал Павлуша, дрожа всем телом.
– Аннушка… Анна Монцова… Как она к нему попала!.. И письма ее… знакомая рука… Так вот она как… Так вот где змея подколодная… А! «Зейн гетрейсте бет ин мейн дот» … как и мне писала… «по гроб верная»… А! Шлюха…
Что-то звякнуло, разломилось, хрустнуло… Упала табуретка…
– На дыбу!.. На плаху!.. Нет! На кол, на кол немецкое отродье!.. – Голос царя страшен. Он быстро ходит по обширной палатке, роняя и разбрасывая все, что попадалось ему на пути… Потом он снова шуршал бумагами, комкал их, бормотал несвязные слова…
– Вот тебе и радость – вот тебе и виктория… Что ж! Из-за сей мрази радость великую погубить?.. Нет!.. Не люба мне была Москва, а теперь стала еще постылее… Там убить меня хотели, в Москве же и обманули меня… К черту Москву! У меня есть новое место для столицы, и отныне будет оно моим парадизом и парадизом всего российского царства.
Ягужинский стал спокойнее прислушиваться. Он знал, что когда беспокойный царь заговорит о российском царстве, о его славе, то все другое, личное, уже менее острым становится для него.
– Я здесь сооружу мою новую столицу… Се будет новый мех, и в новый мех я волью новое вино – и просвещение, и новые доблести российские… А Москва – пусть останется Москвою… Ишь ты! Москва-де сердце России – ну ин и пусть останется сердцем, кое присно живет в разладе с рассудком… Так и Москва… А эта немка – Анна… Что ж! Пускай ее… не любит уж… Да и любила ли, полно? Не царя ли видела во мне, а не любовника?.. Да, любить и царь не может заставить…
Ягужинский видел, как громадная тень царя наклонилась над столом. Голова опустилась на руки. Тихо стало в палатке.
– А эта – Марта, что ли? Какие глаза – чистые, невинные… Может, эта и полюбит не как царя… Ну да благо – быть здесь «Питербургу»!
Царь даже кулаком об стол стукнул… Потом зашуршала бумага, заскрипело перо…
Под скрип царского пера и уснул Павлуша Ягужинский.
IV
Малороссия… Украина… Всегда, во все века исторической жизни русской земли, край этот выступал из могильного мрака истории под дымкою очарования, поэзии, чего-то чудесного… Да, чудесное, героическое, легендарное прошло и сквозь всю историю этого симпатичного, но несчастного края. Яркость исторических красок так бьет в глаза, когда вы переноситесь в прошедшее Украины: первые богатыри народного эпоса, богатыри стихийные и полумифы, потом богатыри – запорожцы, гетманы, казаки, гайдамаки, чумаки – на всем этом лежит печать поэзии.
…………………………………………………………
– Шо се ты, доню, читаешь?
– Та се, мамо, про блудного сына.
– Що ж воно – из евангелия, из святого письма?
– Ни, мамо, – се комедия.
– Яка, доню, комедия?
– Воно, мама, виршами писано.
– А хто его написав?
– Симеон Полоцький, мамо.
– Що ж воно там пише?
– Та пише, мамо, що у одного чоловика було два сына, старший – тихий да слухьяный, а меньший – якийсь козакуватый, непокийный, мов запорожський козак: «Отпусти да отпусти, каже, мене, тату…».
– Та се ж и святе письмо так пише… Яка ж се комедия, доню?
– Ах, мамцю, яка бо ты! Тут вирши…
– Так що ж що вирши?
– Тим воно й комедия называеться.
– А ну-ну, почитай, я послухаю – що воно таке е.
– Слухай, мамо… Ото вин, меньший сын, уже на воли, десь у чужий земли… Слухай, мамцю, що вин каже:
Бех у отца моего, яко раб плененный,
Во пределех домовых, як в тюрьме, заключенный.
Ни что бяше свободно по воли творити,
Ждах обеда, вечери, хотяй ясти, пити,
Не свободно играти, в гости не пущано,
А на красныя лица зрети запрещано…
– Овва! Се б то его батько на вечерници не пускав…
– Ни, мамо, – яка бо ты!.. Слухай…
– Та чого ж слухать! Волоцюга – волоцюга и есть… Одно слово – блудный сын – Семен Палий…
– Ну вже, яка бо ты, мамцю!.. А люди кажуть, що Палий такий козак, якого и в свити нема.
– Не все то правда, що люди кажуть.
– Як же ж, мамо?.. Вин за виру стоит…
Так говорили между собою мать и дочь, дочь – Мотренька Кочубей. Зачем Пушкин назвал Мотреньку «Марией»? Разве не благозвучно было бы это имя в поэме? Вероятно. А может быть, Пушкину неизвестно было настоящее имя знаменитой дочери Кочубея?
Горница, в которой сидят мать с дочерью, не похожа на то, что в настоящее время разумеется под комнатами людей среднего состояния, а в особенности богатых. Это ни зала, ни гостиная, ни кабинет, ни столовая, ни уборная, ни спальня – просто горница. Четыре окна ее выходят непременно в «в вишневый садочок». Вдоль двух стен горницы тянутся широкие лавки, которые сходятся в переднем углу, украшенном богатою киотою. В киоте блестят иконы в золотых и серебряных окладах. Самый богатый оклад на образе «Покровы» – это наиболее почитаемая икона украинца.
У других стен горницы – несколько резных с прямыми стенками стульев, и там же шкапы и поставцы, наполненные серебряною и золотою посудою. Особенным богатством отличаются кубки, между которыми есть и дорогой итальянской работы. Верхние половины шкапов стеклянные, а нижние глухие, с глухими дверцами. Дверцы эти изукрашены рисунками, малеванными масляными красками. Рисунки большею частью из народной жизни и истории, а также из священного писания и нравоучительные. Так, на одном изображены два человека, стоящие друг против друга; у одного в глазу нарисован сук, а у другого – целое бревно. Подпись гласит:
У ближнего в оци бачишь маленький сучок,
А в себе не бачишь здоровый дручок.
На другом рисунке изображены «козак» и «москаль», последний держит первого за полу, которую первый обрезывает саблей. Подпись: «Вид москаля полу вриж та втикай». На третьем рисунке: «козак» и «лях», которые жмут друг другу руку, а козак другую руку держит за пазухой. Подпись гласит: «3 ляхом дружи, а каминь за пазухою держи». «Стара Кочубеиха» смотрит еще женщиной нестарой и красивой, но в этой красоте не видно уже привлекательности, нежности и обаяния молодости. Скорее в красоте этой есть что-то отталкивающее, жесткое и надменное. Движения ее изобличают желание властвовать, повелевать, и если сфера этого владычества является ограниченной, то она превращается в семейный деспотизм в форме держания мужа под башмаком, а детей – в ежовых рукавицах. Перед Кочубеихой прислуга должна непременно трепетать, ходить в страхе Божием и исполнять не приказания госпожи, а движения ее бровей и глаз, мановения руки, и понимать ее молчание. Недаром Мазепа, которому Кочубеиха немало насолила, называл ее «женою гордою и велеречивою».
«На Кочубеиху треба доброго муштука, як на брикливу кобылу», – не раз говорил он.
«Як бы не вы, Иван Степанович, – замечал на это лукавый Семен Палий, – то вона б давно була гетьманом».
Кочубеиха, подойдя к Мотреньке, стала рассматривать лежащую перед ней книгу.
– Кто се тоби дав таку книгу? – спросила она.
– Пан гетьман, мамо, – отвечала Мотренька.
– От ще! Старый собака – задумав вчити чужу дитину.
– Ну вже – яка бо ты, мамцю! За що ты его не любишь! – возразила девушка, глядя на мать. – Вин такий добрый…
– Добрый, як кит до сала.
– Та ни бо, мамо, – вин мени и ласощив дае.
– Знаю, бо сам дуже ласый…
– Та за що ж его, мамцю, не любишь? – настаивала Мотренька, ласкаясь к матери.
– За те, що ты ще дурне, – отвечала Кочубеиха, гладя голову дочери.
– Та ну бо, мамчику, скажи – за вищо? – ласкалась девушка.
– Выростешь, тоди сама знатимешь.
– Ах, мамо!.. Та я ж выросла вже…
– Выросла, та ума не вынесла.
– Ну, яка бо ты, мамо… мени вже скоро симнадцатый рик буде…
– Знаю… а молоко материне он ще и доси на губах не обсохло… – И Кочубеиха тронула Мотреньку по губам.
– Ни, обсохло, мамцю, – лукаво возражала девушка. – Я знаю, за що…
– А за що бо? Ну, скажить, Мотрона Василивна, будте ласкови.
– Не скажу, мамо.
– От дурне!
– Ни, не дурне… Я чула, як ты раз таткови казала: «Коли б не сей старый собака – Мазепа, ты б давно був гетьманом…»
– Що ж – воно й правда… Вин уже чужий вик заидае.
– Та ни бо, мамо, вин вже не такий старый.
– А якого ж тоби ще?
– Хоч вин и старый, мамо, та жвавый, умный – вин кращий вид молодых…
– Тю на тебе!.. От сказала!
– Та правда ж, мамо, – вин мов и не старый.
– А знаешь, який вин старый? – сказала Кочубеиха, поправляя монисто на шее у дочери. – Оце намисто вин тоби подарував, як хрестили тебе, та й казав, що сему намистови вже сорок лит буде, що коли вин женився, то подарував его своий невисти, а теперь – тоби… Та ще дуже мы тоди смиялись, як хрестили тебе… Як пип, отец Матвий, облив тебе свяченою водою та положив тебе ему на руки, вин, Мазепа, дивлячись на тебе… а ты була така малесенька, мов рачок маленький… и каже: «От дивчина так дивчина, каже, а нижки яки малюсеньки – Господи! – а коли вырастут, каже, то так-то любенько бигатимут по моий могильци…» От тоби й могилка!.. А батюшка, отец Матвий, и каже: «Не загадуйте-ка, пане гетьмане, попереду Господа Бога: у его своя черта на наши могилки. Може, на вашу труну, каже, дерево ще и з земли не вылазило: може, коли оце нова раба Божа Мотрона выросте, то вы б до ней й сватив прислали, да тильки пани гетманова вас за чуб вдержить…» Ото смиху було!
При последних словах матери девушка задумалась. То, что говорила мать, для нее было совсем не смешно. Старый Мазепа встал перед нею в каком-то чарующем обаянии, с его загадочным, угрюмым, задумчивым взглядом, в котором светилась молодая прелесть и ласка, когда он смотрел на Мотреньку… Эти задумчивые глаза смотрели на ее маленькие ножки, когда он, после купели держал ее на руках и думал: «Эти маленькие ножки будут бегать по моей могиле… могила травой зарастет…» Нет! Эти живые глаза старого гетмана не заглядывают еще в свою могилу – они заглядывают далеко вперед, как глаза юноши, смело глядят в таинственное будущее – и это будущее обаятельно манит к себе Мотреньку.
Мотренька росла какой-то загадочной девочкой. Она не походила на других детей Кочубея, и когда девочке было пять лет только, мать ее, гордая Кочубеиха, державшая свой дом в таком же строгом повиновении, в каком батько кошевой держал Запорожскую Сечь, упрекала бывало пучеглазую Мотреньку: «Та ты в мене така неслухьяна дитина, що вже й в пелюшках було пручалася, мов козиня, – та из колиски кожен тоби день литала… В кого воно й уродилось, прости Господи!» А оно уродилось, пожалуй, в нее же самое – в Кочубеиху… «Тильки було прокинеться, вже й кричит у колисци:» Не хочу, мамо, не хочу! «Се, бачь, не хоче, що б ии мыли и обували… И само лизе з колиски – та бебех додолу – писне трошки, та й мовчит, не плаче, а тильки сопе… Як не доглянув, бувало, то воно вже й ганя по двору босо та разхристане… А було пиймаешь его, спитаешь:» Та чи вмивали тебе, Мотю? «Так воно й одриже:» Мене, мамо, каже, дрибень дощик вмив, – або воно, непутне, – росою, каже, вмивалося… «От така дитина!»
Мазепа как крестный отец и бездетный тоже не мог не обратить внимания на этого бедового ребенка. «Се у тебе, кумо, царь-девица росте, – говорил бывало старый гетман, любуюсь своею хорошенькою крестницей, которая, сидя у него на коленях, теребила его за усы и за чуб. – А мени не дав Бог такой утихи…» Кроме гетманских усов и чуба, Мотренька любила также забавляться гетманскою булавой, которую старик, когда у него гостила крестница, тихонько от старшины давал девочке «погратись». Не было, кажется, просьбы, которую старый гетман не исполнил бы ради своей крестницы. «Попроси воно в мене Батурин – и Батурин оддам, тильки гетьманства не оддам, бо воно, мале, дивча, до ваших, Панове, чубив ручками не достане», – обращался он бывало к своим полковникам, держа на руках маленькую Мотреньку.
Когда Мотренька стала большенькою, уже она не любила обыкновенных детских игр и выдумывала для себя собственные развлечения. У нее был целый завод и домашней и прирученной птицы, а также разных зверей, начиная от ручных зайцев, ежей, кроликов и кончая сайгаками. Журавли, аисты, лебеди, пеликаны – все это бродило на ее птичьем дворе, и когда поутру Мотренька являлась к своим любимцам, то звери и птицы наперерыв старались завладеть ее вниманием и лакомыми яствами, с которыми являлась к ним девочка.
– Ото в тебе, Василий Леонтиевич, росте цариця Клеопатра, – говаривал Мазепа Кочубею, видя Мотреньку, окруженную зверями и птицами.
– Так-то так, пане гетьмане, Клеопатра, та тильки Антония у нас немае, – отвечал на это Кочубей.
– Овва! За такими дураками дило не стане, – смеялся старый гетман, не подозревая, что этим Антонием будет он сам и так же, как Антоний римский, погибнет чрез свою Клеопатру.
Врожденная ли впечатлительность и самоуглубление или любовь к рассказам о сверхестественных силах и явлениях, о чарах, скрытых в природе, необыкновенно развили в девочке воображение. Когда ей уже было лет пятнадцать, она ночью ходила в лес отыскивать цветы папоротника, для того чтобы с его помощью облететь весь мир и посмотреть, что в этом мире делается. Особенно ее тянуло в те неведомые страны, где, по народным рассказам, томились на «турецких галерах» казаки-невольники, думу о которых она никогда не могла слышать без того, чтобы в конце концов не разрыдаться. Судьба невольников не выходила у нее из головы с тех пор, как она в первый раз услыхала думу «про Марусю Богуславку». Это было в Батурине, когда Мотреньке не было еще десяти лет. На первый день Пасхи, когда Мотренька восхищалась надаренными ей разными «писанками» да «крашанками», на двор к ним прибрел старый слепой лирник и, усевшись под забором, запел под однообразное треньканье бандуры тоскливое причитание про Марусю Богуславку. Мотренька стояла и жадно слушала незнакомую ей думу. Немного поодаль стояли другие слушатели – домочадцы Кочубеев, преимущественно «жиночки», «дивчата» та «дитвора». Тут же была и Устя, старая нянька Мотреньки, «удова Варенька», как она себя называла, большая фантазерка, баба, воображавшая, что она та «удовиця», об которой поется в думах и у которой был сын «удовиченко», хотя этот сынок был большой «гульвиса» и лентяй, за что Кочубеиха и сослала его на хутора – пасти конский табун. Это-то обстоятельство и заставило Устю воображать, что сынок ее в «турецкой неволе», за синими морями, за быстрыми реками.
– Яку ты се, дидушка, проказати хочешь? – спросила Устя, когда лирник настроил свою бандуру и жалобно затренькал.
– Та великодну ж, люде добри, – отвечал лирник, не поднимая своего слепого лица, – бо сегодни, кажуть люде, святый великдень.
– Та великдень же, старче Божий.
– Так и я великднои…
Старик откашлялся, пробежал привычными пальцами по струнам и визгливым старческим голосом затянул:
Ой що на Чорному мори,
Ой що на билому камени,
Там стояла темная темница,
Ой що у тий-то темници пробувало симсот козакив,
Видных невольникив.
То вже тридцять лит у неволи пробувают.
Божого свиту, сонця праведного в вичи соби не видают…
И он поднял свои слепые глаза к небу, как бы желая показать, что он, слепорожденный, может созерцать «праведное сонце»: «бидни невольники» лишены и этого.
Глубоко подействовал припев на слушателей. Чем-то священным, казалось, веяло на них и от этих понятных всем горьких слов, и от этого скорбного, тихого треньканья. Мотренька вся задрожала, когда до слуха ее долетели слова: «тридцать лит у неволи…»
– Що мати Божа! Спаси и вызволи, – тихо простонала Устя, в воображении которой встал ей «бидный невольник» – сынок у конского табуна.
А старик, чутким ухом своим уловивший и этот невольный стон матери и едва слышные вздохи других слушательниц, продолжал, разом возвысив свой дребезжащий голос до октавы:
Ой тоди до их дивка бранка,
Маруся – Попивна Богуславка
Прихождае,
Словами промовляе:
«Гей, козаки,
Вы бидни невольники!
Угадайте, що в наший земли християньский за день тепера?»
Що тоди бидни невольники зачували,
Дивку бранку,
Марусю – Попивну Богуславку
По ричах познавали,
Словами промовляли:
«Гей, дивко бранко,
Марусю – Попивно Богуславко!
Почим мы можем знати,
Що в наший земли християньский за день тепера,
Бо тридцять лит у неволи пробуваем,
Божого свиту, сонця праведного у вичи соби не видаем,
То мы не можемо знати,
Що в наший земли християньский за день тепера?»
То дивка бранка,
Маруся – Попивна Богуславка
Tee зачувае,
До козакив словами промовляе:
«Ой козаки, Вы бидни невольники!
Ой що сегодни у наший земли християньский великодная суббота,
А завтра святый праздник, роковый день великдень…»
Стон прошел по всему сборищу добрых слушательниц… С последним визгом струны словно оборвалось у каждой из них на сердце… Мотренька стояла как окаменелая, не чувствуя, как из ее широко раскрытых глаз катились крупные слезы и капали на красивые крашанки, которые словно замерли в ее руках.
В это время на крыльце панского дома показалась фигура старого гетмана. За ним вышли Кочубеи и находившиеся у них вместе с Мазепою гости. Кружок, обступивший лирника, при виде панов дрогнул и хотел было расступиться, но Мазепа махнул рукой – и все остановились.
Мотренька ничего этого не видела, не спуская глаз с лирника, который тихо тренькал по струнам и молча кивал седою головой, как бы давая роздых наболевшей груди и глотая накопившиеся в груди слезы. Около слепого лирника сидел маленький «хлопчик». Это был вожатый слепого бродяги и его «михоноша». Хорошенькое личико ребенка, которое, по-видимому, ни разу в жизни не было обмыто заботливыми руками любящей матери, непокрытая головенка с спутавшимися прядями никогда не чесаных волос, босые ноги, вместо сапог обутые в черную кору засохшей грязи, – все это, буквально «голе и босе», само напрашивалось на сожаление и участие; а между тем ребенок беззаботно играл красным яичком, не обращая внимания ни на вздыхающих слушательниц, ни на плачущую бандуру своего «дида».
А скрипучий голос «дида» опять заныл, мало того – и зарыдал, потому что зарыдали «бидни невольники»:
Ой як козаки тее зачували,
Билим лицем до сырой земли припадали,
Плакали – рыдали,
Дивку бранку,
Марусю – Попивну Богуславку
Кляли – проклинали:
«Та бодай ты, дивко бранко,
Марусю – Попивно Богуславко,
Щастя й доли соби не мала,
Як ты нам святый праздник, роковый день великдень сказала!»
И важный Мазепа – этот «батько козацький», и Кочубей, и их гости, и все эти босые и обутые бабы и «жиночки», «дивчата», «дивчаточки» и «дитвора» – все это с глубоким вниманием и интересом слушало родную, дорогую для каждого украинца повесть страданий их бедных братьев, словно бы это было народное священнодействие, поминовение тех, которые теперь, в этот светлый праздник, изнывают в темной неволе, вдали от милой родины…
Но особенно потрясающее впечатление на женщин произвели последние, заключительные строфы думы, когда слепой поэт, нарисовав, как Маруся Богуславка, освободив невольников, прощалась с ними, – рыдающим голосом изображал это прощанье:
Ой, козаки,
Вы, бидни невольники!
Кажу я вам, добре дбайте,
В городы християньски утикайте,
Тильки прошу я вас одного – города Богуслава не минайти,
Моему батькови й матери знати давайте:
Та нехай мий батько добре дбае,
Грунтив великих маеткив не збувае,
Великих скарбив не збирае,
Та нехай мене, дивки бранки,
Маруси – Попивны Богуславки,
3 неволи не вызволяе:
Бо вже я потурчилась, побусурменилась —
Для роскоши турецькои,
Для лакомства нещастного!..
– Ото ж проклята? – невольно вырвался крик у молоденькой белокурой Горпины, которая все время молча слушала надрывающее душу причитанье. – От проклята!








