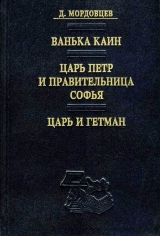
Текст книги "Царь и гетман"
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
Царь быстро откинулся от стола, и лицо его нервно задергалось.
– У! Зелье – сестрица Софьюшка! И из гроба-то мне покою не даешь! – с волнением проговорил он. – Мало со стрельцами да с бородачами-раскольниками намутила, а вон и в наследство мысль свою змеиную сынку моему, дурачку, оставила… У, зелье московское!
Он встал и заходил по палатке. Как ни велик был шатер царский, но и в нем великану шагать двухаршинными шагами было тесно. Он опять присел к столу и стал читать письмо: «А я тебе, другу моему сердешнему Петрушеньку, хоща и стыдно мне вельми и алая кровь со стыда к щекам приливает, на ушко другу моему шепну: у меня, друг мой, там во чреве под сердцем твоя шишечка возится – к Рождеству Христову, может, и сына тебе дам…»
Петр вскочил и вытянулся во весь свой исполинский рост. В глазах его мелькнула не то безумная радость, не то гаев.
– Павел! – громко окликнул он.
В другом отделении палатки, которая разбита была пологами на несколько комнат, послышался шорох бумаги и быстрый ответ: «Сейчас, государь!» Это отвечал Ягужинский, который, войдя с царем в палатку, тотчас прошел в свое отделение и стал писать письма, раньше заказанные ему царем. Ягужинский вышел из-за полога и остановился, ожидая приказаний.
– Мне Бог сегодня радость послал, – сказал царь необыкновенно весело, – так я хочу и тебе радость учинить.
Он остановился и, ласково улыбаясь, глядел на своего смущенного любимца. Тот стоял бледный и смутный, словно статуя с лицом из белого воска.
– Я давно заметил, что у тебя в сердце зазноба есть… а? Правда? – спросил царь, продолжая улыбаться и кладя руку на плечо молодого человека.
Ягужинский молчал. Царь чувствовал, что он дрожит.
– Ты не бойся, Павел… Говори мне правду: любишь эту черненькую Кочубеевну?
– Люблю, государь, – чуть слышно отвечал тот, не поднимая глаз и чувствуя, что краснеет.
– То-то же, я это и ныне заметил: малый чуть в воду не кинулся, когда увидал, что девка упала с испугу… Так хочешь – я тебя женю на ней, когда одержу викторию над Карлом?
Ягужинский упал на колени и стал целовать руки царя.
– Ну, полно, полно… Сам сватом буду… А девка, сдается мне, лицом благообразна… Недаром этот проклятый сатир Мазепа такие епистолии к ней писал… Встань!
Ягужинский встал весь красный.
– У, попадись мне этот домовой старый – сто стрелецких казней я учиню над ним, и то ему мало! – гневно говорил царь, снова зашагав по палатке. – А тебя женю на этой черкашенке… как ее зовут – не знаю…
– Мотря, государь.
– Мотря – какое хорошее имя… Мотря – Мотрюшка – хорошо, зело хорошо… У нас такого имени нет… Да и так говоря, мне украинская здешняя речь зело по душе – благозвучия в ней много… Как приведу здесь все к желанному концу, заведу школы по городам, дабы в оных учение преподавалось их же малороссийскою речью, – говорил царь как бы сам с собою, ходя по палатке. – Так все мудрые государи, как то из истории видно, поступали, понеже отнимать у народа язык, Богом ему данный, и Богу противно и безумно есть… Теперь я подлинно ведаю, что и Мазепа всего своего потентату лишился ради того, что склонность имел более к польским нравам и к польской речи, чем к малороссийской… Так ступай, Павел, кончай с письмами и ложись спать: завтра у нас дела будет изрядно.
Ягужинский ушел в свое отделение, а царь, сев к столу, глубоко задумался над письмом своей «матки Катеринушки». Письмо это заставило его беспокойный мозг работать в том направлении, какого он сам не ожидал. Он видел рядом с постылым сыном от постылой женщины другого сына, и перед этим последним нюня Алексей казался таким жалким, недостойным того призвания, которое выпало ему на долю актом рождения… А что если из его бессильных рук, которые способнее держать кадило, чем скипетр, выскользнет все, что приобретено вот этими мозолистыми руками (царь невольно раскрыл свои массивные ладони: мозоли плотника, мозоли от топора, от молота – все ладони в мозолях, словно бы это были ладони рудокопа), все, что добыто годами тяжкого труда, бессонными ночами, под удары этого страшного молота – этого нового Карла Мартелла!.. Нет, не бывать этому: этот постылый сын должен уступить место будущему брату…
Но чем еще кончится предстоящая баталия? Страшно подумать, если Полтава будет второй Нарвой… Страшно!..
Но и после второй Нарвы можно будет стать на ноги. Вон Нева уж взята… Не сидеть постылому Алексею на престоле в Петербурге – довольно Алексеев! Пусть Петры только будут царствовать в Российской земле!..
И царь невольно вздрогнул: ему представился гроб, а в гробу лежит Митрофаний и грозит пальцем…
XV
Утро 27 июня 1709 только начинает брезжиться. Полтава еще окутана дымкой ночи и только на верхних частях ее крепости да на верхушках и крестах церквей отражается белесоватый свет от бледной полосы неба, все более и более расширяющейся вдоль восточного горизонта. Звезды еще светятся, мигают, но это мигание уже какое-то слабое, трепетное, словно веки выглядывающих с неба чьих-то неведомых глаз, которые все чаще смежаются.
Между тем, выше Полтавы, вдоль нагорного берега, по всхолмленной равнине кое-где за холмами торчат, словно из земли, какие-то темные точки и иногда как бы дрожат, движутся, обнаруживая при ближайшем рассмотрении то высокую казацкую шапку, то длинное ратище копья, то ствол мушкета. Это передовые сторожевые пикеты левого крыла шведского войска.
Восток, луговое Заворсклье глядит все яснее и яснее, и Полтава мало-помалу словно из земли выползает, сбрасывая с себя темное покрывало. По нагорному возвышению от Ворсклы движется какая-то одинокая тень. Это человеческая фигура. Белеющий восток слабо освещает наклоненную под высокой казацкой шапкой голову, седой чуб, свесившийся на глаза, и седые усы, глядящие в землю, словно им уже не ко времени торчать молодецки кверху, а пора-де в могилу смотреть. По мере движения этого старого путника темная шапка за ближайшим холмом нагибается все ниже и ниже и, наконец, совсем прячется.
– А бисив сон! Уже й ранок, а вин не йде! – бормочет сам с собою старый путник. – Не сплят стари очи…
Старик останавливается и с удивлением осматривается – где он?
– От, старый собака! Де се я бреду?.. Чи не до шведа втрапив? – изумленно спрашивает он самого себя, наткнувшись почти на самый холм.
Из-за холма опять показывается шапка и ствол мушкета и украдкой двигается к задумавшемуся и опустившему к земле голову старику.
– Ох, лишечко! Та се ж батько Палий! – невольно вскрикивает шапка с мушкетом.
Старик вздрагивает и оглядывается, не понимая, где он и что с ним…
– Батьку! Батьку ридный! – радостно говорит шапка с мушкетом – не шапка, а уж целый запорожец в желтых широчайших китайчатых штанах.
– Та се ты, сынку? – изумляется старик.
– Та я ж, батьку, – я, Голота… – и он бросается к старику. – Так вы живи, не вмерли там?
– Живый ще, сынку… А ты що?
– Та у шведа с запорозцями.
– У шведа? О, бодай тебе!
– А вы, батьку?
– Я в царя – вин мене с Сибиру вызволив…
Вдруг со стороны, где расположен был шведский лагерь, что-то грохнуло, стукнуло и покатилось в утреннем воздухе, отозвавшись эхом и в Полтаве и за Ворсклой. Голота и Палий встрепенулись. Это пушечный выстрел – вестовой сигнал к наступлению, к битве.
– Тикайте, батьку! Тикайте хутко до себе, а то вбьют! – торопливо говорит Голота. – Тикайте до царя, а мы вси запорозци до вас перекинемось от бисового шведина…
На первый грохот ответили в других местах. Ясно, что шведы начинают… Голота скрылся за холмом, а к Палию с другой стороны, от московского войска, подскакал, держа в поводу другую оседланную лошадь, какой-то казак… То был Охрим…
– Сидайте, батьку, на коня, бо вин, проклятый, сдается, кашу варити зачина.
И он помогает старику сесть на лошадь… Не тот уже это Палий – сам уж и на коня не сядет…
Битва действительно зачиналась… Карл не вытерпел: надоело ему лежать в постели да слушать сказки Гультмана о Рольфе Гетриксоне, слушать ворчание старого слуги да ждать – ждать, пока заживет эта проклятая нога. А между тем лазутчики из казаков донесли ему, что царь со дня на день ждет двадцатитысячного калмыцкого корпуса… Где ж тут ждать!
– На пир, на пир кровавый, мой храбрый Реншильд! – метался больной король в бессоннице. – На пир, мой мудрый гетман! Повторим Нарву!
Рослые драбанты вынесли его из палатки на качалке и внесли на высокий курган.
– Вот здесь и дышится легче… Сна мне нет… но под победный грохот пушек и под победные клики моих богатырей я усну в этой качалке, как под колыбельную песню… Несите же смерть врагам, а мне – мой сон.
И он в горячечном жару махнул рукою – и грохнула вестовая пушка, за ней другая, третья…
Как из земли, из палаток, из-за шанцев, из-за холмов и из рвов вырастали люди и смыкались в стройные ряды, ряд к ряду, колонна к колонне, словно живые параллелограммы, покрытые синею краскою – это утренний бледноватый свет падал на синие груди шведских войск, строившихся в колонны и развертывавшихся внизу по равнине перед лихорадочно блестевшими глазами железного полководца в горячке. Свет уже отражается на оружии, на копьях, на латах; а по бокам, словно разноцветная бахрома, нестройно, но внушительно волнуется и строится конница на нетерпеливых конях: это малороссийские Мазепинские войска, сильно поредевшие казацкие полки в своих невообразимых шапках и разноцветных кунтушах, и дикое, нестройное, но страшное и пугающее глаз этой самой нестройностью, запорожское «лицарство», пестрое до боли глаз, разношерстное, богатое и бедное, цветно разукрашенное и ободранное как липка, на конях всевозможных цветов, как цветы этого полтавского поля, уже притоптанного там и сям конскими копытами.
Когда Карл махнул рукой и откинулся на своей качалке, с холма, как бешеные, понеслись вестовые, его дружинники и казаки к отдельным командирам и частям войск, а за ними окруженные своими штабами спустились сами военачальники – Реншильд, Левенгаупт, Гилленкрук с одной стороны, и Мазепа, Орлик, Костя Гордиенко – с другой.
В то время, когда войска смыкались в ряды и передвигались, как огромные синие шашки по неровной шахматной доске, артиллерия, расположенная на холмах, бороздила воздух и взрывала землю ядрами, выбрасывая огромные клубы белого дыма, как будто бы это дымилась и курилась вздувшаяся холмами и пригорками земля. Впереди всех, как стройная стая волков перед овцами, двигается отборный легион Карловых дружинников, в блестящих рыцарских латах, с блестящим оружием, на отборных, привычных к бою, словно к игре, конях. Виднеется и коренастая фигура Гинтерсфельда и рядом с ним жиденькая фигурка юного принца Макса.
И Мазепа, бледный, сумрачный, сосредоточенный, подъехал к своим полкам и, указывая на Полтаву, где маковки и кресты церквей уже золотились веселым солнышком, сказал:
– Туда, хлопци!.. Там ваше добро, ваши жены, ваши дети! Вызволимо их из московской неволи, бо московска неволя гирша неволи турецькои! Вызволимо Украину неньку!
И вечно серьезный Орлик тоже бледен… «Черт их несет на эту Полтаву!» – думается ему нерадостно. «Обломаем мы об нее последние зубы… а все этот старый дьявол!»
И Костя Гордиенко, «батько кошовый», подъезжает к своему «товариству» – к запорожцам. Все готовы к бою: шапки насунуты на самые очи, чтоб на скаку не спадали, чубы расправлены, мушкеты и ратища наготове: только гикнуть да гаркнуть – и пошли в сечку чертовы дети, пошли задавать москалю резака да чесака знатного.
Маленькие глазки у батьки кошевого веселы, радостью и отвагой светятся; курносая «кирпа» так и раздувает ноздри – мушкетного дыму нюхать хочет; усища подобраны, за плечи закинуты, словно косы девичьи, чтоб не мешали казаку «колоти та стриляти, та у пень Москву рубати»…
И Голота тут. Но это уже не тот Голота, что когда-то в Павалочи пропил штаны и сорочку и ходил голый, что бубен, в чем мать родила, плачучись московскому попу Лукьянову на свое сиротство, на то, что его мастерицы Хиври не стало – ясны оченьки грошами медными закрыты, белы рученьки накрест сложены, черны брови и уста щебетучие да ноженьки ходючие землею присыпаны… Нет: этот Голота уже на добром коне, в желтых шароварах, не пьян, а такой задумчивый, «сумный та думный» – думает, как бы все «товариство» от проклятого Мазепы отвернуть, да до старого батька Палия повернуть… Широкое дело задумал Голота, большое – удастся ли до доброго конца его довести?
Тут и дядько Задери-Хвист. И он думает то же, что казак Голота думает; Голота успел шепнуть ему, что батько Палий жив, что царь воротил его из «Сибиру», что он будет биться с «проклятою Мазепою», так не дурно б было «бидным невольникам» – казакам – махнуть до батька Палия, «бо дуже добрый батько, щирый козацкий батько, не смердит лядским духом, як просмердив Мазепа».
И дядько Тупу-Тупу – Табунец-Булатный тут. И он думает заодно с Голотою и с дядьком Задери-Хвистом. У батьки Палия было бы лучше, чем у проклятого Мазепы. Да и пани-матка бывало позволяла казакам тихонько от старого погулять в поле, ляшков-панков пощупать по панским хоромам да жидовские капшуки порастрясти… Надо – надо перемахнуть до батька Палия…
И загремело же, загуркотало все поле, когда Москва заговорила из своих пушек. Видно, как они, черные, зевластые, словно старухи какие пузатые, стоят окарач на холмах да рыгают в шведа и в казаков дымом и огнем пекельным да ядрами с картечью… жарко бьют!
Но что это несется вдоль рядов московского войска, такое большое, словно дуб, либо явор на коне? Фу! Какое большое да страшное. И конина под ним страшенна… Да это же сам – сам москаль, самый большой и старшой из всех москалей – это батько москалячий, царь московский… У! Какая детина здоровенная! – дивуются казаки-мазепинцы.
– А за ним – казакам это видно с высокой «могилы», – за ним трюх-трюх кто-то – невеличек, сгорбленный, и чуб и ус серебрятся на солнце… Не поспевает за царем – куда поспеть!.. Да это, братцы, сам батько Палий – он, он, родимый, он, дедусь добрый!.. – Так и задрожало сердце у казаков, у тогобочных да у охочекомонных при виде их любимого дедуся.
Битва страшно разгорается. И швед крепко напирает на москаля, и москаль на шведа; в одном месте сшиблись ряды, в другом сшиблись – уж сотни валяются по полю мертвых, раненых, с перебитыми и переломленными костями, с размозженными головами… Сшибутся – сшибутся, смешаются в кучу, а там разойдутся, живые, побросав мертвых, – а все ничья не берет… Ряды опять расходятся.
А царь, проскакавши перед рядами, остановился, снял шляпу и перекрестился на полтавские церкви. Перекрестились и ряды, несмотря на адский огонь шведской артиллерии и пехоты…
– Дети мои! Сыны России! – громко, голосно сказал царь, да так голосно, что ни гул орудий, треск и лопотание ружей не в силах были заглушить этого голоса. – Помните, что вы сражаетесь не за Петра, а за государство, Петру врученное… Вы сражаетесь за свои кровы, за детей, за Россию; а о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила Русь, слава, честь и благосостояние ее!
В этот момент пуля с визгом пронизывает его шляпу. Он снимает шляпу и снова крестится.
– Борис, и ты, Александр! – говорит он Шереметеву и Меншикову. – Думайте только о России, а меня забудьте… Коли я нужен для блага России, меня спасет Бог… А убьют – не падайте духом и не уступайте поля врагу… Изгоните шведов из моего царства и погребите тело мое на берегах моей Невы – это мое последнее слово!
Опять запищала пуля и впилась прямо в грудь царя, на которой висел золотой крест.
– Государь!.. – с ужасом вскрикнул Меншиков.
– Ничего, Бог хранит меня – пуля, как воск, сплюснулась…
И с обнаженною шпагою царь скачет вперед.
Увидев царя впереди всех, Москва буквально осатанела: с каким-то ревом бросилась она по полю, спотыкаясь через трупы товарищей и врагов.
Карл видел все это с холма и задрожал всем телом.
– Несите меня туда, к этому великану! – закричал он, порываясь броситься с носилок.
Драбанты сбежали с холма, подняли носилки с королем выше головы, словно плащаницу, и понесли вдоль войска…
И перед синими рядами
Своих воинственных дружин,
Несомый верными слугами,
В качалке, бледен, недвижим
– вот каким, по словам поэта, явился он впереди своих дрогнувших было и остановившихся синих, уже окровавленных рядов… Но эта плащаница шевелится, приподымается… Карл ожил, и…
… слабым манием руки
На русских двинул он полки.
Шведы, увидав своего идола, бледного, простирающего вперед руки, как бы с желанием схватиться с тем великаном, что издали виднелся на белом коне, – шведы пришли в звериную ярость и сделали нечеловеческие усилия… Но и они встретили то, чего не ожидали: они увидели перед собою —
Уж не расстроенные тучи
Несчастных нарвских беглецов,
А нить полков блестящих, стройных,
Послушных, быстрых и спокойных,
И ряд незыблемый штыков…
Но как ни незыблем был этот ряд, как ни стойки были московские рати, как ни старались расстроить шведские, словно скованные цепями колонны, малороссийские полки, врезывавшиеся в самую гущину шведского живого бора, – ничего не помогало… Страшная плащаница, носимая над головами сражающихся, осиливала…
Московские ряды дрогнули… Дрогнуло левое крыло армии, где командовал Меншиков… Как полотно побелел «счастья баловень безродный, полудержавный властелин» и выстрелил в первого попятившегося назад…
Но в эту минуту, откуда ни возьмись, Палий, обхватив руками шею коня, чтоб не упасть, сопровождаемый Охримом, без шапки, с развевающимся по ветру, словно грива, сивым чубом, с громким воплем, врезался в правое крыло шведского войска, которое составляли запорожцы…
– Ой! Дитки! Дитки! – отчаянно кричал он с плачем. – Убийте вы мене, диточки!.. Убийте старого собаку! Я не хочу, щоб мои очи бачили поругу Украйны… Поругав ии лях, поругав татарин – теперь швед наругается…
– Палий! Палий! – прошло по рядам.
– Не дамо на поругу Украину! Не дамо ни шведу, ни татарину! – зазвучал зычный голос Голоты.
– Не дамо! Не дамо! – дрогнуло по всему правому крылу.
И в одно мгновение несколько сот запорожцев, повернув коней, с тылу врубились в шведские ряды. За ними махнули другие сотни… Шведские разомкнулись, расстроились…
– Зрада! Зрада! – закричали мазепинцы. – Запорозци своих бьют!
– Бейте шведа! Рубайте Мазепу проклятого! – отвечали запорожцы.
Дрогнувшие было московские полки ободрились, ринулись в гущину смешавшихся шведских полков, и началась уже резня: в русском солдате сказался мужик – он начал буквально косить, благо не привыкать стать ни к косьбе, ни к молотьбе… Другие колонны и конница, разрезав надвое шведский центр, отбросили шведского главнокомандующего фельдмаршала Реншильда от остального войска и вогнали в Ворсклу часть его пехоты…
У старого Реншильда опустились руки, когда он увидел себя отрезанным. Когда к нему подскакал Меншиков, упрямый варяг, расстрелявший все свои патроны, с отчаяния переломил свою саблю об луку седла и бросил ее в Ворсклу. Принц Максимилиан хотел было броситься с кручи, но его удержали, и этот безумный мальчик сдался только тогда, когда Голота выбил у него из ослабевших рук саблю.
Карл, видя гибель своего войска, велел в последний раз нести себя вперед как знамя, но Брюс, командовавший русскою артиллерией и давно с одного холма наблюдавший в зрительную трубу за королевскою качалкою, велел направить на нее разом несколько пушек – качалка была подбита, драбанты полегли под нею – и несчастный Карл вывалился из своей последней победной колыбели на землю… Но он и не застонал от боли, хотя рана на ноге открылась и из нее хлынула кровь.
– О, великий Бог! Швеция упала! – закричал Левенгаупт, все еще державшийся на левом крыле, и поскакал было к королю.
Но в это время богатырь Гинтерсфельд, соскочив с коня, словно ребенка, поднял с земли своего побежденного, плавающего в крови бога и, снова сев на коня, поскакал в лагерь, прижав к груди бесчувственного героя, словно кормилица или мать свое детище.
– Дивись – дивись, дядьку! – закричал, увидав эту трогательную сцену Голота, который вместе с казаком Задери-Хвист гнал через поле шведских пленных. – Дивись бо, дядьку! От чудесия!
– Та що там таке! – лениво отвечал тот.
– Та он той, що с тобою боровсь, комусь цицьки дае!
И Голота искренно захохотал, не догадываясь, что это, точно ребенка у груди матери, спасают короля. Голота и погнался бы за этим «чудным» шведом, что другому «цицьки дае», да ему нельзя теперь отлучиться от пленных, а заряды все расстреляны; остался пустой мушкет да сабля – издали ничего не поделаешь… Голота свистнул только: «Ну-ну… от бисовы сыны!»
От всего левого крыла шведской армии остались отдельные отряды и кучки пленных, которых, словно разогнанное оводами да слепнями стадо, гнали к Полтаве то малороссийские казаки и запорожцы, то московские рейтары. Правое крыло, увидав упавшего короля и не видя главнокомандующего, старого рубаки Реншильда, также дрогнуло и попятилось назад, несмотря на то, что оставшиеся верными Мазепе запорожцы с кошевым во главе, носясь по полю, словно хвостатые дьяволы, гикая и ругаясь, вырывали лучшие силы из рядов русской армии. Мазепа, Орлик и Гордиенко с самыми отчаянными головорезами – запорожцами прорубились было через все правое крыло русской армии, но, не видя ни короля, ни Реншильда, ни Пипера, ни Левенгаупта, поворотили к степи и скрылись в облаках дыма и пыли.
– Или – или – лама самахвани! – как-то застонал Мазепа евангельскими словами, с горя и стыда припав к гриве коня своею старою, обездоленною головою: ему казалось, что там, в красующейся зеленью Полтаве, на возвышении стоит Мотренька и ломает свои нежные ручки. – Боже мой! Боже мой! Вскую же ты оставил меня!
– Но еще не «свершишася», пане гетьмане! – мрачно сказал Орлик. – У нас за пазухою Крым и Турция.
Мазепа безнадежно махнул рукой… Что ему Крым, что ему Турция, что ему теперь вся Вселенная!
…………………………………………
Умолк гром пушек. Тихо на полтавском поле: слышен только стон раненых и умирающих да говор людей, копающих громадную могилу, такую громадную, в которой можно было бы похоронить и погибшую, хотя незавидную, славу Карла XII, и позор Нарвы, и тысячи жертв обоюдных увлечений и ошибок, – похоронить и всю старую византийско-иконописную и татарско-суздальско – московскую Русь с ее невежеством и безобразием. Но напрасно думает царь, что он выкопает такую могилу: еще в недрах Русской земли не образовалась та залежь железной руды, из которой можно было бы добыть достаточно железа на выковку лопат для вырытия задуманной Петром могилы…
Но могила все-таки выкопана – не та, а полтавская – и в нее свалено все, что мешало торжеству виктории.
И началось торжество тут же, на кровавом поле. Из всех торжеств, до которых люди всегда такие охотники и которые всегда окупались реками слез и крови других, не принимавших в них участия, – это полтавское торжество было одной из величайших исторических ошибок Петра: для того чтобы сказать громкую для учебников русской истории фразу, для того чтобы выпить кубок «за здоровье своих учителей» – шведов и получить на это глупый ответ Реншильда, «что хорошо же-де отблагодарили ученики своих учителей» (точно не для них сказаны были давно-давно великие слова: «Обнаживший нож от ножа погибнет»), – для одного этого торжества пожертвовали целым столетием труда и развития двух огромных государств… Петр, у которого закружилась голова от неожиданной виктории, торжествуя ее, забыл о железном варяге, который, не будучи никем преследуем, успел скрыться и тем положить начало новой великой северной войне, продолжавшейся ровно сто лет и стоившей стольких жертв и таких потоков крови, что в ней могли бы потонуть не только все участники торжества, но и те, которые не участвовали в нем…
Эту громадную историческую ошибку Петра как нельзя проще и правильнее оценил Голота, который, нализавшись на радостях до положения риз, сказал своему приятелю, казаку Задери-Хвист:
– Дядьку! А дядьку! Чуй-бо!
– Ну, чую.
– Москаль-то?..
– А що?
– Наш брат, козак, пье, коли в его дила нема, а москаль тоди й пье, коли у его дило за пазухою… От – що!
Действительно, в то время, когда русские пировали, расстроенные боем части шведского войска, избежавшие смерти и плена, и казацкие полки Мазепы, равно запорожцы, снова сплотились, но, не смея вступить во вторичный бой, решились идти искать счастья за Днепром, а в случае новых неудач – нести свои обездоленные головы в Турцию.
Они так и сделали. Очнувшемуся от обморока Карлу перевязали рану. Сначала он долго не понимал, где он и что с ним; но злая память не замедлила воротить к нему то, что он желал бы навеки забыть: он вспомнил этот день – первый день в своей жизни, когда от него отвернулось счастье. Когда же он узнал, что старый Реншильд, юный Макс, старый Пипер и другие генералы в плену, что и любимец его Адлерфельд, писавший историю Карла, раздробленный русским ядром, уже не может продолжать своей истории, – несчастный безумец воскликнул:
– Те убиты, а те в плену – в плену у русских! О, так лучше смерть у турок, чем плен у этих варваров!.. Вперед! Вперед!
Его посадили в коляску.
Наступала ночь. Полтава чуть-чуть виднелась в вечернем сумраке, как тогда, когда около нее горели купальские огни. Печальный кортеж двинулся степью в безвестную даль. Мазепа со своим штабом ехал впереди, открывая шествие и руководя движениями шведского войска… Как хорошо была ему знакома эта широкая чумацкая дорога – этот «битый шлях» мимо Полтавы до Днепра и до самого Запорожья, где провел он молодость! Как далека теперь казалась ему Полтава, в которой он оставлял все, что было самого дорогого в его жизни! А между тем, вон – она тут, под боком, да только дорога к ней заросла теперь для него могильною травою…
Вон взошла звездочка над Полтавою… Может быть, и те добрые, ласковые «очинята», что когда-то на него с любовью глядели, тоже теперь смотрят на эту звездочку…
«О, моя Мотренька! О, мое дитятко! Кто-то закроет навеки мои очи старые на чужой стороне?.. Не в твои чистые, невинные очи гляну я в последний раз моими очами бедными, закрываючи их в путь в далекую-далекую, безвестную дорогу»…
– Тату! Тату! Ох, таточку! – послышался вдруг стонущий голос в стороне от дороги. – Ой, тату! Возьми мене с собою!
Мазепа задрожал всем телом – он узнал, чей это был голос… Он поскакал туда, где слышался этот милый голос, и через минуту казаки увидели гетмана с дорогою ношею на руках.
– От нам Бог и детину дав, – добродушно говорили казаки, с любовью посматривая, как старый гетман, утирая скатывавшиеся на седые усы слезы, усаживал в свою походную коляску что-то беленькое да бледненькое такое, да жалкое…
– Ну, теперь хоть на край света!.. – Только край этот для Мазепы был недалеко, очень недалеко…
XVI
Трогательно, хотя мрачными красками, описывают шведские историки – современники[5]5
I. A. Nordberg. Historie de Charles XII. 4–e Lf Haey. 1728, 315–339. G. Adlerfeld. Histore de Charrles XII, 1741, t. III, стр.293–315, и продолжатель и издатель Адлерфельда, убитого под Полтавой, его племянник Карл Максимилиан Адлерфельд. – Прим. авт.
[Закрыть] это печальное бегство двух злополучных союзников, с именами которых связано в истории так много трагического и поучительного. Один даже говорит, что если бы эти злополучные союзники – Карл и Мазепа – соединились раньше, то «нам бы, может быть, довелось увидеть украинское величество из династии Мазепид и великую Шведскую империю на севере Европы!»
Напрасная надежда! История не признает этих «кабы» да «если бы».
Страшные дни потянулись для Мазепы, не говорим – для Карла: этому оставалась еще молодость, у которой никогда нельзя всего отнять, которую никогда и никакими победами нельзя ни победить, ни ограбить; у Карла оставалось еще целое царство где-то там за быстрыми реками, за безлюдными степями, за синими морями да за высокими горами. А у Мазепы ничего не оставалось, кроме старости да воспоминаний, да вот еще этого дорого существа, грустное личико которого выглядывает вон из той богатой коляски, безмолвно созерцая неизмеримую безвестную даль, расстилающуюся перед очами. Что-то с ней будет, когда его не станет на чужой стороне, да и как ему самому покинуть это сокровище, хотя бы для загробной вечной жизни?.. Бог с нею, с этой вечной жизнью без земли, без этого жаркого голубого неба, без этой степи, выжженной солнцем, без этих милых глазок, по временам с нежною грустью останавливающихся на нем, на бездольном старике, лишенном всего! Бог с нею!
«Вот и опять едем искать моей могилы в неведомой степи», – думает Мазепа при виде бледного личика Мотреньки, выглядывающего из коляски, – и ему вспоминается тот день в Батурине, когда он в первый раз узнал, что Мотренька любит его. Но он не выдал ей своих мрачных мыслей – не хочет огорчать ее.
– Дитятко мое! Ясочко моя! – тихо шепчет он, подъезжая к коляске.
– Таточку мий! Любый мий! – страстно молится она, с тоскою замечая, как этот последний год и этот последний, вчерашний день состарили ее милого, ее гордость, ее славу, и придали что-то мягкое, детское его вечно задумчивому лицу… И она любит его еще больше и беззаветнее, чем когда-либо любила. А ему вдруг в безумную старую голову лезет шальной стих, который он любил повторять о себе еще пажем, когда на виду великих панов, при дворе короля Яна-Казимира он так беспутно ухаживал за всеми панями и паненками:
Цо ж вам шкодзи, вельке паны,
Же сен-кохам, же – м коханы?
Кажда пенкна для мне рувна,
Кедым здровы, гожи, млоды —
Чи шляхцянка, чи крулювна,
Чи ли жона воеводы,
Чи москевка, чи русинка,
Чи Маруся, Катаржинка,
Чи ли влошка, чи черкеска,
Вишневецка, чи Собеска,
Чи то Дольска, чи Фальбовска…
Он сильно пришпорил коня и поскакал вперед, мимо коляски короля, завидев вдали синюю полосу Днепра, где они должны были переправиться на тот берег, за пределы Гетманщины.
«Прощай, мое славное царство!» – колотилось у него в сердце.
Авангарды из малороссийских казаков, запорожцев и шведской конницы подскакали к берегу. Шведов поразило умение и неустрашимость казаков, тотчас же спешившихся с коней и вместе с ними бросившихся в воду. Понукая лошадей, с криками, «жартами», смехом, свистом и руганью эти степные дьяволы, держась за хвосты своих привычных ко всему четвероногих товарищей, пустились вплавь, вспенив всю поверхность реки, усеяв ее то фыркающими лошадиными мордами, то своими усатыми и чубатыми головами в косматых шапках.
Подъехали к берегу и коляски, из которых в одной лежал, страшно страдая от раны и зноя, сломленный упрямою судьбою упрямый король – варяг, а из другой выглядывало задумчивое прелестное личико Мотреньки. Солнце клонилось к западу, хотя все еще жгло невыносимо.
Мотренька вышла из коляски и спустилась к самому берегу Днепра, припала коленями на камень, торчавший у самой воды, сбросила с головы белый фуляр, защищавший ее от солнца и, зачерпывая пригоршнею воду, стала освежать ею и пылающее лицо, и усталую от горьких дум голову… Намоченная коса стала так тяжела, что ее нужно было расплести, чтобы выжать из нее воду, и Мотренька, усевшись на прибрежный валун и выжав косу, стала приводить в порядок свою голову.








