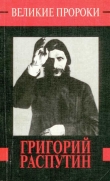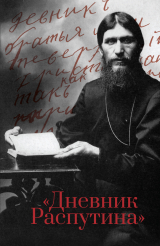
Текст книги "Дневник Распутина"
Автор книги: Даниил Коцюбинский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Кто сердцем искренне верит в Бога, тот и в черта верит… И как не хитри, не лукавь, а черт бок о бок ходит с Господом Богом.
Вот.
Мама не токмо верит в Бога, а вся ее чистая душа в этой вере живет, и потому ее спугнуть так же жалко, как неоперившегося птенчика. И наши святители сие знают. И часто неразумно ее пугают, смущают ея покой…
Было это давно. Мама сидела с Маленьким на руках в саду у себя; ан, вдруг, большой черный орел над ея головой пронесся, да так близко, что Мама почувствовала, будто на нее ветром подуло от взмаха его крыльев… Мама вскрикнула…
А когда ввечеру спросила у свово духовника – был тогда Феофанушка304, что сие обозначает? То он сказал: «Надо молиться, ибо черный орел – вестник смерти; надо молитвой отбить сию страшную весть».
Уже к ночи с Мамой такой был припадок, што ея профессор Бот[кин] сказал, что трудно поручиться за нее…
Она билась, как подстреленная чайка, и все шептала: «За мной, это за мной прилетал он!» Ночью вызвала меня Аннушка. Когда я пришел к ей, то думал, што уже запоздал – такое у ей было страшное лицо. Гляжу на Аннушку и спросить боюсь. Только чувствую в душе своей, что Мама жива. Ея дух всегда со мной… Думал иное: не потеряла ль она разума?.. – А Аннушка чуть шепчет: «Иди, иди скорее. Доктора в тревоге. Папа в ужасе…»
Вошли…
Всех выслал… Положил руку на голову… Уснула… и, засыпая, чтой-то шептала, да мне не понять. Спрашиваю у Аннушки: «Чем она?» Говорит: «Спрашивает у тебя: к жизни, к смерти этот сон?»
Стал гладить ее и говорить ей такое веселое, такое хорошее, что у ее лицо, как у младенца, заулыбалось. Заснула. Проспала часа два.
Велел Зати305 принести ея питье, когда выпила, спрашиваю: «Откуль такое? Кто и как напугал?»
Оказывается, никто не знает, она даже Аннушке не сказала… Рассказала мне и про орла, и про то, как святой дурак разъяснил…
Рассердился я и прикрикнул на нее (уж я в то время стал яво отваживать от Папы и от Мамы): «Он не духовник, а злой каркун… Завидные глаза яво, – черный орел это не вестник смерти, а вестник великой Царской радости! Случится чудесное твое избавление от тех, кто от тебя и от Солнышка заграждает милость Божию. Ен есть знак хороший!» Опосля еще, как Мама совсем успокоилась, то сказал ей: «Помни таку мудрость: “Дураку и ворогу николи сна не рассказывай!”» Вот.
И вот теперь, когда Мама, испугавшись злого карканья Илиодорушки, впала в тоску, то я ей напомнил давнишнее про черного орла-вещуна…
Так надо завсегда ее оберегать и от божеского, и от нечистого. Вот…
А Бадьма, мошенник над мошенниками, а ум у него просто сказать необычайный!
После всей этой истории, когда он понял, что ужо Гермогену и Илиод[ору] – крышка, то стал ко мне ластиться. Написал Аннушке: «Теперь, когда посрамленные враги дорогого нам Старца далеко, должен сознаться, что мне стоило большого труда – унять страсти!.. Но теперь, Слава Всевышнему, все уладилось. И нам [надо] помнить, что политическое руководство святым Старцем теперь всецело лежит на Вас и на Вашем глубокочтимом батюшке… Ибо он – Старец, Богом избранный Друг Высоких Особ… и на ком остановится его глаз, тот и будет приближен… а как весь мир полон хитрых и недобрых людей, которые мнут осилить Святого Старца, то мы обязаны руководить им. – А посему довольте обеспокоить Вас иметь со мной беседу насчет моего друга графа Копн… [Капниста]306, коему могла бы быть поручена концессионная работа по Сибирской ветви. Сей человек не только большого ума и деловитости, но и поистине “царский и православный”..»307
А от этого графа-мошенника, как узнал от Витти, – Бадьма взял 50 козырей за то, что свез его к нам, да еще условился, что будет с ним, что будет с ним в паях работать, ежели што…
А посему я сказал Аннушке, чтобы не торопиться, покуль я не поговорю с Виттей… обо всем.
Опять лезет БадьмаБ[адмаев] на меня рассердился, что я не допустил этого продувного Капниста к этой железной дороге. А мне сказал Виття, что он своих даст, и дал.
А когда я передал Аннушке доклад, составленный Виттей, и в ем выступил генерал Райбот [Рейнбот?]308, то Б[адмаев] ошалел. Стал блохой прыгать передо мной и кричать: «Как, што, почему такое? Ежели я, – грит, – боле тридцати лет над этим делом стараюсь, вдруг тебе посунули этого генерала…» Давши покричать Б[адмаеву], я сказал: «А теперь погодь! Чего? Тебе твой гнилой граф Коп. [Капнист] дал 50 козырей?»
Молчит.
«Дал… так вот, тебе мой генерал даст сто и полета… Полета – кинь свому графу в рожу, а сто получай… Потому тут без тебя ничего не выйдет!»
Сразу отошел желторотый… Даже засмеялся! – «А кто, – спрашивает, – тебя так навострил?»
«То-то, – говорю, – ты думаешь, што я без тебя – совсем пропащий мужичок… То-то!»
Как ни приставал, косоглазый, я ему про Виттю ни слова.
Только от него как скроешь?
Тетрадь 8-ая
Был у меня Бадьма… сказал, что надо бы подобраться под Калин[ина]. Этот дружок с дудочкой собрал слишком много бумажек… Все боле обо мне. Там немало брехни Илиодорушки…
Дело в том, что он откупил от Вол…309 (в секретарях был у Хвоста) – сводку.
В той сводке (филерская и еще секрет) 80 листов. И там все, што сволок в одну кучу этот распоганый [Рае…?]310 Там и то, что он получил от Ил[иодора], и еще боле, што собрал через мою челядь…
Эти похабники, замест того, штоб меня стеречь от всякой напасти, все списывают, особо по бабьему делу… Ну и кажна копейка, откуль пришла, обо всем они доходят.
И вот.
Говорит Бадьма, только один есть человек, который весь этот мусор, все бумажки соберет и передаст нам. Это Курлов…
Человек, видать, совсем из разбойников, а придется с им иметь дело. Так.
Вот Бадьма передал для Папы (ране чрез Маму) список тех, коих он хатит в Государственный Совет…
Показывал Ваньке311.
Он говорит, почитай, с половину откинуть надо, потому, хоча они и правые, а это покеда до стула… а там сразу пойдут с Гучковым тюкаться… и он их здорово обделает под свой колер…
Так он сказал, не гож кн. Щербатов312, он в студентах сицилистом был… ну, он-то из по[ля]ков, этот граф Ан… [Ал..?]313 – очень, говорят, занозистый старик – одно слово, язва. А Сам, грит Ванька, Кал[инин], хоча и считается нашим, а нас всех коли [на то] пойдет – съест…
Одначе всех не выкинешь. Одначе Ванька велел тройку откинуть: князя этого Щер[батова], ну и дурака Тах-ни…[?]314 прямо сказать, продажная шкура.
Скажу Бад[маеву]… пущай список переделает.
3/4-16 [15?] гБадьма был. Сказал: необходимо наискорейча направить дело с Восточным банком.
В этом деле, окромя яго, бьются еще двое, каки-то банкиры. Приезжал еще какой-то Жданов315; банкир. Сам из мужичков рязанских, но такая пройдоха.
«Вот, – говорит Бад[маев], – этот дорогой нам человек. Сам выходец из недров Земли, а посему мол, понимает, что нужно рассейскому мужичку… Надо, – говорит он, – штоб Рассейский мужичек мог легко податься на Сибирь, где и земли поболе, и земля еще плодлива. И вот, – говорит, – этот наш банк-то мужчичку глаза откроет».
«Слухай, – сказал я этому банкиру. – Ты гришь: "я из мужичков”. И я, Григорий, тоже из мужичков… И вот гляди-ка: на тебе одета така шуба, што мужику хорошее хозяйство поставить может. Ох, хорошее! И землицы, и скота, чего только не купишь? А… А на мне, вот, тоже – шаровары и рубашка така, што можно лошаденку и коровушку справить.
Вот.
Где же нам-то под этой шубой, да в такой рубашке сермяжное горе наскрозь понять? Где? Тебе в твоей шубе тепло, в моей шелковой сорочке вша не заведется… Значит, отошли от мужичка… И банка-то не мужицкая, а господская будет… на ем, на банке, господа наживать будут… у мужика, што ж, туша пухнет с голодухи, для нас с тобой старается, и нам то ж буде!»
«Дак ты, што ж, Григорий Ефимович, не согласен?»
«Не, – говорю, – согласен. Плати не за мужика, а плати за это дело».
«Значит, дело, – грит, – платить буду! Сколь хошь?»
Сговорились на 100 козырях.
Прошение передал Аннушке.
7/XПрислал Бад[маев] [панка] этого. Никак из поляков. Коростовец316. Так на коросту и смахивает.
Все терся около баб… Через бабу и ко мне пришел. Привела его Вобла.
А по мне, самый ледящий мужиченко тот, что через бабу дорогу пытает.
Ну, вот, хатит Бадьма яво в тов. Министр. Иностр. Дела…
Говорит: «Парень знающий, из-под нашего приказу не выйдет».
А мне, кажись, ростом мал на тако дело.
Чегой-то все жмется, тошно кто по затылку надавал. И еще мне сдается, што Бад[маев] из-за его старается, потому што ен, как будто за яво сродственников будя стараться!
Тоже Бад[маев] жадный до… Старик!
Опять чего-то, видать, надумал про своих косоглазых… Все за для ради их старается…
А чего надо – яму?
Говорил с Ваней. Нет, Короста не годится. Жидковат.
Ваня другого называл, князя Кур…317 Тот прямо с того и начал, што за хлопоты, мол, можем хоча сейчас внести.
Он ране действовал через Клопа. Да, тот, поганец, даром с яво тысяч с десяток в[ыма]нил, а дале свово кабинету не пошел…
Я так думаю, што нам этот князек пригодится.
Пущу его по торговой части…
Буду об ем иметь разговор.
8/ 10Опять Бадь[ма] хлопочет. Хатит ген. Сахарова318 пустить по военной линии взамен Григ…319!
Говорит, этот Сахаров – достойный генерал. А мне, сдается, што ен у Бад[маева] лечился, да не вылечился. Не иначе, как с дудочкой.
Глаза так и бегают, как у голодной крысы.
Вороватый парень, да еще с фаниберией.
«Я, – грит, – ежели пойду, дак сам от себя, а не чрез Г. Е.»
Мне, как сказали, я и сказал: «Люблю девку за норов… Одначе, спросил у Бад[маева]: «Как же он пойдет, ежели я не свелю ему и доступу дать?»
Вот.
Попрыгал, попрыгал, одумался.
Пришел пардону просить.
«Я, – мол, – к тебе, Г. Е., не то штоб с просьбой, а много наслушан, и пришел попросить, помолись за нас».
«А ежели так, – говорю, – Божий человек, дак ты, может, в монастырь к Иверской… там богомольцы – они за тебя помолятся… А мне недосуг».
Обиделся.
А я поклонился, да и ушел… оставил генерала, пущай подумает…
Отправил яго, одначе, думаю, што он наш, пригодится.
13/ IIМои сии записки, пока я живой, ни один живой человек, окромя Мушки, не увидит… Эх, кабы рука моя, как и ея по бумаге бегала. Каких бы слов не записал. И не те слова, што я царям говорю, они цари мне говорят… и не те слова, што говорят мне наши управители, которые как потаскушки тут кувыркаются… – А те, которы я и сказать должен; те слова, от которых их должно в жар кинуть… Вот…
Да – беда моя, што мысля моя, слово мое, а идет через чужи руки. Вот! Вот!
Пока слово скажется, то оно уже в другу краску окрасится… Вот…
А вот како дело было этими днями.
Пришел это Митя. Он парень малоумственный320. По сей части у меня доченька похитрей. А только Митя [неразборчиво] нутром же [неразборчиво]^.
Ну вот и говорит он мне-то…
«Вот, – грит, – тятя, како дело. Идет слушок такой, будто немец нас подкупом взять хатит? Будто большие на то капиталы пущает в ход?»
«Так, – говорю, – сынок, а дале?»
«А дале, – грит, – еще говорят, будто чрез тебя сей подкуп идет?»
«Так… ну и еще чего?»
«А боле, – грит, – ничего, дак это меня калупает. Што иной раз в зубы бы дал тем, што говорят… а иной раз и думаю, а што, ежели сему правда есть?..»
Сказал это он, а сам затрясся. Видать, нутро ответа ждет… – «Вот што, – говорю, – Митрий, – кабы не моя кровь, мог бы и не ответить… за таки слова, знаешь… не гл ад ют…»
«Знаю, – грит, – што ты в силе. Над генералами – генерал…»
«Так. Дак слухай:.. запомни сие, ежели меня не будет, сам вспомни. В своей башке, как в книге, – ответ запиши. Помни сие: скоро, ох, скоро… буде большой пожар. Огонь все сожрет. Увсе. У всех… грешных и праведных… умных и дураков… Потому такое вышло, што умные с дураками перепутались. Одни вверх, други – вниз… А внизу-то – боле, много боле внизу. Да и народ низовой лучше. Крепче. В самом соку… И то, тому, кто все время – внизу, пожар не страшен, голоду не боится, и в огне не сгорит… потому он внизу ко всему обвык… Он от голоду – краснеет, от холоду – злоднет.
Вот…
Будя, – говорю, – дело! И я так чувствую, што ужо ничем его не откинуть… Буде – пожар… а докуль мы еще ходим по земле, то пробуем, может, как-нибудь свою хату отстоим… Понимаешь, я так понимаю… што война дело лютое. Кровное дело. И в ней – ни правды, ни красы… а посему, што хошь делай, а ежели от этого побьют, попаганят… то сие тебе не в убыток, а в пользу… Говоришь, немец нас подкупить хочет… а што ж, кабы знать, што до пожару сие сделать… так дело…
Это ведь генералам, да попам надо, штобы война, штобы им поболе крестов и жалованья… а тебе вон, земли не прибавят… хату не построят, то-то… А еще скажу я тебе – немец умнее нас. И он-то понимает, што доле воевать никак не можно, а посему самое простое, дело… – кончить… А што, говоришь, капиталы большие тратять, дак, каки бы ни были капиталы, они яму дешевле обойдутся, чем така штука, как война… Вот».
«Значит, тятя… как же?»
«Да так. Надо нам войну кончать. Надо кончать. А то ее солдаты на войне, а бабы тут – прикончут. А што наш Папа-то… как козел в огороде уперся: “Хочу победного мира”.
А чем побеждать-то будем?..»
Ушел от меня сын, ничего не сказавши, а только ушел – врагом…
Как же я могу требовать, штобы чужие поняли, коли кровный нутром не чует… што мне этот немецкий подкуп не для того нужен, што деньги нужны… а по-другому… Разве я, греясь около Мамы, должен искать, откуль деньги взять, разве они сами ко мне не текут в карман? Эх!..
Ушел сын… а попозже, ночью, опять пришел… Хмурый. Весь с лица сменился. – «Вот, – говорит, – Отец, како дело. Я думал об твоих словах. Вижу, хоча ты и падкий на деньги, но оне к тебе легко идут. И тебе незачем их из такого поганого места брать!» – «Так! Так!» – обрадовался. Хоча вижу, хмурость с лица не сходит.
«Так вот. Значит, не из-за денег. Только…»
Тут он такое мне слово сказал, што совсем меня шарабахнул по голове, а сказал он такое, што ежели этот самый пожар, о котором я яму толковал, и не от войны вспыхнет, а от меня самаго… то есть не то штоб от меня, а против меня. Што, мол, всем я, как кость в глотке… што супротив меня весь народ… Што ежели я тому пожару причина?.. Тут-то… мне туго пришлось… И понял я, што ежели он поверит в такое, от его руки свою смерть приму… Вот…
Такая в нем лютая тоска… горе. Так горько ему… И тут вот сказал я ему: «Помни и понимай, сие понять надо, што николи, никогда ни в каки века, один человек – не мог быть причиной “такого пожару”. Што уже давно где-то угольки тлеют… А што либо я, либо другой… Будь то царь Государь али такой вояка, который все берет… либо такой, вот, как я… што нам ничего не сделать… Мы, может, только своим дыхом этот уголек раздуем…» и ящо сказал я Мите, што я – не враг народу… Не ворог тот, который хочет войне – конец…
Ушел парень растревоженный…
Вот.
30/4—16 гМеняю, меняю, а все нет толку! Не неделя – все новый министр, а все толку нет. Сгонишь подлеца – получишь подлеца, да еще из дураков. А тут еще Мама чего-то совсем задурела, чего-то ей не можется. Не спит по ночам, а не спавши чего только не надумаешь…
И вот надумала…
А вот ране, чем все рассказать про Маму – должен вернуться назад.
Это было в 1914 годе. Поганая девка меня потом ножом пырнула…321 Пока я по постели метался, тут недоброе надумали.
Получил от Аннушки известие, что очень тревожно. Приехала генеральша Рахманова322 вся в тревоге. Чего-то надо мной шепочет. Я с трудом разобрал. Я говорю: «Не убивайся. Дух мой здрав и тело буде здраво». А она: «Помолись, святой, о сыне… На войну идет… Один ведь… Один».
Тут я узнал, что война ужо должна начаться. Што ужо Папа велел мобилизацию…
А я… всем своим нутром чувствую: не надо войны, никак не надо. И тут же послал телеграмму: «Мама моя и Папа мои! Тоскует душа. Видит черную тучу. Видит кровь… Кругом слезы… сироты… калеки… много проклятий… От слез подмою стены… кровью зальют приют твово Младенца. Папа мой, – блаженны – миротворцы… нет мово благословения на кровопролитие… предвижу страшное…»323
Получив сию телеграмму, Мама в тревоге просила Папу: «Не надо войны», и тогда Папа тоже испугался и заявил, штобы мобилизацию остановить… потребовал, да сам-то, видно, растерялся324. Уже потом, приехав в город, я знал, што тут было: когда Папа заявил Сухомлинову325, што нельзя ли, мол, остановить всю эту канитель… он в страхе зубами заскрежетал… Ведь войну-то не цари, а генералы заварили… да… ан, тут, когда все, можно сказать, готово… стоп машина… а тут еще такое, што уже про мобилизацию приказ отдан, как же ее остановить… Прыгает енерал, што делать не знает…
Вызвал Толстопузого326: «Спасите, – говорит, – а не то нам великий конфуз, скажут – испугались… – и еще риск большой, што немец, не дожидаясь, кинется к нашей границе».
А Толстопузый и говорит: «Да, немцы, – мол, – можно сказать, наготове, только ждут… приказу…» – Он как раз из-за границы приехал – так по дороге, говорит, ужо видал, как немец двигает на нас силу.
Вот тут-то и вышла запятая…
Енерал Сухом[линов] говорит Толстопузому: «Поезжай, расскажи Царю-Батюшке, тако дело, што, мол, назад нельзя…»
А Толстопузый говорит: «Ужо мне успеть…»
Ну и порешили напустить на Папу иностранного министра Сазонова…327 А тот, побрякушка, и рад. Уж он Папу и так, и сяк, и этак… А еще пугнул Его тем, што, мол, Государственная Дума в таку трубу затрубит, ежели немец неожиданно, как снег в Петров день… што тогда уже всем деваться будет некуда…
Вот.
Он тут Папе таких страхов напел, што тот сразу подписал приказ об этой самой мобилизации. Он такой уж человек – подпишет, а потом к Маме: «Ужо готово!»
А как Она, в страхе, вскрикнет… што, мол, не надо бы!.. – Он как рак пятится… и, впрямь, не надо! да ужо сделано328. Так было в 1906 году329 с конституцией. Когда не особенно, Мама на него накинулась, а он жнется к стенке и шопочет: «Не надо! Ах, не надо! да ужо сделано!»330
Так и тут было…
Да тут еще одно вышло, об чем Папа ужо потом узнал. Уже получив мою телеграмму, Мама имела переговор с прин[цем] Генн.331, и тот ей ответил: «Сделай все, чтоб удержать Николая: тут выжидают!»
Мама с этой тайной вестью к Папе, а Он ей: «Поздно. Теперь, говорит, Воля Божья!»
Все это я узнал уже приехав в город. Когда уже война была в полном ходе…
И тут я решил: сделанного не переделаешь. И уже сказал маме: «Воля Божья!» И хоча ужо стал Маму подбадривать, но и сам ждал страшного. И чувствовал, што и в ей какой-то затаенный страх есть…
Ну, а потом, в войну, Мама, занявшись всякой такой работой, подбодрилась, и уж я думал, што Она мою ту телеграмму, што послал перед войной, позабыла… а она, видать, ничего не забывает… Такая ужо она особенная!.. ежели што в голову запало, то уже повек не забудет… Ну, вот.
Было это вскоре после того, как с Митей332 разговор имел. Звонит Аннушка: «Маме недужно. Очень повидать хочет!»
А я пустой не люблю ехать. Знал, что к вечеру Калинин] бумагу привезет. Еще своя была бумага от Владыки333. Осип[енко] привез, говорит, к спеху. Штой-то относительно подряда на танки334.
Ну и говорю Аннушке, што к вечеру буду, што, мол, дела много.
А и через час опять звонит: «Немедленно штоб! Больно нездоровится!» Поехал.
Гляжу на Маму – на ей лица нет…
Уладил. Успокоил. Утихомирилась.
«Ну што? – говорю… – Об чем тоскуешь?»
И тут… непонятное даже. Гляжу на Нее, и будто другое што-то. Совсем иная. Тут я сказать должон, што у Ей, кто с глазами глядит, лицо особенное… В тоске-ли… в горе… а поглядела на тебя… Владыка-Царица. Сила в ей особая. Большая гордость и сила… Ужо я Ее вот – знаю. Пока вдали, думаю: в моей она власти. Поглядел в Ея глаза и ужо знаешь, Она – Царица, над Ей никому нет власти… Такое в Ей лицо всегда. А тут иное. Будто ни Мама. Ни Сила… а дитя и такое боязиное… Такую к ей жалость почувствовал, што скажи она: «Помирай, штобы мне полегче» – умер бы… И какие глаза печальные… «Господи помилуй! Помилуй Господи», – шепчу и гляжу на нее. Ну, вот заговорила Она:
«Помнишь, – говорит, – ту телеграмму, што прислал нам перед самой перед войной? “Нет мово благословения… Предвижу страшное!”» – говорит она эти слова и сама так и впивается жалостными глазами.
«Ну, помню, – говорю. – Да што вспоминать? На то была Воля Божья… Может та проклятая и пырнула меня потом, штобы отвлечь в ту пору отсель…»
«Да Воля Божья», – шепчет Мама. А потом тихо так зашопотала: «А, ежели, Воля Божья на страшное…» – а сама смотрит в угол. Потом уже с трудом разобрал, чего Она хотела.
А сказала Она такое; што, мол, войны – ни я, ни Она не хотели… а как уже она пришла и как уж третий год335 гибнут люди… и что все так же далеко до конца, как и ране было… то Она, Мама, полагает, што судьба меня и ее двигает на то, штобы положить войне конец. Во что бы то ни стало – только кончить войну.
И вот, зашопотала Она: «Мы идем на самое страшное, хотим помимо Папы… с немцами… Ужо, – говорит Она, – когда Папа узнает, все будет кончено… Но што, – говорит Мама, – ежели народ не так поймет… Што, ежели, скажут: “Немка Рассею продала немцам”? Што ежели скажут – и я, и ты… предатели? Што? А ежели и мои дети мне не поверят? Што тогда?.. Понимаешь, дети не поверят?..»
А сама, как подстреленная птичка, в моих руках трепещется, бьется! – «Понимаешь, дети?» – шопочет Она. Понимаю, ох, понимаю…
И уж не знаю, как это вышло, только я ей про свово Митю рассказал…
Она слушала молча, потом как заплачет… трясется, что-то по-своему лопочет, как будто не в своем уме…
Кликнул Аннушку… уложил Ее… заснула. Уехал.
Только на завтра мне Аннушка рассказала, откуль такое на Маму сумление нашло.
Вот…
Дети поехали в Город: Олечка в свой комитет, Таничка – в свой. Олюша свой должна была поезд отправить. За ней, как всегда, князь В… 336 заехал. Только передал ей это бумаги, а сам сказал: будет опосля (имел в еще в тот день свидание с Калининым] по поводу добавочного поезда).
Ну, вот приехала это Она337. А Ей доклад делает Куракина338. Все по хорошему.
Только, как Она зашла в зал (зашла одна и не через свой кабинет, а другой дверью)… ан, слышит, двое меж собой говорят… граф Тат[ищев]339 и барон Шр[едер?]340. О чем говорили раньше, Она не расслышала, а только таки к ей слова дошли: што, мол, Царица с мужиком (со мной, значит) Рассею Матушку немцу продали… што от стыда, мол, кажному офицеру и глаз не открыть!
Боле уже Она не слышала, так, не заходя в зал, передала Кур[акиной], што не можется ей, штоб без Ее все ужо сделали…
Там переполох.
А Она вернулась и к Маме и так, говорит Аннушка, строга к Матери: «Скажи, – мол, – правду. Лучше от Тебя все узнать, чем от чужих людей!»
Мама к Ей: «Как, мол, ты можешь так с Матерью разговор разговаривать?» И прикрикнула…
А Она, и што только с Ей сталось, – криком на крик отвечает… «Ежели, говорит, ты немка, то и я, и сестры, и наш брат наследник… мы русские…» А потом близко так к Маме подступила: «Скажи, ну, скажи – ты обманываешь Папу?..»
Мама, с огорчения, и ответить ничего не могла. Только повелела ей выйти…
Ну и пошла…
Профессор не знал, кого ране спасать?
А, главное, Олюша испугалась, просится к Маме…
А та в беспамятстве… Вот.
Катится, катится страшное…
Уж чего хуже, коли дети на родителей идут?..
Когда все хотя маленько улеглось… Мама потребовала, штоб Олюша назвала подлецов-то этих. А Она, хоча и назвала, но сказала, ежели их к суду… то Она, Бог весть, што наделает… – «Потому, – сказала Ол[ьга], – што они [не] с озорством, а в таком горе обо всем говорили, што, видать, болеют за Рассею…» Вот…
Ну, так што я могу сказать Маме. Каку ей дать силу. Каку ей дать подмогу, ежели у самого мурашка по телу ходит… Кабы я мог, все своим умом обнять? Кабы все обмыслить мог, а то ведь все делается, хоча и через меня, а под приказ всех этих прохвостов… И ни одного меж них, которому нутром поверить мог… Ни одного… Все с обманом. Калинин – тот дударь… Он хоча сердцем и лежит к Маме, дак у него в голове дудит… а еще и на руку не чист… Все об капиталах помышляет… а уж если дело об капиталах, дак такому веры нет…
Ну Старик341? Эта немецкая обезьяна, брехлив, как старая банщица… И еще и то… может… кто ж его знает – все ж немец… Хоча и служит Папе, а сам думает, ежели тут сорвется, то и там не пропаду… Нет, ему верить никак не можно.
Еще вот Ваня мне сказывал, что у Старика две двери. В одну – опустить, в другу – выпустить! А еще меня вот мучит эта баронесса342, которая недавно заявилась. Она каки-то яму письма немецки, аль французски… одним словом, не по нашему передала. А я заприметил тако клеймо, как на тех, што Мама оттуль получает…
Я как-то письмо заприметил, – она, баронесса-то эта, от ево, а к яму. Без шуму подъехал к яму. Мне дала знать Вобла, што баронесса к яму будет…
Ну, вот, я и цоп за руку: «Стой, матушка, откуль такая?» Она чего-то не по нашему, и руку тянет!
Я ей: «Стоп!»
А Старик ко мне: «Што ты, Господь с тобой? Это моя сестрица (на ей немецкое сестринско убранство) – сродственница наша».
А я ее всю проглядел. Мне уж ея патрет готов теперь. Теперь, хоча пере[д] Мамой – признаю…
Она, смеючись из дверей; смеется, а у самой от страха в груди клокочет.
Вышла.
А я к столу.
А на столе письмо, это самое, с клеймом знакомым. Я на письмо руку.
А Старик с меня глаз не сводит, так и колет глазами.
«Што за письмо?» – спрашиваю.
А он смешком так заливается: «Ишь, – говорит, – какой… письмо… письмо».
А я опять: «Што за письмо?..»
А он: «Отдай, – грит, – тебе оно не нужное… Сродственник», – мол… И хочет письмо взять…
А я не даю…
Он смешком, а я уж не шутя, к двери… попятился.
Он сзади ко мне… рванул письмо, а я только клочок оторвал…
Он все смешком… да смешком…
А я в серьез к яму: «Сказывай, кто эта блядь?»
А он в амбицию… «Што ты, – грит, – врешь: это наша сродственница».
«А ежели, – говорю, – сродственница, то почему письмо с царскими вензелями, почему?»
Старик испугался… Потом чуть ли по бабьи взвыл.
«Об этом, – грит, – никому не говори… А только я не от худа…»
«Ладно, – говорю. – Сказывай… Только уж нет тебе веры».
Он мне про эту баронессу ужо чего-то плел…
Только я, передав яму три прошения, ушел в большом сумлении…
А сколько горя это письмо принесло!
Сколько крови!
Кому же из них верить? На кого опереться могу. Чьим умом жить? Ежели обманщик на обманщике.
Один был только человек, которому я поверить мог. Один человек, с большим умом. И теперь-то, в такой страшный час, так бы он мне нужен был?..
Я это об Витте… 343
Тот, хоча и с лукавинкой, хоча и большой гордости человек, а Рассею бы не продал!.. Е[аря, коли надо было, сменил бы, а Рассей не продал!..
А эти прохвосты, продадут…