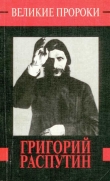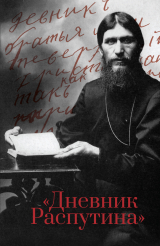
Текст книги "Дневник Распутина"
Автор книги: Даниил Коцюбинский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
Еще к тому времени, как Петруша на меня атаку повел, Толстопузый36 тоже прислужиться захотел…37 Очень уж, видно, я им не по душе пришелся, потому они зашевелились. Разрой кучу говна – черви зашевелятся. Один про меня книгу пустил. Новоселов ему фамилия.
Так вот, православные, ежели скажете, церковь погибает? – А погибает от мужика, охальника, что Распутиным зовется.
Как пошла эта книжка потаскушкой по рукам гулять…38 – Все зашевелились! И Гневная39 в раж пришла, стала свово полюбовника40 посылать: «узнай, дескать, што, да как, откуль ветер дует?». Ну, и позвала Она Толстопузого, стала обо мне допрашивать. А тот и скажи: «Царица, мол, Матушка, мужик этот во все вхож… гнать его надо, а то большое будет бедствие». И что об этом самом (обо мне) Григории в Думе буде разговор большой. Что уже очень бунтуют супротив меня…
А я к тому времени велел Аннушке, штоб прохвост таку статью написал в княжеской газете, што в Думе говорят про мужика Г. Распутина, а мыслят о том, как бы настоящую революцию сделать, то есть мужичка на барина напустить. Аннушка таку линию повела. А они с переполоху забушевали. Всяк кричит, а друг дружку не слышит… А штоб еще лучше всех перепутать, я через барина слушок пустил, што и Петруша и Толстопузый все под Тучковскую41 дудку пляшут. А его дудка все одно подыгрывает: «Долой этого царя, долой с корнем!»
Про этот слушок тоже князюшка по-своему написал… Тут-то и была неразбериха. Кто в лес, – кто по дрова!
Вот Гневная и говорит Толстопузому: «Как, – мол, – Вы могли такое дело допустить, штобы Дума да бунт готовила? Должен ты блюсти царский корень?» А Толстопузый и говорит: «Я, Царица-Матушка, только об царе заботу имею, потому от того мужика все опрокинуться может… – Пойду с докладом к Царю-Батюшке, скажу: не может статься, штобы мужик корону слопал».
А Гневная и говорит: «Да, ужо, так скажи ему, штобы до него дошло, да не утомило его… ужо очень он деликатный человек…» А потом поехала сама к Папе и тако ему слово молвила: «Либо – ни мужика поганого, либо – прощайся с родной материю… Потому – уеду я… в чужие страны, штобы глаза мне не кололи…»42
Вот.
Очень Папа растревожился. Сказал: «Убью его!»
Мне просто все рассказывала Озерева43 (он в младших полюбовниках у Гневной состоит) полюбовница его княгиня Р…44 разсказывала.
Все, как мухи, Папу облепили: «Гони Григория!»
Как я митрополиту Антонию нос натянул«Я, – грит Антоний45, – монах честный, мне от миру ничаво не надо!» А коли не надо, зачем – лезешь?
Тоже, вот, явился к Папе с докладом обо мне. «Большой, – мол, – нам от мужика этого – конфуз… Он и царством править хочет и до церкви добирается. Он в Царский дом вхож и на Царску семью – пятно от его кладется». А Папа и говорит Антонию: «Зачем не в свое дело мешаешься? Кака тебе забота до того, што в моем дому делается? Али уж я и в своем доме – не хозяин?»
А Антоний и говорит: «Царь-Батюшка, в твоем доме сын растет… – и сын этот будущий наш Царь-Повелитель, и попечалься о том, по какому пути ты свово сына поведешь! Не испортил бы его душу еретик Григорий?!»
А Царь-Батюшка на его цыкнул… «Куда, мол, лезешь?!. Я, чай, и сам не маленький, учить меня не гоже».
Как пришел Митрополит Антоний домой… кукиш проглотил… запечалился…46
А я велел через человека Толстопузого, штоб ему Мама наказала, што тебе, мол, Антоний, на покой пора… Ужо об этом позабочусь…
Вот.
Запечалился и кондрашка хватила…
Вот.
Успокоился Петруша. Смолк и Митрополит Антоний, а все покою не было. Ужо Коко47, даром, что мой выкормыш, тоже стал когти выпускать и зубы скалить.
Пришлось, знал я, что без князя, без его газеты никак не справишься, и решил с прохвостом побеседовать. Он, прохвост, – с мозгою! Ему што хошь скажи, – либо перекрестись, либо в говно… – суй язык – он только усмехается и спросит: «Сколько дашь?»
Уж видал подлецов, а такого не видывал!
МамаМама – это ярый воск. Свеча перед лицом всего мира. Она – святая. Ибо только святые могут вынести такую муку, как она несет. Несет она муку великую потому, что глаз ее видит дале, чем разум разумеет. Никакой в ней фальши, никакой лжи, никакого обману. Гордость – большая. Такая – гордая, такая – могучая. Ежели в кого поверит, так уж навсегда обманешь ее.
Отойдет от нее человек, а она все свое твердит. «Коли я в него верила, значит, человек стоющий!»
Вот.
Такая она особенная. Одну только такую и видел в своей жизни. И много людей видал, а понятия об ей не имеют. Думают либо сумасшедшая… либо… же двусмыслие в ней какое. А в ней особенная душа. И ей, в ее святой гордости, никуда, окромя мученичества, пути – нет.
ПапаПапа… что ж, в нем ни страшного, ни злобного… ни доброты, ни ума… всего понемногу. Сними с него корону, пусти в кучу – в десятке не отличишь. Ни худости, ни добротности – всего в меру.
А мера куцая – для Царя маловата. Он от нее царской гордости набирает, а толку – мало… Петухом – кружится. И тот мучается. Только у него все иное… Все полегче… одначе, чувствует… – не по Сеньке шапка48.
ИлиодорушкаИлиодорушка49 человек каменный. Большой гордости человек. Одного только и видел такого. И думал я, что всю жизнь вместях проживем, но вышло по-другому.
Не ужились.
И я, и он, кажный хочет первым быть, а «первый» только один бывает.
Вот.
Илиодор бунтовщик.
Стенька Разин, вот он кто.
Бунтовать, только бунтовать. А спроси ты у яго – чего он добивается? Золота, баб, почестей?
Нет, ничего этого не надо.
А надо первым быть. А как у яго дух буйливый, то он и тихой жизни не годится. Ему бы только воевать.
Спрашиваю я его раз: «Скажи ты мне, Илиодорушка, как на духу, любишь ли ты Царя-Батюшку».
«А за что, – грит, – любить его? Дурак он из дураков и брехун, за что любить-то?»
«А Царицу-Матушку?»
«Ее, как змеи, боюсь, ужалит, ох, ужалит она. И не меня, не тебя, не Царя-Батюшку… Россию – вот кого ужалит».
«Значит, не любишь?»
«Значит…»
«А ежели так, то чего хлопочешь? Чего с начальством воюешь?»
«А это, – грит, – я Россию спасаю от жидов и супостатов. Они Россию слопать хотят».
«А нешто ты ее отвоюешь?»
«Отвоевать мудрено, одначе я так[о]е сделаю, что всякому Цареву врагу буде понятно, что в России хозяин только Церковь православная».
«Ладно, говорю, ври, да не завирайся. Ежели Церковь хозяйничать почнет, то, окромя блядей да воров, никому и доступа не будет».
Вот.
Рассердился и крикнул: «Ты, Григорий, еретик».
А меня смех и зло берет. Зачем врет?
«Не для Церкви стараешься, а для себя… Тебе охота, штоб народ тебе поклонился». Вот.
«Пущай так, – грит, – и поклонится».
«Поклонится, да не тебе первому, а Григорию… А ежели ты со мной будешь, свелю народу и тебе поясно кланяться… Вот, скажу, молитвенник наш».
Илиодорушка свое: «Я ученый, я говорить с народом умею. За мной народ куда хошь пойдет, и не чрез тебя я свою власть иметь буду, а сам от себя».
«Пущай, – говорю, – и так, только иди со мной рядом… рядом иди».
А он, стервец, сверкнул глазами.
«Зачем, – грит, – рядом итти… дороги разные: ты иди через мирское, а я через церковь».
Ладно. «Вот, – говорю, – покажу тебе, как мной цари тешутся… Кака моя власть. Потом иначе заговоришь».
Было это в восьмом годе. В деревнях большое беспокойствие. Главное крестьяне мутили. Уж очень притеснительный был закон. Случилось это в нашей губернии. Описали недоимщиков. Пришли к земскому50. Он из князей Татищевых51. Был прислан в деревню на выслугу. Чтоб потом в большие паны пролезть… Ну и пришли это к нему крестьяне просить об отсрочке. Главное просили, чтоб коров не угонять. Там в селе, это в сорока верстах от Тюмени, шесть коров описали. Три на вдовьих дворах.
Они его просят, а он их гонит. Они ходоков пять человек выбрали. Он криком кричит, а они свое. Захотелось ему по-господски потешиться.
Крикнул одного, велел к себе подойти.
«Ежели, – грит, – сейчас не уйдете, собак на вас выпущу». А тот пригрозил народным судом.
«Ах ты, – крикнул, – быдло, разговаривать». На Игната Емельянова как цикнет.
«А тот, – говорит, – все равно коров не отдадим, всей деревней пойдем».
Панок взъелся. Велел собаку спустить… Собака – лютый волк, кусок щеки вырвала и ногу прокусила.
Игнат к вечеру скончался.
А через три дня живьем сожгли урядника, когда заявился за податями52. И княжеский дом как свечка сгорел… Только-только живьем выскочили.
Узнав об этом, я порешил с Царем разговор разговаривать.
Взял и Илиодорушку с собой.
Говорю я это, а при этом и Царица-Матушка сидит. «Вот, – говорю, – до чего люты начальники, живьем человека загрызть. Ходока за мирское дело».
Царь молчит.
А как дошло слово до того, что урядника живьем сожгли, Царь и воскликнул: «Всю деревню под суд. Всем розги, всем розги».
А Илиодорушка побледнел и тоже шепчет: «Под суд, под суд».
Я как стукну по столу. Царица-Матушка вскочила, а Царь затрясся.
«Молчи, – говорю, – молчи, подтыкало, – это я Илиодорушке, – я не тебе, а Царю говорю: Ты мужика как учить собираешься? – Через жопу. Жопу драть хочешь – дери, а разум через голову вести надо. Жопу выдрал, а в голове у него такая злоба вырастет…»
Царь побледнел. «А что же, говорит, делать надо?»
«А то, что науку не розгой, а умным словом вводить надо».
Как ушли мы, Илиодорушка и говорит: «Как ты смеешь так с Государем разговаривать?»
«А то как же? С Царями говорить не разумом надо, а духом. Он разума не понимает, а духа боится». Вот.
ИгнатийУ каждого человека должен быть такой дружок, будь то жена, полюбовница или вор-половинок, с которым всю душу выворотить можно. И нет человека, который сие не поймет.
Всякое бесстыдство, всякая разбойность укроет, а сам может страдает боле того, кто сотворил худо. Потому нет ничего горше, как чужое дерьмо руками перебирать.
Такое дружок у папы – Игнатий53. Они его так величают, а как он окрещен и крещен ли, об этом не знаю.
Мама его зовет Эрик.
Держут его в тени… мужик и мужик. А колупни его, попробуй… Он те такой дворец поставит, что любому князю любо-дорого.
Казна большая… Почет большой… А знати нет.
Князья-родичи его как огня боятся и как от черта отплевываются.
Мужик мужиком, так для всех, а у себя над баринами барин. А с виду лесной разбойник. Никогда глаз не подымает, никому руки не подаст.
Меня кабы мог, живьем бы съел. Вот он какой.
Штука ядовитая.
И вот какой вышел случай:
Илиодорушка до баб человек чистый. Брезгует ими… А может хитрит. Ну вот.
Жила при ем одна монашенка, говорил – племянница. Думаю, это верно, потому лицом схожа. Краса – жгет прямо. Повадилась это она в Царское ходить… И подглядел ее как-то Игнат. Для себя ли, для Папы наметил, доподлинно не знаю. Только раз девонька побывала в Софийском соборе, а оттуль уже не вернулась…
Ждал это Илиодорушка день, другой, третий… волноваться стал, мне про сие рассказал.
Не иначе, подумал я, как у наших пакостников. А Илиодорушке говорю: «Ты не горюй, девка вырастет».
Вот.
А он даже почернел весь. Изо рта пена бьет. «Что ты, – говорит, – мелешь. Она от срамоты помереть может. Очень уж гордая».
А я в смех…
Все гордые до первой кучи золота.
Вот.
А с ней такая вышла незадача: ее Игнат для себя приманил, встретил он ее у Петровнушки, гадать вздумала девонька, как увидал ее – точно ошалел… обожгла девка: глаза у нее так и обволакивают, а голос будто песня. Ох и красива девка. Приластился к ней Игнат, и видно, и ей по сердцу пришелся. Одна помеха – монастырь.
А он смеется. «Если надо, – говорит, – я монастырь руками снесу, золотом засыплю…».
Одним словом, то да се, пятое-десятое, завертелась девонька. И так парня закружила, что жениться решил, а пока что за сродственницу выдавал. У себя жить оставил.
И случись беда – повидал ее Папа… рот до ушей раскрыл…
«Откуль такая, почему не показал?»
Игнат впервые оскалился. «Душу, – говорит, – мою возьми, а ее не тронь».
Ну дней эдак через пяток приказал ей Папа цветы полить, ну и пощупал…
Мертвей мертвой кинулась к Игнатию Настюша… и слов нету, и слезы не идут.
«Вот, – говорит, – убей меня, а к нему не пойду, и еще помни: ежели приставать станет, горло перегрызу…»
Потемнел Игнатий, за сердце взяло, задумал девку пока что справадить… Только бы хоть на время спрятать. А назавтра Игнат ушел, а Папа заявился – и пошла потеха… На крик заявился Игнат, видит, девка корчится, а у Папы шрам во всю щеку. Кинулся меж них. Вырвал ее и обземь. Мертвую вынесли: «Вот, – сказал Папе, – ни мне, ни тебе…»
Да так на Папу поглядел, что тот в страхе убег.
Обо всем этом я узнал с вечеру.
А как пристал ко мне Илиодорушка: скажи, где Настюша?
Я ему в ответ: об ей не беспокойся в золоте купается… придет время, сама заявится.
А он: правду скажи, живая?
Жива и богата, говорю.
Я правду от него скрыл, потому видел, что в нем большой зверь сидит.
И вот, думал я, кабы знать, что он Игнату горло перегрызет, то я бы их стравил… А вдруг да на их пути. То-то же…
А Игнат, Мама его иначе звала, а какое ему настоящее имя, не знаю, только после этой истории он месяца два хворал. А как началась война, уйму денег дал и в ее имя госпиталь устроил. Смастерил через графиню Бобринскую54.
ХодокиБыло это в десятом году. Привез это Илиодорушка в Питер ходоков. Об земле хлопотали, и об том, чтоб от их казенку55 подалее. Уж очень большое пьянство пошло. Ну ладно, привез это он и поместил их в подворье.
А я уже знаю, ежели в подворье селются, значит паскуда… Настоящий крестьянин к монахам ни за что не пойдет.
Ну вот.
Заявился к ним доктор этот самый Дубр[овин]56 и давай петрушку ломать.
«Так, мол, и так, православные, не иначе, как испытание нам Господь посылает. В Думе такое творится – не иначе, что нехристи хотят Россию немцам отдать. Немецкую веру ввести у нас».
А мужички и спрашивают: «А как же святой Егорий (это я), почему он не действует?»
А там был брат этого доктора, или сородич какой, да и ляпни: «А Егорий, что ж, он у Цар[ицы] в полюбовниках, а она сама немка».
Я об этой брехне ничего не знал.
В ту пору вызвал меня Гермоген57 насчет автонимии Церкви, тогда Антоний Волынский58 таку музыку поднял59.
Приехал это. Прохожу через переднюю. Вижу, мужички толкаются. Я к ним: то да се, пятое-десятое. А один, пошустрей который, и говорит: «Г. Е., правду ли бают, что ты в полюбовниках у Цар[ицы]?»
«А откуль, – говорю, – такой слушок?»
«Да уж бают».
Все ж я добрался до конца. Через три дня этому доктору оглашенному и его сородичу дали коленом под жопу и запрет – в столицу не въезжать.
А холуи зашептались. Откуль? за что? такое наказание.
Не иначе как Гучков.
Мне газеты читают, а я в смех…
Ну и является ко мне Илиодорушка за него ходатаем.
А я у него пытаю: пошто ты сам за меня, а еще боле за Цар[ицу] не заступился?
А он ехидно так отвечает: «Мужички, – мол, – не понимают, что это ты от святости… а не от озорства».
«А ты, – говорю, – понимаешь?»
А он блеснул глазами, как ножом полоснул: «Не спрашивай, брат Григорий, не спрашивай».
Поглядел я на него и подумал: хоча и зовешь меня братом, а ты мне не брат, а лютый волк…
С этого разу стал я за ним приглядывать.
Закралась у меня мысля такая, что Илиодорушка меня выживает… стал за ним примечать.
Одначе, подумал я, Илиодорушка человек жадный: в нем злобу убить надо жирным куском. А тут проглядел, что он не столько жадный, сколь гордый. И ежели задумал что, до конца будет биться.
Задумал он царицынского губернатора слопать, стал его бунтами донимать. А тот жалобу за жалобой. Дошло до Папы60.
Вижу – дело плохо.
Вот говорю я ему: «Повезу тебя в Мраморный дворец, покажу Царям… ежели ты Папе пондравишься, все сделает».
Привез это его во дворец. Он службу повел. И такую проповедь про блудного сына сказал, что у Папы лицо перекосилось, а у Мамы слеза пошла… Ажно у меня холодок пошел61.
Придвинь, думаю, такого, он тебя, как мячик, откинет. Уж очень он мастер в Божественном слове, и глаз у него такой, что куда хошь за собой поведет.
Нет, думаю, такого близко подпускать не надо… Одначе, раз привел, надо вести до конца…
Папа яво отблагодарил, Мама тож… Одначе с меня глаз все время не сводила.
Потом Папа и говорит (он знает, что мне про Настюшку62 все ведомо): «Хорош Илиодорушка, да мне страшно с ним… будто он на меня злобу держит».
Я за это слово ухватился – думаю, пригодится.
И говорю Папе: «Пастух кнутовищем свистит… Божья скотинка бежит, только надо что кнутовище без узла…» Вот…
А еще говорю Папе: «Его приласкать можно, но чтобы приблизить – нельзя…»
Потом, как свиделся с Илиодором, говорю: «Тебя Папа полюбил… только еще приглядеться должон».
«Пускай, – говорит, – глядит. Только что это его дергает, как на меня смотрит, не то ущемить меня хочет… не то утаить что надо».
Вишь, думаю, окаянный, все подглядел… Вот…
Хлопочу за ИлиодорушкуКак я ни уговаривал Илиодорушку не скандалить, не наскакивать на генералов и на начальство, он точно взбесился: «Я не я, попова свинья, чего хочу, то пожру».
Ну и допрыгался.
Вышел приказ, чтобы его из Царицына вот, а перевести в Минск.
А он в амбицию.
Прихожу это я к Гермогену, а Илиодорушка с лица черный, глаза в огне. Зверюгой рычит: «Не поеду, ни за что не поеду».
А я ему: «Чего кричишь-то? отчего не едешь?»
«А потому, что мне делать нечего в вашем Минске».
«Чудак, – говорю, – брат, чудак. Да тебе Минск золотое дно – прямо первый сорт… твоей душе радость».
А ен глядит, не понимает, кака така радость?
«А потому, брат, что ты можешь там буянить, погромы всякие устраивать, в Минске тебе простор. Громи сколь хошь, одна жидова. Тебе, брат, лафа. А надоест жидов бить – за ксензов принимайся… Это любя тебя этакую благодать дали».
А он в каприз: «Не желаю, к черту. У меня в Царицыне свое любимое стадо… Тут мое дело, оно без меня умрет и я зачахну в разлуке с ним».
«Ну, ежели так, – говорю, – будешь в Царицыне»63.
«Да как же, – говорит, – буду, ежели мне отказано. Два раза отказано».
«А хоча бы и сто раз отказано, ежели я говорю будешь, значит будешь. Только поверни в сторону, не прыгай на начальство. Зачем народ подымаешь на влас[т]ь? Надо разбираться, кто тебе друг и кто враг».
А он смутился: «Служу моему Царю верой и правдой».
«А ежели, – говорю, – служишь Царю, так и не моги таких слов говорить, будто царевы слуги над народом измываются. Было сказано тобой такое слово или не было?»
«Было, – говорит, – только я не о всем Правительстве, а об нашем губернаторе».
«Ах ты, голова, – говорю, – нешто не понимаешь, что такие слова более на социлистов похожи. Вот… ругай знай, ругай, да не заругивайся. А главное, не всяко слово в народ кидай. Народ, что ребенок, ему с огнем играть нельзя».
Год пятнадцатыйГод пятнадцатый – самый тяжелый. Нынче послал телеграмму Аннушке в Царское Село. «Пущай Коровина64 и Мануйло65 будут в три. Меньше, чем пятьдесят козырей, нельзя. Господь блюдет. Правда жарче солнца».
Нынче велел написать от меня старику [И. Л. Горемыкину?]: «Не позже, как в конце сего апреля, будут у тебя цветы, но только, чтобы не увяли, поливать их надо… Не бойся тех песен, что поют в Таврическом дворце. Те, что поют, в скорости оглохнут…Твое дело – моя радость… Моя радость Маму греет… Будут цветы, об сем будь спокойный». Вот.
Двадцать третье февраля. Такой незадачливый выдался день, что готов был всю эту босую команду: к черту. Особенно не залюбился мне в этот день Ман[уйлов]. Его дело темней черной ночи, хлопочет он об двух генералах, особенно об Садовникове66, который еще в японскую войну обворовался. Недавно судился по поганому делу. В гимназии этой проклятой с девочками…
А теперя, говорит Ман[уйлов], он, большой человек, с немцами связался… Через его какие-то письма из Дании и все такое. Ну и второй не краше. Какой-то раньше был газетник, ему фамилия Сук67. И фамилия-то поганая, и теперь за них Глазов68 хлопочет, а бумажку передал Мануйлов]…. Чтобы им достать разрешение сюда, в Питер, приехать, так добивается, так добивается.
Привез вина, генеральской курве повез, уж до чего поганющая эта Женичка Терехова69, уж и сказать не можно. И эта клятая баба не многого добивается, хотит меня в аренды взять – так чтоб всякое дело через нее шло. У, гнида вонючая, ногтем раздавлю… Не пущу этих паскудников в Петербург, не пущу.
Тоже вот, эта гадюка Ежиха, сколько домов на мужиках построила – все мало. Добивается нового, давай ей подряды белье шить, двадцать козырей дает… Врешь, чертова кукла, менее чем за пятьдесят козырей и говорить не стану. Шлюха старая опять норовит на солдате выехать.
Об чем хлопочет[неразборчиво]ром, смету дела. Уточнил дельце забрала всего]го белья-то на два миллиона, а хотела отделаться двадцатью козырями.
Поглядел я на нее, хватил по… и говорю: «Это уже маловато будет, а ты, к… с рублю четвертак давай, а не то [к бесу]… Буде. Вот…
А она говорит: «Не об том хлопочу, чтобы заработать, без хлеба и так не сидим. И детишкам на молочишко припасено, а мне надо к этому делу кое-кого припаять. Чтобы и в тылу остался, и дворянство для человечка достать надо».
«А ты, – говорю, – шкура барабанная, чего захотела».
Одначе, вижу, с мозгой баба, и порешил ее дело устроить. Хошь дворянство – на дворянство, только чтобы дело делать.
Восемнадцатое марта. Опять эта шкура Терехова приходила… Была вчера со мной у Соловьевых70… И чего придумала. Уж как было пито и перепито, заставила меня записку написать. А я написать написал и позабыл, в тумане и в дурости был.
А нынче звонит мне Бел[ецкий]71: «Все, – мол, – сделал, да пахнет нехорошо».
А я никак не соображаю, в чем дело-то. Послал лобастого72 узнать, про что он говорил.
И вышла чертовщина… Я, как очумелый, в бабьей наготе, спьяну написал: «прошу этому окаянному генералу Сад[овникову] выслать пропуск немедленно телеграфно».
Белец[кий] послал.
А оказалось, что его на границе задержали с бумагами. Вот…
Кинулся я к Б[елецком]у. Что хошь делай, а выручай, потому с пьяных глаз… Баба шлюха вырвала.
Докатилось дело до проклятого Хвоста73, а он и рад, ему бы одним концом по моей голове, а другим по Белецкому].
Только врешь – ты хитрый, а я сильный. Вот.
Добился бумажки от Мамы. Она через Ольденбургского]74, чтоб этого генерала к черту через границы не пущать… Пущай теперь в тюрьме попищит за дело. Не лезь через шлюху к Господу. Вот.
Третье апреля. Как подумаю, так Питер супротив Москвы монастырь. Тут прямо Бога Тешим, а там… что золота, что вина, что баб – так тошно… А орудуют кто?
Не купцы бородатые, не дворяне важнющие… а пара выкрашенных шлюх. Польские графья без портков… ну и княгинюшки, из полюбовниц которые… А всех лучше работают бляди крещеные. Люблю их за разум, за жидовскую увертку.
Меня вызывали…
Пили… пели… поганили. Где ели, там и срали… а я все жду, пускай, думаю, скажут, зачем звали, неужели своих еб…. мало, неужто паскудить без меня некому?
Выяснили…
Главное, как-то с десяток жеребцов купеческого большого роду тут оставить, чтоб и погоны, и крестики, да в тылу. За двух таких двадцать козырей дали. На них большие доносы были. Потом два подряда устроили: одному на шапки – двадцать пять козырей отчислил, а другому на валенки семьдесят дал… Ну и таку мне соболью шапку и бобров таких принесли, что Бел[ецкий] сказал, что в Нижнем на ярмонке их для показу держат.
Приехал домой, а тут Варварушка75-дура за тако дело два козыря дает. Послал к черту. Вот.
Вчера послал в Москву телеграмму княгинюшке Тене-ш[евой]76 – тоже блядует, а играет на чистоту.
Не люблю я таких. Я ей одно дело сделал, а от нее и понюшки мне не надо. Только сдержи слово. Обещала дать весточку из одного собрания, которое у Сестрицы77 было.
Известно мне, что Сестрица сказывала, что она вместях со своим дядькой прищемит меня. Будто они порешили потребовать от Папы, чтобы меня сослали.
Я-то знаю, что дело пустое, а все же должен был через Аннушку передать Маме список лиц, кои в этом деле интерес имеют.
Ну и княгинюшка Тениш[ева] пообещала этот списочек достать. Ну а потом повернула спину и показала княжий задок. Ну я послал ей таку телеграмму: «Радуюсь за откровение, обяжен за ожидание… И целую свою дорогую. А об деле не хлопочи. Я не князь, слово держать умею».
А дело у нее большое. Ловкая баба. Тоже большую махинацию раздула. На нее, почитай, три губернии работают: ткут разные тонкие полотна, шьют, вышивают, кружева плетут, всякие хуевинки. Работают бабочки до слепоты. А она на мужицкой слепоте три тысячи десятин земли купила.
Слепнут бабы. В глухих деревнях ни керосину, ни свечки: работают при каганце, при лучинушке. Работают девки, бабы, детвора. Что больных развелось, сказать не можно. А ежели за такой окаянный труд выработает бабенка пятнадцать целковых в месяц, так за княгинюшку свечу за гривенник поставит.
А работают-то как? Встают на досветках, это, почитай, в четыре, в пять часов, не разгибая спины до утра сидит. Утром мало-маля [поспали?] опять за работу до темноты. Глядишь, через три месяца слепнуть начнет. Вот.
А княгинюшка эти шитки да кружева в заграницы посылает, особенно в Америку. А оттуль тысячи получает. Бабенки слепнут, а она в Ярославской губернии третье имение покупает.
Прознал я про это и говорю паскуде княгине-то этой: «Ты бы хоча больницы построила, да керосином снабдила».
А она сука отвечает: «В больницах только народ балуется, а от керосину копоть пойдет, работа портится. А эту работу не стирая посылают».
Вот гадюка, пущай слепнут, а ей что – народу много, все не ослепнут, ей на издевку хватит.
Паскуда, а тоже, в благодетельницы лезет.
«За меня, – говорит, – сколько деревень Бога молят». Погоди, думаю, может скоро помолятся за упокой.