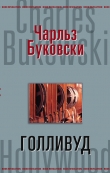Текст книги "Самая красивая женщина в городе и другие рассказы"
Автор книги: Чарльз Буковски
Жанры:
Контркультура
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
Эндрю сказал:
– Линк, да я лучше не буду.
– Зассал?
– Нет, не в этом дело.
– Кишка тонка?
– Нет, нет...
– Хлебни-ка еще.
Эндрю хлебнул. Чуть-чуть подумал.
– Ладно, пусть пососет.
– ЗАСТАВЬ ЕГО!
Эндрю встал, расстегнул ширинку.
– Готовься сосать, уёбок.
Рамон сидел и плакал.
– Подними ему голову. Так ему по-настоящему нравится.
Эндрю поднял голову Рамона.
– Мне не хочется тебя бить, старик. Открой рот. Это недолго.
Рамон раздвинул губы.
– Во, – сказал Линкольн. – Видишь, сосет. И никакой суеты.
Рамон задергал головой энергичнее, пустил в ход язык, и Эндрю кончил.
Рамон выплюнул все на ковер.
– Сволочь! – сказал Линкольн. – Ты должен был это проглотить!
Он подошел и дал Рамону пощечину – тот уже перестал плакать и, похоже, пребывал в каком-то трансе.
Братья опять уселись, допили вино из бутылок. Нашли в кухне еще. Вынесли в гостиную, раскупорили и приложились снова.
Рамон Васкес уже напоминал восковую фигуру покойной Звезды в Голливудском Музее.
– Получим свои 5 штук и отвалим, – сказал Линкольн.
– Он же говорит, что их тут нету, – сказал Эндрю.
– Педики – прирожденные вруны. Я их из него вытрясу. Ты сиди и винцо себе пей.
А я этим гондоном займусь.
Линкольн поднял Рамона, перевалил себе через плечо и отнес в спальню.
Эндрю остался сидеть и пить вино. Из спальни доносились какие-то разговоры и крики. Тут он увидел телефон. Набрал нью-йорскский номер, за рамонов счет. Там жила его бикса. Она свалила из Канзас-Сити за лучшей жизнью. Но до сих пор писала ему письма. Длинные. Жизнь пока не улучшалась.
– Кто?
– Эндрю.
– О, Эндрю, что-нибудь случилось?
– Ты спала?
– Собиралась ложиться.
– Одна?
– Ну конечно же.
– Так вот, ничего не случилось. Этот парень меня в кино протащит. Говорит, у меня лицо утонченное.
– Ох, это же чудесно, Эндрю! У тебя прекрасное лицо, и я тебя люблю, сам знаешь.
– Конечно. Как у тебя там, киска?
– Не очень, Энди. Нью-Йорк – холодный город. Все только в трусики норовят залезть, им одного подавай. Я официанткой работаю, сущий ад, но думаю, что получу роль во внебродвейской пьесе.
– Чё за пьеса?
– Ох, не знаю. Какие-то розовые слюни. Один черномазый написал.
– Не доверяй ты этим черномазым, крошка.
– Я и не доверяю. Это просто опыта набраться. И у них какая-то известная актриса за бесплатно играть будет.
– Это-то ладно. Но черномазым не доверяй!
– Я ж не набитая дура, Энди. Я никому не верю. Просто опыта набраться.
– Кто черномазый?
– Фиг его знает. Какой-то драматург. Просто сидит все время, траву курит и рассуждает о революции. Революция сейчас – самое то. Приходится следовать моде, пока ее не сдует.
– Этот драматург – он к тебе не шьется?
– Не будь таким дураком, Эндрю. Я к нему хорошо отношусь, но он же всего-навсего язычник, зверь... А я так устала столики обслуживать. Все эти умники – за задницу щиплют только потому, что четвертак на чай оставили. Ад сплошной.
– Я о тебе постоянно думаю, крошка.
– А я – о тебе, красавчик, старина Энди-Большая Елда. И я люблю тебя.
– Ты иногда смешно говоришь, смешно и по-настоящему, вот поэтому я тебя и люблю, малышка.
– Эй! Что там у вас за ВОПЛИ?
– Это шутка, малышка. Тут у нас в Беверли-Хиллз большая пьянка. Знаешь же этих актеров.
– Орут так, будто убивают кого.
– Не волнуйся, крошка. Это просто шутка. Все ужрались. Кто-то роль репетирует.
Я тебя люблю. Скоро позвоню опять или напишу.
– Пожалуйста, Эндрю, я люблю тебя.
– Спокойной ночи, лапусик.
– Спокойной ночи, Эндрю.
Эндрю повесил трубку и направился к спальне. Вошел туда. Рамон распластался на большой двуспальной кровати. Он был весь в крови. Все простыни были в крови.
Линкольн держал в руке хозяйскую трость. Ту самую, знаменитую трость, которой Великий Любовник пользовался в кино. Вся она тоже была в крови.
– Сукин сын не хочет раскалываться, – сказал Линкольн. – Принеси мне еще бутылку вина.
Эндрю сходил за бутылкой, открыл ее, и Линкольн присосался к горлышку надолго.
– Может, 5 штук тут и нет вовсе, – сказал Эндрю.
– Есть. И нам они нужны. Педики – хуже жидов. В смысле, жид лучше сдохнет, чем хоть один пенни отдаст. А педики ВРУТ! Усёк?
Линкольн снова посмотрел на тело на кровати.
– Где ты спрятал 5 штук, Рамон?
– Клянусь... клянусь... из глубины души, нет у меня 5 штук, клянусь! Клянусь!
Линкольн обрушил трость на лицо Великого Любовника. Еще раз. Текла кровь. Рамон потерял сознание.
– Так ничего не выйдет. Засунь его под душ, – велел Линкольн брату. – Оживи его. Смой всю кровь. Начнем все заново. На этот раз – не только рожу, но и хуй с яйцами. Он у нас заговорит. Тут любой разговорится. Сходи его вымой, а я пока тут выпью немножко.
Линкольн вышел. Эндрю взглянул на кровоточившую красную массу – к горлу на мгновение подкатил комок – и стравил прямо на пол. Проблевавшись, почувствовал себя лучше. Поднял тело, доволок до ванной. Рамон, казалось, начал оживать.
– Пресвятая Мария, Пресвятая Мария, Матерь Божья...
Пока они шагали к ванной, он повторил это еще раз:
– Пресвятая Мария, Пресвятая Мария, Матерь Божья...
Втащив в ванную, Эндрю снял с Рамона всю пропитанную кровью одежду, увидел стойку душа, положил Рамона на пол и проверил воду, чтобы была нужной теплоты.
Потом снял собственные ботинки с чулками, штаны, трусы с майкой, залез в душ вместе с Рамоном, придерживая его под струей. Кровь начала смываться. Эндрю смотрел на воду, стекавшую по слипшимся седым волосам, плоско облеплявшим голову былого идола Всего Женского Рода. Сейчас Рамон выглядел просто жалким стариком, обмякшим и сдавшимся на его милость.
Затем неожиданно для самого себя, будто его толкнул кто, Эндрю выключил горячую воду и оставил одну холодную.
Прижался губами к уху Рамона.
– Нам нужны, старик, всего лишь твои 5 кусков. И мы отвалим. Ты нам просто отдай эти 5 кусков, и мы оставим тебя в покое, понятно?
– Пресвятая Мария... – только и произнес старик.
Эндрю вытащил его из душа. Выволок обратно в спальню, положил на кровать. Перед Линкольном стояла новая бутылка вина. И он ею занимался.
– Ладно, – сказал он. – На этот раз он заговорит!
– А я думаю, у него нет 5 штук. Таких пиздюлей получать за каких-то 5 штук – да никогда в жизни.
– Есть-есть! Педик, жидяра черножопый! Щас он ЗАГОВОРИТ!
Линкольн передал бутылку Эндрю, который из нее немедленно отхлебнул.
Линкольн взялся за трость:
– Ну? Хуесос? ГДЕ 5 ШТУК?
Человек на постели не ответил. Линкольн перевернул трость, то есть прямой конец зажал в кулак, а изогнутым обрушился на яйца и член Рамона.
Тот не издал почти ни единого звука, если не считать долгой череды стонов.
Половые органы Рамона почти полностью исчезли.
Линкольн сделал небольшой перерыв, чтобы хорошенько отхлебнуть вина, затем перехватил трость поудобнее и начал лупасить везде – по лицу Рамона, животу, рукам, носу, голове, везде, уже ничего не спрашивая про 5 штук. Рот у Рамона открылся, и кровь из сломанного носа и других разбитых частей лица хлынула туда.
Он начал было ее глотать, но быстро захлебнулся. После этого он уже лежал очень тихо, и удары трости не производили видимого эффекта.
– Ты его убил, – произнес Эндрю, не вставая с кресла, откуда он наблюдал, – а ведь он обещал взять меня в кино.
– Я его не убивал, – ответил Линкольн. – Это ты его убил! Я сидел и смотрел, как ты забиваешь его насмерть его же собственной тростью. Той тростью, которая в кино сделала его знаменитым!
– Какого хуя, – сказал Эндрю, – ужрался в стельку и околесицу несешь. Самое главное сейчас – отсюда слинять. С остальным потом разберемся. Чувак прижмурился! Шевели мослами!
– Сначала, – ответил Линкольн, – я про такое в детективных журналах читал.
Сначала собьем их со следа. Макнем пальцы в его кровь и напишем разные штуки на стенах, всякое такое.
– Какое?
– Ладно, типа: "НА ХУЙ СВИНЕЙ! СМЕРТЬ СВИНЬЯМ!" А потом – чье-нибудь имя в изголовье, мужское – скажем, "Луи". Нормально?
– Нормально.
Они макнули пальцы в его кровь и написали свои маленькие лозунги. Потом вышли наружу.
"Плимут" 56-го года завелся. Они покатили на юг с 23 долларами Рамона и спизженным у него же вином. На углу Сансета и Вестерн увидели две молоденькие мини-юбки: те стояли на обочине и голосовали. Подъехали. Произошел изощренный обмен приветствиями, девки сели. В машине имелось радио. Это практически всё, что в ней имелось. И они его включили. По полу катались бутылки дорогого французского вина.
– Эгей, – сказала одна девчонка. – Да эти парни, похоже, богатенькие повесы!
– Эгей, – ответил Линкольн, – поехали-ка лучше на пляж, на песочке поваляемся, винца попьем и посмотрим, как солнце встает!
– Ништяк, – ответила вторая девчонка.
Эндрю удалось раскупорить одну бутылку, тяжко пришлось – перочинным ножом, тонкое лезвие, – поскольку и самого Рамона, и рамонов замечательный штопор пришлось бросить, – а перочинный ножик для штопора не годится, и всякий раз, как прикладывался к вину, приходилось глотать и кусочки пробки.
Спереди Линкольн слегка наслаждался жизнью, но поскольку приходилось рулить, он, главным образом, свою разлатывал в уме. На заднем же сиденье Эндрю уже пробежался своей рукою ей наверх по ноге, оттянул назад какую-то деталь ее трусиков, трудной работой это оказалось, и уже запустил туда свой палец.
Неожиданно она отпрянула, отпихнула его и сказала:
– Мне кажется, нам нужно сначала получше узнать друг друга.
– Конечно, – ответил Эндрю. – У нас есть 20 или 30 минут прежде, чем мы завалимся на песочек и займемся делом. Меня зовут, – сказал Эндрю, Гарольд Андерсон.
– А меня – Клара Эдвардс.
И они обнялись снова.
Великий Любовник был мертв. Но появятся и другие. А также – множество не-великих. Главным образом – именно таких. Так вот все и получается. Или не получается.
СОБУТЫЛЬНИК
Я познакомился с Джеффом на складе автомобильных запчастей на Цветочной улице – а может, на улице Фигейроа, я их постоянно путаю. Как бы то ни было, я там работал приемщиком, а Джефф был более-менее на подхвате. Разгружал подержанные запчасти, подметал полы, развешивал рулончики в сортирах и так далее. Я сам на подхвате припахивал по всей стране, поэтому свысока на таких работников никогда не смотрел. Я как раз отходил после дурного заезда с одной бабой, которая меня чуть не прикончила. Ни на каких баб у меня больше не стояло какое-то время, а вместо этого я играл на лошадках, дрочил и кирял. Если честно, в этом счастья всегда было больше, и всякий раз, как я к такому делу приступал, я думал: всё, никаких больше женщин, никогда, будь они все прокляты. Разумеется, одна какая-нибудь всегда потом подваливала – просто с собаками выслеживали, сколь безразличным бы ты к ним ни был. Наверное, только когда все на самом деле по барабану, они тебе это припоминают – чтобы завалить тебя окончательно. Женщины это могут; как бы силен мужик ни был, женщинам это удается. Как бы там ни было, я пребывал в этом спокойном свободном состоянии, когда познакомился с Джеффом, – на безбабье, – и ничего гомосексуального в этом не было. Просто двое парней:
жили, как масть выпадет, мир повидали, об женщин обожглись не раз. Помню, сидел я как-то в "Зеленой Лампе": сижу, пиво себе пью, один за столиком, читаю результаты бегов, а толпа о чем-то разговаривает, как вдруг слышу:
– ...ага, Буковски на малышке Фло хорошо обжегся. Хорошо ты об нее обжегся, а, Буковски?
Я поднял голову. Все ржали. Я даже не улыбнулся. Просто поднял стакан с пивом.
– Ага, – сказал я, выпил и поставил стакан обратно.
Когда я снова поднял голову, на мой столик ставила свое пиво какая-то черная девка.
– Слушай, мужик, – говорила она, – слушай, мужик...
– Здрасьте, – сказал я.
– Слушай, мужик, не давай ты этой малышке Фло себя заваливать, не давай себя подстрелить, мужик. Ты выкарабкаешься.
– Я знаю, что выкарабкаюсь. Я и не собирался лапки задирать.
– Клево. Ты просто сидишь, как в воду опущенный, вот и все. На тебя посмотреть – тоска зеленая.
– Конечно, зеленая. Она ж мне в самое нутро забралась. Но ничего рассосется.
Пива?
– Ага. Но за мой счет.
Тогда мы с нею завалились у меня на всю ночь, но с женщинами на этом я распрощался – месяцев на 14, на 18. Если сам на след не выходишь, то такие каникулы себе иногда можно устроить.
Поэтому каждый вечер после работы я напивался, один, у себя, и оставалось ровно столько, чтобы протянуть субботу на бегах; жизнь была проста, без лишней боли.
Смысла, может быть, в ней тоже было немного, но уже в том, чтобы избегать боли, он имелся. Джеффа я сразу признал. Хоть он и был моложе, в нем я увидел свою модель.
– Да у тебя просто дьявольский бодун, парнишка, – сказал я ему как-то утром.
– Иначе и быть не может, – ответил он. – Человек должен забываться.
– Наверное, ты прав, – сказал я, – бодун лучше психушки.
В тот вечер после работы мы завалились в ближайший бар. Джефф оказался похож на меня: едой не заморачивался, о еде вообще никогда не думал. Несмотря на все это, мы с ним были самыми здоровыми мужиками на всей богадельне, но до ручки себя ни разу не доводили. Жрать просто скучно. Бары к тому времени мне тоже остохренели – все эти одинокие идиоты, сидят и надеются: вдруг зайдет какая-нибудь тетка и унесет их с собой в страну чудес. Две самые тошнотные толпы собираются на бегах и в барах – и я в первую очередь имею в виду мужских особей. Неудачники, которые все время проигрывают, не могут постоять за себя и взять себя в руки. И тут я такой, прямо посередке. С Джеффом мне становилось легче. Я в том смысле, что для него все это было внове, еще с перчиком, для него во всем этом еще билась какая-то жизнь, будто мы чем-то значительным заняты, а не просто спускаем жалкую зарплату на кир, игры, меблирашки, не просто теряем работы и находим новые, не просто обжигаемся о баб, не просто из преисподней не вылазим, но еще и плюем на нее. На все на это и плюем.
– Я хочу тебя познакомить с одним моим корешем, Грамерси Эдвардсом, сказал он.
– Грамерси Эдвардсом?
– Ага, Грам на нарах провел больше, чем на воле.
– Зона?
– И зона, и психушка.
– Здорово. Пускай подваливает.
– Ему надо на вахту позвонить. Если не ужрался до чертиков, подвалит...
Грамерси Эдвардс приперся, наверное, через час. К тому времени я уже чувствовал, что мне многое по плечу, и это было хорошо, ибо Грамерси уже стоял в дверях – жертва исправительных колоний и тюряг. Глаза его, казалось, все время закатывались под лоб, будто он пытался заглянуть себе в мозги и посмотреть, что там пошло не так. Одет он был в лохмотья, а рваный карман штанов топырился от здоровенной бутылки вина. От него воняло, самокрутка болталась на губе. Джефф представил нас друг другу. Грам извлек из кармана бутылку и предложил мне выпить. Я принял предложение. Мы остались в том баре до самого закрытия.
Потом мы отправились пешком к Грамерси в ночлежку. В те дни, пока район не оккупировали киты индустрии, в некоторых старых домах бедным сдавали комнаты, и в одном из таких домов у хозяйки был бульдог, которого она каждую ночь спускала охранять свою драгоценную собственность. Сволочью был редкостной: пугал меня множество пьяных ночей, пока я не выучил, какая сторона улицы его, а какая – моя. Мне досталась та, которая ему была не нужна.
– Ладно, – сказал Джефф, – сегодня мы этого урода достанем. Так, Грам, мое дело – его поймать. Если я его поймаю, ты его распорешь.
– Ты лови, – ответил Грам, – а чика при мне. Только сегодня заточил.
Мы шли дальше. Вскоре раздался этот рык – бульдог скачками мчался к нам. У него хорошо получалось цапать за икры. Чертовски хороший сторожевой пес. Скакал он к нам с большим апломбом. Джефф дождался, пока он чуть нас не нагнал, а потом извернулся куда-то в сторону и прыгнул ему на спину. Бульдога занесло, он быстро обернулся, и Джефф перехватил его снизу на лету. Под передними лапами он сцепил руки в замок и встал. Бульдог лягался и беспомощно щелкал челюстями, брюхо его обнажилось.
– Хехехехе, – начал Грамерси, – хехехехе!
И он воткнул свою чику и вырезал прямоугольник. А потом еще и разделил его на 4 части.
– Господи, – сказал Джефф.
Кровь хлестала повсюду. Джефф выронил бульдога. Бульдог уже не дрыгался. Мы пошли дальше.
– Хехехехехе, – не унимался Грамерси, – сукин сын уже больше никого не потревожит.
– Меня от вас, ребята, тошнит, – сказал я. Пошел к себе в комнату, а бедный бульдог все не шел у меня из головы. На Джеффа я злился еще 2 или 3 дня, потом забыл...
Грамерси я больше никогда не видел, а с Джеффом надираться мы продолжали.
Делать, казалось, больше нечего.
Каждое утро на работе нас мутило... наша с ним интимная шутка. Каждую ночь мы напивались снова. Что еще делать бедному человеку? Девчонки обычных работяг не выбирают; девчонки выбирают врачей, ученых, юристов, бизнесменов и так далее.
Нам девчонки достаются, когда они с девчонками покончат, а те уже больше не девчонки – на нашу долю приходятся подержанные, деформированные, больные, сумасшедшие. Через некоторое время вместо того, чтобы брать их из вторых, третьих, четвертых рук, просто бросаешь это дело. Или пытаешься бросить.
Помогает выпивка. К тому же, Джеффу в барах нравилось, поэтому я ходил с ним.
Беда у Джеффа была одна: когда он напивался, его тянуло подраться. К счастью, со мной он не дрался. У него это очень хорошо получалось, махался он здорово и был силен: сильнее, наверное, я никого не встречал. Он не задирался, но, немного попив, казалось, просто съезжал с катушек. Однажды вечером я видел, как он в драке уложил троих парней. Посмотрел на распростертые в переулочке тела, сунул руки в карманы, потом взглянул на меня:
– Ладно, пошли еще выпьем.
Никогда победами не хвалился.
Конечно же, субботние вечера были лучше всего. В воскресенье выходной, можно бодун заспать. Большую часть времени у нас одно похмелье просто плавно перетекало в другое, но, по крайней мере, в воскресенье утром не нужно было вкалывать за рабскую зарплату в гараже – все равно с этой работы либо сам уйдешь в конце концов, либо вышибут.
В ту субботу мы с ним сидели в "Зеленой Лампе" и тут, наконец, проголодались.
Пошли в "Китайца" – довольное чистенье местечко, не без шика. Поднялись по лестнице на второй этаж, сели за столик в глубине. Джефф был пьян и опрокинул настольную лампу. Она разлетелась с большим шумом. На нас заоборачивались.
Китайский официант с другого столика одарил нас взглядом, полным исключительного омерзения.
– Не бери в голову, – сказал Джефф, – записывай в счет. Я заплачу за нее.
На Джеффа уставилась какая-то беременная тетка. Казалось, она очень недовольна тем, что он только что сделал. Непонятно. Не похоже, чтобы он совсем уж плохо поступил. Официант обслуживать нас не хотел, или специально заставлял ждать, а беременная тетка все смотрела и смотрела. Будто Джефф совершил отвратительнейшее из преступлений.
– Чё такое, крошка? Хочешь немножко любви? Да я ради тебя черный ход взломаю.
Тебе одиноко, милая?
– Я сейчас позову моего мужа. Он внизу, в уборной. Я его позову, я его приведу.
Он вам кое-что покажет!
– А что у него есть? – спросил Джефф. – Коллекция марок? Или бабочки под стеклом?
– Я его приведу! Сейчас же! – сказала она.
– Дамочка, – вмешался я, – не делайте этого, прошу вас. Вам ваш муж еще понадобится. Не надо так делать, дамочка.
– Сделаю, – ответила она. – Я это сделаю!
Она подскочила и понеслась к лестнице. Джефф ринулся за нею, поймал, развернул к себе и сказал:
– Вот, попутного тебе ветра!
И стукнул ее в подбородок. И она покатилась, подскакивая, вниз по лестнице. Мне стало тошно. Так же херово, как и той ночью, с бульдогом.
– Боже всемогущий, Джефф! Ты скинул беременную женщину с лестницы! Это ссыкливо и глупо! Ты, наверное, убил 2 человек. В тебе столько злобы, что ты пытаешься доказать?
– Заткнись, – ответил Джефф, – а не то сам получишь!
Джефф набухался до безумия: стоял на верхней площадке и покачивался. Внизу собрались вокруг женщины. Она казалась еще живой, ничего не сломано, а насчет ребенка я не знал. Только надеялся, что с ним тоже все в порядке. Тут из уборной вышел муж и увидел свою жену. Ему объяснили, что произошло, и показали на Джеффа. Джефф повернулся и направился обратно к столику. Муж ракетой взлетел по лестнице. Здоровый парень такой, такой же большой, как Джефф, и такой же молодой. Джеффом я был не очень доволен, поэтому не стал его предупреждать. Муж прыгнул Джеффу на спину, намертво сдавил ему шею. Джефф поперхнулся, все его лицо побагровело, но несмотря на все это он ухмылялся, оскал его все равно проступал. Любил он подраться. Одну руку он положил парню на голову, другой дотянулся и поднял его тело параллельно полу. Муж по-прежнему сдавливал Джеффу шею, а тот тем временем нес его к лестнице; потом встал на верхней ступеньке и просто скинул парня с шеи, поднял его в воздух и швырнул в пустоту. Когда муж дамочки перестал катиться, он был очень неподвижен. Я уже начал подумывать, а не убраться ли мне отсюда.
Внизу кучковались какие-то китайцы. Повара, официанты, владельцы. Казалось, они бегают кругами и переговариваются. Потом побежали вверх по лестнице. У меня в пальто заначилось полпинты скотча, и я сел за столик посмотреть веселуху. Джефф встретил их на верхней ступеньке и посбивал всех обратно вниз. А их все прибывало и прибывало. Откуда все эти китайцы понабежали, прямо не знаю. Только численным перевесом своим потеснили они Джеффа от лестницы, и вот он уже топотал по центру зала, вырубая одного за другим. Я бы, вообще-то, помог ему, да только эта несчастная собака и эта несчастная беременная женщина никак не шли у меня из головы, поэтому я просто сидел, прихлебывал из полупинты и смотрел.
Наконец, парочка китайцев навалилась на Джеффа со спины, еще один перехватил одну руку, двое – другую, кому-то досталась нога, кому-то шея. Он напоминал паука, которого затаскивают в муравейник. Потом упал, и они пытались удержать его на полу, чтоб не дергался. Как я уже говорил, сильнее его я мало кого видел.
На полу-то они его удерживали, да только он дергался. То и дело кто-нибудь из китайцев вылетал из этой кучи-малы, точно катапультированный невидимой силой. А потом он и сам вскакивал. Сдаваться Джефф просто не хотел. Поймать-то они его поймали, только сделать ничего не могли. Он не прекращал бороться, а китайцев это ставило в тупик, и они казались очень недовольными, что он не сдавался.
Я отхлебнул еще, сунул бутылку в карман, встал. Подошел к ним.
– Если вы его придержите, – сказал я, – я его вырублю. Он меня за это убьет, но это единственный выход.
Я пробрался внутрь и сел ему на грудь.
– Да придержите вы его! Держите ему голову! Я не могу по нему попасть, когда он так дергается! Да держите же его, черт побери! Черт возьми, вас же тут дюжина, не меньше! Вы что – одного мужика придержать не можете? Держите его, черт бы вас побрал, держите!
У них это не получалось. Джефф качался и катался. Сила его, казалось, не убывала. Я сдался, снова сел за столик и выпил еще. Суета продолжалась, наверное, еще минут 5.
Затем неожиданно Джефф совершенно затих. Перестал двигаться. Китайцы держали его и наблюдали. Я услышал всхлипы. Джефф плакал! Слезы омывали ему все лицо. Все его лицо сияло, словно озеро. Потом он выкрикнул так, что сердце разрывалось, – всего одно слово:
– М А М А !
И тут я услышал сирены. Я поднялся, прошел мимо них и спустился по лестнице. На середине встретил полицейских:
– Он наверху, офицеры! Скорее!
Я медленно вышел через парадную дверь. Прошел переулок. Дойдя до него, свернул и бросился бежать. Выскочил на другую улицу и тут услышал сирены скорой помощи. Я добрался до своей комнаты, задернул все шторы и выключил свет. Бутылку докончил в постели.
В понедельник Джефф на работе не появился. Во вторник Джефф на работе не появился. Среда. Короче, я никогда его больше не видел. А тюрьмы не обзванивал.
Совсем немного времени спустя меня уволили за прогулы, и я переехал в западную часть города, где нашел себе место на складе в "Сиэрз-Рёбаке". У складских рабочих "Сиэрз-Рёбака" никогда не бывало бодунов, они были очень ручными, худенькими. Казалось, их ничего не волнует. Обедал я в одиночестве и с остальными почти не разговаривал.
Наверное, Джефф все-таки был не очень хорошим человеком. Он сделал много ошибок, грубых ошибок, но с ним было интересно – достаточно интересно. Сейчас, наверное, он досиживает, или же кто-нибудь его уже убил. У меня никогда больше не будет такого собутыльника. Все спят, все в своем уме, всё – как полагается. А время от времени нужны такие настоящие мерзавцы, как он. Но тут уж как в песне поется: Куда же все ушли?
БЕЛАЯ БОРОДА
И Херб, бывало, высверливал дырку в арбузе, и ебал этот арбуз, а затем заставлял Тэлбота, малыша Тэлбота, его есть. Вставали мы в полседьмого утра – собирать яблоки и груши, а дело было возле границы, и от бомбежек земля тряслась, пока дергал с веток эти яблоки с грушами, пытаясь быть хорошим парнем, брал только спелые, а затем слезал с дерева поссать ведь по утрам бывало холодно, – и в нужнике пробовал немного гашиша. Что все это означало, никто не знал. Мы устали и нам было наплевать; дом – за тысячи миль, мы в чужой стране, и нам наплевать.
Как будто в земле просто выкопали уродливую яму и нас туда швырнули. Работали мы только за кров, еду, очень маленькое жалованье и за то, что удавалось спереть.
Даже солнце действовало неправильно; казалось, оно покрыто таким тонким красным целлофаном, и лучи сквозь него никак не пробьются, поэтому мы постоянно болели, в лазарете, где знали только одно дело – кормить нас огромными холодными курами. На вкус куры были резиновыми, и ты садился в постели и пожирал этих резиновых кур, одну за другой, и сопли текли из носа по всему лицу, и большезадые медсестры пердели на тебя. Там было так плохо, что хотелось скорее поправиться и снова забраться на эти дурацкие груши и яблони.
Большинство из нас от чего-то сбежало – от женщин, счетов, грудных детей, от неспособности справиться с жизнью. Мы отдыхали от усталости, нас тошнило от усталости, нам пришли кранты.
– Не следовало было заставлять его есть этот арбуз, – сказал я.
– Давай-давай, ешь, – сказал Херб, – жри давай, или, помоги мне господи, я тебе башку оторву.
Малыш Тэлбот вгрызался в этот арбуз, глотая семечки и хербову молофью, тихонько похныкивая. Скучающим мужикам нравилось придумывать хоть что-нибудь, только бы не сбрендить окончательно. А может, они уже и сбрендили. Малыш Тэлбот раньше преподавал Алгебру в старших классах в Штатах, но что-то пошло наперекосяк, и он сбежал в нашу парашу, а теперь вот глотал чужую молофью, взбитую с арбузным соком.
Херб был здоровенный парень, руки как поршни, черная проволочная борода, и вони в нем было столько же, сколько в тех медсестрах. На боку носил громадный охотничий нож в кожаном чехле. Нож ему вообще-то и не требовался, убить кого-нибудь он мог и без него.
– Послушай, Херб, – сказал я, – вышел бы ты туда и прикончил эту четвертинку войны, а? Я уже от нее устал.
– Я не хочу нарушать баланс, – ответил Херб.
Тэлбот уже доел арбуз.
– Ах, трусы бы лучше свои проверил, много ли говна там осталось, посоветовал он Хербу.
Херб ответил ему:
– Еще одно слово – и очко свое будешь за собою в рюкзаке носить.
Мы вышли на улицу; там бродили все эти узкозадые люди в шортиках, с ружьями и небритые. Даже некоторым женщинам не мешало побриться. Везде висел слабый запах говнеца, и то и дело – ВУРУМБ – ВУРУМБ! – громыхали бомбежки. Просто дьявольское перемирие какое-то...
Под точкой мы подошли к столу и заказали какого-то дешевого вина. Тут горели свечи. На полу сидели арабы, пришибленные и безжизненные. Один на плече держал ворона и время от времени поднимал кверху ладонь. На ладони лежали одно-два зернышка. Ворон с отвращением склевывал их – похоже, ему было трудно глотать.
Чертовски мирное перемирие. Чертовский ворон.
Потом девчонка лет 13-14, неизвестного происхождения, подошла и села за наш столик. Глаза у нее отливали молочной голубизной, если вы можете себе представить молочную голубизну, причем обременено бедное дитя было одними грудями. Просто тело – руки, голова и все остальное были подвешены к этим грудям. Груди были огромнее мира, а мир нас убивал. Тэлбот посмотрел на ее груди, Херб посмотрел на ее груди, я посмотрел на ее груди. Словно нам явилось последнее чудо, а мы знали, что всем чудесам пришел конец. Я протянул руку и коснулся одной груди. Просто ничего не мог с собой поделать. Потом сжал.
Девчонка рассмеялась и сказала по-английски:
– В жар бросает, правда?
Я расхохотался. На ней было что-то желтое и полупрозрачное. Лиловые лифчик и трусики; зеленые туфли на высоком каблуке, крупные зеленые сережки. Лицо ее блестело, как навощенное, а кожа была где-то между бледно-смуглой и темно-желтой. Кто знает? Я не художник. Сиськи у нее были. Что надо сиськи. Ну и денек.
Ворон один раз облетел комнату нестойким кругом и снова приземлился на плече у араба. Я сидел и думал об этих грудях и о Хербе с Тэлботом. О Хербе с Тэлботом:
они ведь ни разу не рассказывали о том, что привело их сюда, – так же, как я ни разу не говорил, что привело сюда меня, почему мы такие ужасные неудачники, дураки, спрятались в загашник, пытаемся не думать, не чувствовать, но все равно не убиваем себя, держимся. Тут нам самое место. Потом на улице приземлилась бомба, и свеча у нас на столике выпала из подставки. Херб поднял ее, а я поцеловал девчонку, терзая ее за груди. Я сходил с ума.
– Хочешь меня выебать? – спросила она.
Когда она упомянула о цене, та оказалась слишком высока. Я сказал ей, что мы простые сборщики фруктов, а когда там работа закончится, придется переходить в шахту. Шахты – это не сильно весело. В последний раз шахта располагалась в горе. Вместо того, чтобы вкапываться в землю, мы низводили гору с небес. Руда залегала в вершине, и добраться до нее можно было только из подножья. Поэтому мы бурили эти дыры вверх по кругу, нарезали динамит, вставляли запалы и засовывали шашки в эти круги дырок. Все запалы сплетались вместе в один свисавший хвост, ты его поджигал и рвал когти. Оставалось две с половиной минуты, чтобы убраться оттуда как можно дальше. Потом, после взрыва, возвращался, выгребал лопатой всю эту срань и повторял процесс. Так и бегал вверх-вниз по лестнице, как мартышка.
Время от времени находили то руку, то ногу и больше ничего. 2 с половиной минут явно не хватало. Или какой-нибудь из запалов неправильно сделали, и огонь по нему бежал прямо вверх. Изготовитель щелкнул ебалом, но теперь он был слишком далеко и не заморачивался. Вроде как с парашютом прыгать – если не раскроется, некому и гундеть.
Я пошел наверх с девчонкой. Окон там не было, поэтому – снова свечка. На полу лежал мат. Мы оба на него сели. Она разожгла трубочку с гашишем и передала мне.