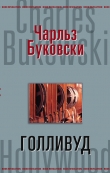Текст книги "Самая красивая женщина в городе и другие рассказы"
Автор книги: Чарльз Буковски
Жанры:
Контркультура
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Буковски Чарлз
Самая красивая женщина в городе и другие рассказы
Чарлз Буковски
САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА В ГОРОДЕ
и другие рассказы (не нормат.лексика)
Часть первая сборника "Эрекции, эякуляции, эксгибиции и истории обыкновенного безумия вообще".
Эти рассказы первоначально появлялись в журналах Open City, Nola Express, Knight, Adam, Adam Reader, Pix, The Berkeley Barb и Evergreen Review. САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА В ГОРОДЕ БИФШТЕКС ИЗ ЗВЕЗДНОЙ ПЫЛИ ЖИЗНЬ В ТЕХАССКОМ БОРДЕЛЕ ШЕСТЬ ДЮЙМОВ ЕБЛИВАЯ МАШИНА КИШКОВЫЖИМАЛКА 3 ТЕТКИ 3 ЦЫПЛЕНКА ДЕСЯТЬ СУХОДРОЧЕК ДЮЖИНА ЛЕТУЧИХ МАКАК, НИКАК НЕ ЖЕЛАВШИХ СОВОКУПЛЯТЬСЯ КАК ПОЛОЖЕНО 25 БИЧЕЙ В ОБНОСКАХ ЛОШАЖЬЯ МАЗА БЕЗ ГОВНА ЕЩЕ ОДНА ЛОШАДИНАЯ ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЕ, ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ОДНОЙ ПОДПОЛЬНОЙ ГАЗЕТЕНКИ ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПАЛАТЕ ДЕНЬ, КОГДА МЫ ГОВОРИЛИ О ДЖЕЙМСЕ ТЁРБЕРЕ ВСЕ ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ СОВОКУПЛЯЮЩАЯСЯ РУСАЛКА ИЗ ВЕНЕЦИИ, ШТАТ КАЛИФОРНИЯ АККУМУЛЯТОР ПОДСЕЛ
ПОЛИТИКА – ЭТО КАК ПЫТАТЬСЯ ВЫЕБАТЬ КОТА В СРАКУ МОЯ ТОЛСТОЖОПАЯ МАМОЧКА ПИЗДАТАЯ ИНТРИЖКА КАКОЙ ПИЗДЫ НИ ПОЖЕЛАЕШЬ НОВИЧОК ИЗВЕРГ УБИЙСТВО РАМОНА ВАСКЕСА СОБУТЫЛЬНИК БЕЛАЯ БОРОДА СЕДАЯ МАНДА
САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА В ГОРОДЕ
Кэсс была самой молодой и красивой из 5 сестер. Самой красивой девушкой в городе. Наполовину индианка, с гибким и странным телом, змеиным и горячим, – а уж какие глаза... живое пламя. Словно дух в форму залили, а удержать не смогли.
Волосы черные, длинные, шелковистые, танцевали и кружились без устали, как и она сама. Кэсс ни в чем не знала меры. Некоторые утверждали, что она чокнутая. То есть, тупые так считали. Они-то никогда Кэсс понять не могли. Мужикам она казалась просто машиной для траха, и плевать, чокнутая или нет. А Кэсс танцевала и флиртовала, целовала мужчин, но, если не считать пары раз, когда приходилось ложиться в постель, умудрялась ускользнуть. Мужчин она избегала.
Сестры обвиняли ее в том, что она злоупотребляет своей красотой и не пользуется, как надо, умом, но у Кэсс сильны были и ум, и дух: она писала маслом, танцевала, пела, лепила из глины всякие штуки, а когда кого-нибудь обижали, душевно или плотски, Кэсс им глубоко сочувствовала. Просто ум у нее был другой – непрактичный. Сестры ревновали ее, потому что она отбивала их мужиков, и злились, поскольку им казалось, что она этими мужиками не самым лучшим образом распоряжается. У нее была привычка добрее относиться к уродам; от так называемых красавчиков ее тошнило:
– Кишка тонка, – говорила она. – Без перчика. Полагаются на идеальную форму ушек и тонко вылепленные ноздри... Одна видимость, а внутри шиш... – Характерец у нее граничил с безумием; некоторые вообще такой характер безумием называют.
Отец умер от пьянства, а мать сбежала, оставив девчонок одних. Девчонки пошли к родственникам, те определили их в женский монастырь. Монастырь оказался местом безрадостным, причем больше для Кэсс, чем для сестер. Другие девчонки относились к ней ревниво, и Кэсс дралась почти со всеми. Вдоль всей левой руки у нее бежали царапины от бритвы – так она защищала себя в драках. На левой щеке тоже остался изрядный шрам, но он скорее подчеркивал ее красоту, чем портил.
Я познакомился с нею в баре на Западной Окраине как-то вечером, через несколько дней после того, как ее выпустили из монастыря. Поскольку она была младше всех, выпустили ее последней. Она просто вошла и села со мной рядом. Я, наверное, – самая большая страхолюдина в городе: может, именно поэтому.
– Выпьете? – спросил я.
– Конечно, почему бы и нет?
Едва ли в нашей беседе в тот вечер было что-то необычное, просто Кэсс такое чувство внушала. Она меня выбрала – вот так всё просто. Никакого напряга.
Выпивать ей нравилось, и залила она довольно много. Совершеннолетней не казалась, но ее все равно обслуживали. Может, у нее ксива липовая была, не знаю.
Как бы то ни было, всякий раз, когда она возвращалась из уборной и подсаживалась ко мне, во мне шевелилась какая-то гордость. Не только самая красивая женщина в городе, но и одна из самых прекрасных в моей жизни. Я положил руку ей на талию и поцеловал один раз.
– Как вы считаете, я хорошенькая? – спросила она.
– Да, конечно, но тут еше кое-что... дело больше, чем в вашей внешности...
– А меня всегда обвиняют в том, что я хорошенькая. Вы действительно так считаете?
– Хорошенькая – не то слово, оно едва ли отдает вам должное.
Кэсс сунула руку в сумочку. Я думал, она платок достает. А она вытащила здоровенную булавку. Не успел я и пальцем дернуть, как она проткнула этой булавкой себе нос – наискосок, сразу над ноздрями. На меня накатило отвращение пополам с ужасом.
Она взглянула на меня и рассмеялась:
– А теперь? Что сейчас скажешь, мужик?
Я вытянул у нее из носа булавку и придавил ранку своим платком. Несколько человек вместе с барменом наблюдали представление. Бармен подошел:
– Послушай, – сказал он Кэсс, – будешь выпендриваться еше, мигом вылетишь.
Нам тут твои спектакли не нужны.
– Ох, да иди ты на хуй, чувак! – отозвалась она.
– Приглядывайте тут за ней, – посоветовал мне бармен.
– С нею все будет в порядке, – заверил я.
– Это мой нос, – заявила Кэсс. – А я со своим носом что хочу, то и делаю.
– Нет, – сказал я, – мне тоже больно.
– Тебе что, больно, когда я тычу булавкой себе в нос?
– Да, больно, я не шучу.
– Ладно, больше не буду. Не грусти.
Она поцеловала меня, кажется, ухмыляясь сквозь поцелуй и прижимая платок к носу.
Ближе к закрытию мы отправились ко мне. У меня еше оставалось пиво, и мы сидели и разговаривали. Именно тогда я и понял ее как личность: сплошная доброта и забота. Отдает себя, не сознавая. И в то же время отскакивает обратно в дикость и невнятицу. Ши-ци. Прекрасное и духовное ши-ци. Возможно, кто-нибудь, что-нибудь погубит ее навсегда. Я надеялся только, что это окажусь не я.
Мы легли в постель, и после того, как я выключил свет, Кэсс спросила:
– Ты когда хочешь? Сейчас или утром?
– Утром, – ответил я и повернулся к ней спиной.
Утром я поднялся, заварил пару чашек кофе, принес одну ей в постель.
Она рассмеялась:
– Ты – первый человек, который отказался ночью.
– Да ничего, – ответил я, – этого можно и вообще не делать.
– Нет, погоди, теперь мне хочется. Дай я чуть-чуть освежусь.
Кэсс ушла в ванную. Вскоре вышла: выглядела она чудесно, длинные черные волосы блестели, глаза и губы блестели, сама она блестела... Свое тело она показывала спокойно, словно отличную вещь. Она укрылась простыней.
– Давай, любовничек.
Я дал.
Она целовалась самозабвенно, но без спешки. Я пустил руки по всему ее телу, в волосы. Оседлал. Там было горячо – и тесно. Я медленно начал толкаться, чтобы продлилось подольше. Ее глаза смотрели прямо в мои.
– Как тебя зовут? – спросил я.
– Какая, к чертовой матери, разница? – спросила она.
Я расхохотался и погнал дальше. Потом она оделась, и я отвез ее обратно в бар, но забыть Кэсс оказалось трудно. Я не работал и спал до двух, вставал и читал газету. Как раз отмокал в ванне однажды, когда она зашла с огромным листом – листом бегонии.
– Я знала, что ты будешь в ванне, – сказала она, – поэтому принесла тебе кое-что, прикрыть эту штуку, дикарь ты наш.
И кинула мне лист прямо в ванну.
– Откуда ты знала, что я буду в ванне?
– Знала.
Почти каждый день Кэсс заявлялась, когда я сидел в ванне. В разное время, но промахивалась она редко, и всякий раз при ней был листок бегонии. А после мы занимались любовью.
Раз или два она звонила по ночам, и мне приходилось выкупать ее из каталажки за пьянство и драки.
– Вот суки, – говорила она. – Купят выпить несколько раз и думают, что это уже повод залезть в трусики.
– Стоит принять у них стакан, как беды сами на голову повалятся.
– Я думала, их интересую я, а не только мое тело.
– Меня интересуют и ты, и твое тело. Сомневаюсь, однако, что большинство видит дальше тела.
На полгода я уехал из города, бичевал, вернулся. Я так и не забыл Кэсс, но мы тогда из-за чего-то поцапались, да и я все равно чувствовал, что пора двигать, а когда вернулся, то прикинул, что ее тут уже не будет, но не успел и полчаса просидеть в баре на Западной Окраине, как она вошла и уселась рядом.
– Ну что, сволочь, я вижу, ты опять тут.
Я заказал нам выпить. Потом посмотрел на нее. Она была в платье с высоким воротником. Я раньше на ней таких никогда не видел. А под каждым глазом вогнано по булавке со стеклянной головкой. Видно только стеклянные головки, а сами булавки воткнуты прямо в лицо.
– Черт бы тебя побрал, до сих пор пытаешься красоту свою погубить, а?
– Нет, это фенька такая, дурень.
– Ты сумасшедшая.
– Я по тебе скучала, – сказала она.
– Кто-нибудь другой есть?
– Нет никого другого. Один ты. Но я тут мужиков кадрю. Стоит десять баксов.
Тебе – бесплатно.
– Вытащи эти булавки.
– Нет, это фенечка.
– Я от нее очень несчастлив.
– Ты уверен?
– Чёрт, да, уверен.
Кэсс медленно извлекла булавки и сложила в сумочку.
– Почему ты уродуешь свою красоту? – спросил я. – Разве нельзя просто с нею жить?
– Потому что люди думают, что во мне больше ничего нет. Красота ничто, красота не останется навсегда. Ты даже не знаешь, как тебе повезло, что ты такой урод, поскольку если ты людям нравишься, то знаешь, что они тебя любят за что-то другое.
– Ладно, – ответил я. – Мне повезло.
– То есть, я не хочу сказать, что ты урод. Люди просто думают, что ты урод. У тебя завораживающее лицо.
– Спасибо.
Мы выпили еше по одной.
– Что делаешь? – спросила она.
– Ничего. Ничем не могу заняться. Интереса нет.
– Я тоже. Если б ты был бабой, тоже можно было бы мужиков кадрить.
– Не думаю, что мне бы понравилось вступать в такие близкие контакты с таким количеством незнакомых людей. Это утомляет.
– Утомляет, ты прав, всё утомляет.
Ушли мы вместе. На улицах на Кэсс по-прежнему пялились. Она до сих пор была красивой женщиной, может, даже красивее, чем раньше.
Мы добрались до моей квартиры, я открыл бутылку вина, и мы сидели и разговаривали. С Кэсс разговаривать всегда было легко. Она немного поговорит, а я послушаю, потом я поговорю. Разговор наш просто тек вперед без напряга.
Казалось, мы вместе раскрываем какие-то тайны. Когда находилась какая-нибудь хорошая, Кэсс смеялась долго и хорошо – только так она и умела. Словно радость из огня. За беседой мы целовались и придвигались все ближе и ближе друг к другу.
Довольно сильно разгорячились и решили лечь в постель. И только когда Кэсс сняла свое платье с высоким воротником, я его увидел – уродливый зазубренный шрам поперек горла. Длинный и толстый.
– Черт побери, женщина, – сказал я, лежа на кровати, – черт тебя побери, что ты натворила?
– Однажды ночью попробовала разбитой бутылкой. Я тебе что, больше не нравлюсь?
Я по-прежнему красивая?
Я затащил ее на кровать и поцеловал. Она оттолкнула меня и рассмеялась:
– Некоторые мужики платят мне десятку, а потом я раздеваюсь, и им уже не хочется. Червонец я оставляю себе. Очень смешно.
– Да, – сказал я. – Просто уписяться... Кэсс, сука, я же тебя люблю... Хватит уничтожать себя; ты – самая живая женщина из всех, кого я встречал.
Мы снова поцеловались. Кэсс плакала, не издавая ни звука. Я чувствовал ее слезы.
Эти длинные черные волосы лежали у меня за спиной, будто флаг смерти. Мы слились и медленно, торжественно и чудесно любили друг друга.
Утром Кэсс готовила завтрак. Казалась она довольно спокойной и счастливой. Она пела. Я валялся в постели и наслаждался ее счастьем. Наконец, она подошла и потрясла меня за плечо:
– Подъем, сволочь! Плесни себе на рожу и пипиську холодной воды и иди наслаждаться пиршеством!
В тот день я отвез ее на пляж. День стоял рабочий и не вполне летний, поэтому берег был великолепно пуст. Пляжные бичи в лохмотьях дрыхли на лужайках над полосой песка. Другие сидели на каменных скамьях, передавая другу одинокую бутылку. Кружились чайки, безмозглые, но рассеянные. Старухи лет по 70-80 сидели на лавках и обсуждали продажу недвижимости, оставленной им мужьями, давным-давно не выдержавшими гонки и глупости выживания. Для всего тут в воздухе разливался мир, и мы бродили по пляжу, валялись на лужайках и почти ни о чем не разговаривали. Хорошо было просто быть вместе. Я купил пару бутербродов, чипсов и чего-то попить, мы сели на песок и поели. Потом я обнял Кэсс, и мы проспали часик. Почему-то это казалось лучше, чем заниматься любовью. Мы текли вместе без напряжения. Проснувшись, мы поехали обратно ко мне, и я приготовил ужин. После него предложил Кэсс жить вместе. Она долго сидела, смотрела на меня, потом медленно ответила:
– Нет.
Я отвез ее обратно в бар, купил ей выпить и вышел. На следующий день нашел себе работу фасовщиком на фабрике, и весь остаток недели ходил на работу. Я слишком уставал, чтобы сильно шляться по окрестностям, но в ту пятницу в бар на Западной Окраине поехал. Сел и стал ждать Кэсс. Шли часы. Когда я надрался уже довольно сильно, бармен мне сказал:
– Мне жаль, что так с твоей девчонкой вышло.
– Что вышло? – не понял я.
– Прости. Ты что, не знал?
– Нет.
– Самоубийство. Вчера похоронили.
– Похоронили? – переспросил я. Казалось, она войдет в любой момент. Как же ее может больше не быть?
– Сестры и похоронили.
– Самоубийство? А не мог бы ты мне сказать, как?
– Горло перерезала.
– Понятно. Налей-ка мне еще.
Я пил до самого закрытия. Кэсс, самая красивая из 5 сестер, самая красивая в городе. Мне удалось доехать до своей квартиры, и я не переставал думать: я должен был заставить ее остаться со мной, а не принимать это ее "нет". Все в ней говорило, что я ей не безразличен. Я просто был слишком небрежен, слишком ленив, слишком черств. Я заслуживаю и ее смерти, и своей. Собака я. Нет, зачем собак обижать? Я встал, отыскал бутылку вина и глубоко глотнул из горла. Кэсс, самая красивая девушка в городе, – умерла в 20 лет.
Снаружи кто-то давил на клаксон своей машины. Очень громко и настойчиво. Я поставил бутылку на пол и заорал в окно:
– ЧЕРТ ТЕБЯ ПОБЕРИ, ТЫ, ПАДЛА, ЗАТКНИСЬ!
Ночь продолжала наступать, и с этим я поделать ничего не мог.
БИФШТЕКС ИЗ ЗВЕЗДНОЙ ПЫЛИ
удача моя снова скисла, и я в то время слишком нервничал от чрезмерного пития; шары дикие, сил нет; слишком паршиво всё, чтоб ходить искать обычного перестоя, какой-нибудь оттяжной работенки типа экспедитора или кладовщика, поэтому я пошел на мясокомбинат, захожу прямо в контору.
а я тебя раньше нигде не видел? спрашивает мужик.
не-а, соврал я.
я там уже был года 2 или 3 назад, прошел всю бумажную мутотень, сдал анализы и так далее, и они повели меня вниз по лестнице, 4 пролета вниз, и там становилось все холоднее и холоднее, а полы покрывала пленка крови, зеленые полы, зеленые стены. мне объяснили, что нужно делать, – нажимать кнопку, и тогда через дыру в стене раздается грохот, будто защитники на поле столкнулись, или слон в капкан попал, и оно выползает – что-то дохлое, причем его много, кровавое, и он мне показал: берешь и кидаешь на грузовик, а потом опять кнопку нажимаешь, и выползает другой, а потом ушел. только он скрылся, я снял с себя робу, каску, сапоги (на 3 размера меньше выдали), поднялся по лестнице и свалил оттуда. а теперь вот вернулся – снова застрял.
староват ты для такой работы.
хочу немного подкачаться, мне нужна тяжелая работа, хорошая трудная работа, соврал я.
а справишься?
сплошные мускулы. я раньше на ринге дрался, с самыми лучшими.
вот как?
ага.
ммм, по лицу видать. должно быть, круто приходилось.
да что там лицо. у меня были быстрые руки. и до сих пор быстрые. надо было хоть что-то ловить, чтоб хорошо смотрелось.
я слежу за боксом. что-то твоего имени не припоминаю.
я под другим дрался – Пацан Звездная Пыль.
Пацан Звездная Пыль? не помню я Пацана Звездную Пыль.
я дрался в Южной Америке, в Африке, в Европе, на островах. в глуши, в общем.
поэтому у меня в трудовой такие пробелы – не люблю писать "боксер", потому что люди думают, я или шучу, или вру. просто оставляю пробелы и ну его на хер.
ладно, приходи на медкомиссию. в 9:30 завтра утром, определим тебя на работу.
говоришь, потяжелее хочешь?
ну, если у вас что-нибудь другое есть...
нет, сейчас нету. знаешь, тебе на вид уже полтинник. прямо не знаю, правильно ли я поступаю. нам тут не нравится, когда такие люди, как ты, наше время тратят.
я не люди – я Пацан Звездная Пыль.
ладно, пацан, рассмеялся он, РАБОТУ мы тебе дадим!
мне не понравилось, как он это сказал.
2 дня спустя я через проходную вошел в деревянный сарай, где показал какому-то старику свой квиток, на котором стояло мое имя: Генри Чарльз Буковски-мл., и он отправил меня к погрузочной платформе – я должен был найти там Турмана. я пошел. на деревянной скамейке сидели в ряд мужики они посмотрели на меня так, будто я гомосексуалист или инвалид в коляске.
я же взглянул на них с тем, что в моем воображении было легким презрением, и протянул со своей самой лучшей трущобной интонацией:
где тут Турман? мне сказали его найти.
кто-то показал.
Турман?
ну?
я у вас работаю.
да?
да.
он посмотрел на меня.
а сапоги где?
сапоги?
нету, ответил я.
он сунул руку под лавку и протянул мне пару. пару старых жестких задубевших сапог. я их натянул. та же самая история: на 3 размера меньше. пальцы у меня расплющились и согнулись.
затем он вручил мне окровавленную робу и жестяную каску. я стоял перед ним, пока он закуривал или, как сказали бы англичане, зажигал сигарету. он выкинул спичку спокойным и мужским росчерком руки.
пошли.
там сидели одни негры, и когда я подошел, они на меня посмотрели так, будто все они – черные мусульмане. во мне почти шесть футов росту, они же все были выше меня, а если и не выше, то в 2-3 раза шире.
Чарли! завопил Турман.
Чарли, подумал я. Чарли, совсем как я, это славно.
под каской я уже весь вспотел.
дай ему РАБОТУ!!
господи боже мой, о господи ты ж боже мой, во что превратятся милые и легкие вечера? почему такого не случается с Уолтером Уинчеллом(1), верующим в Американский Путь? я ли не был самым блестящим студентом на курсе Антропологии?
что же произошло?
Чарли подвел меня к платформе и поставил перед пустым грузовиком в полквартала длиной.
обожди тут.
тут подбежало несколько черных мусульман с тачками, клочковато и бугристо выкрашенными белым, будто краску смешали с куриным пометом. в каждой навалено по куче окороков, плававших в водянистой сукровице. нет, они в ней даже не плавали, они сидели, будто свинцовые, будто пушечные ядра, будто смерть.
один из парней запрыгнул в кузов у меня за спиной, а другие начали швырять в меня эти окорока, я их ловил и перекидывал тому, который стоял за спиной, он поворачивался и забрасывал их в кузов. окорока прилетали БЫСТРО, тяжелые, и каждый новый тяжелее предыдущего. как только я избавлялся от одного, следующий уже летел ко мне по воздуху. я понимал, что меня пытаются сломать. скоро я уже потел, потел так, будто все краны развинтили, спина болела, запястья болели, руки ныли, все ныло, а дохлая энергия истощилась до последней невозможной унции.
я еле-еле видел, едва мог собраться и поймать хотя бы еще один окорок, а потом кинуть его дальше, хоть еще один и кинуть. кровь забрызгала меня с головы до пят, в руки беспрерывно прилетал мягкий, мертвый, тяжелый ПЛЮХ, окорок слегка подавался, как женская задница, а я слишком ослаб, не могу даже сказать, эй, да что это с вами, К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ, такое, парни? окорока летят, а я верчусь, пригвожденный, как тот чувак на кресте, под этой жестяной каской, а те знай бегают себе с тачками окороков окороков окороков, и, наконец, все они опустошаются, а я стою, покачиваясь и втягивая в себя желтый электрический свет.
то была ночь в преисподней. что ж, мне всегда нравилась ночная работа.
давай!
меня отвели на другой склад, наверху сквозь здоровенную дыру в дальней стене еще половина бычка, а может и целый бычок, да, оттуда лезли бычки целиком, подумать только, со всеми четырьмя ногами, и один такой вылезал из стены на крюке, его только что зарезали, мало того, останавливается прямо надо мной, повис у меня над головой на этом своем крюке.
его только что убили, подумал я, только что проклятущую тварь зарезали. как они людей от бычков отличают? откуда им знать, что я не бычок?
ЛАДНО – КАЧАЙ!
качать?
вот именно – ТАНЦУЙ С НИМ!
чего?
ох ты госполи боже мой! ДЖОРДЖ, иди сюда!
Джордж подлез под мертвого бычка, сграбастал его. РАЗ. побежал вперед. ДВА.
побежал назад. ТРИ. побежал далеко вперед, бычок завис почти параллельно земле.
кто-то нажал на кнопку, и он его заполучил, захапал для всех мясников мира.
захапал для всех дуркуюших сплетниц, хорошо отдохнувших глупых домохозяек мира в 2 часа дня, в своих халатиках, затягивающихся вывоженными красным сигаретами и почти ничего уже не чувствующих.
меня засунули под следующего.
РАЗ.
ДВА.
ТРИ.
он у меня в руках, его мертвые кости против моих живых, его мертвое мясо против моего живого, и пока эти кости и эта тяжесть впивались в меня, я думал об операх Вагнера, о холодном пиве, думал о манящей пиздёшке, сидящей на диванчике напротив нога на ногу, задрав юбку повыше, а у меня в руке стакан, и я медленно, но верно убалтываю ее, пробираясь в пустой разум ее тела, и тут Чарли заорал ВЕШАЙ ЕЕ В КУЗОВ!
я зашагал к грузовику, из стыда перед поражением, преподанным мне мальчишкой на школьных дворах Америки, я знал, что ни за что не должен уронить тушу на землю, ибо это верный признак того, что я струсил, что я не мужик, и, следовательно, заслуживаю немногого, только презрительных ухмылок, насмешек, да трепки, в Америке надо быть победителем, выхода никакого тут нет, и ты должен выучиться драться ни за что, ничего не спрашивая, а кроме того, если я бычка уроню, то скорее всего придется его поднимать, и он кроме этого испачкается. а я пачкаться не хочу, или, скорее, им не хочется, чтобы он пачкался.
я вошел в крытый кузов.
ВЕШАЙ!
крюк, свисавший с потолка, оказался тупым, будто большой палец с сорванным ногтем. зад бычка оттягиваешь назад и целишься вверх, суешь его хребтом на крюк снова и снова, а крюк не проходит. МАТЬ ТВОЮ В ЖОПУ!!! одна щетина и сало, жёстко, жёстко все.
ДАВАЙ! ДАВАЙ ЖЕ!
я выдавил из себя весь последний запас сил, и крюк вошел, прекрасное зрелище, диво, как крюк вонзается, бычок этот зависает сам по себе, с плеч долой, висит ради халатиков и бакалейных сплетен.
ШЕВЕЛИ МОСЛАМИ!
285-фунтовый негритос, наглый, резкий, четкий, убийственный, вошел в кузов, щелчком подвесил свое мясо, свысока взглянул на меня.
у нас тут цепочка!
лады, командир.
я вышел вперед него. меня уже поджидал следующий бычок. всякий раз, загружая себе на плечи следующего, я был уверен, что он последний, с которым мне справиться, но я все время повторял
еще один один – и всё а потом бросаю.
на хуй.
они ведь ждут, чтобы я все бросил, я читал это по глазам, по улыбкам, когда они думали, что я не вижу. мне не хотелось дарить им победу. я пошел за следующим бычком. игрок до последнего вздоха, до последнего рывка некогда блиставшего игрока – я кинулся на мясо.
прошло 2 часа, когда кто-то завопил ПЕРЕРЫВ.
я не умер. отдохну минут десять, кофейку выпью, и меня им уже отсюда не выкинуть. следом за ними я зашагал к подъехавшему обеденному киоску. я видел, как в ночи от бачка с кофе поднимается пар; видел пончики, сигареты, бисквиты и бутерброды под яркими электрическими лампочками.
ЭЙ, ТЫ!
кричал Чарли. Чарли, как и я.
чего, Чарли?
пока на перерыв не ушел, залезь-ка в тот грузовик, выведи его отсюда и поставь к рампе 18.
мы его только что загрузили, этот грузовик в полквартала длиной. рампа 18 находилась на другой стороне грузового двора.
дверцу открыть мне удалось, залезть в кабину – тоже. внутри раскинулось мягкое кожаное сиденье, такое славное, что я сразу понял если не дать ему бой, то я тут мгновенно закемарю. грузовики водить я не умел. я глянул вниз: полдюжины сцеплений, тормозов, педалей и прочего. я повернул ключ – машина все-таки завелась. потыкал в педали, подергал сцепления, пока грузовик не покатился, и повел его через весь двор к рампе 18, все время думая – когда я вернусь, тележка с обедом уже уедет. а для меня это трагедия, просто трагедия. я припарковал грузовик, заглушил мотор и еще минутку посидел, впитывая добрую мягкость кожаного сиденья. потом открыл дверцу и вылез. промахнулся мимо ступеньки, или что там должно было торчать, и шлепнулся наземь вместе со всей этой окровавленной робой и в бога душу мать каской, как подстреленный. больно не было, я ничего не почувствовал. поднялся я как раз в ту минуту, когда киоск выезжал за ворота и сворачивал на дорогу. я увидел, как они возвращаются к рампе, хохоча и закуривая.
я снал сапоги, снял робу, каску и направился ко времянке у центрального входа, швырнул робу, каску и сапоги на стойку. старик взглянул на меня:
как? бросаешь такую ХОРОШУЮ работу?
скажи им, чтоб переслали мне чек за 2 часа по почте или засунули его себе в жопу, мне по фиг!
я вышел наружу. перешел через дорогу в мексиканский бар, выпил там пива и поймал автобус до дому. всеамериканский школьный двор снова меня выставил.
ЖИЗНЬ В ТЕХАССКОМ БОРДЕЛЕ
Я слез с автобуса в этой техасской дыре, там стоял жуткий холод, а у меня запор, но зарекаться не стоило: комната здоровенная, чистая, всего за 5 баксов в неделю, к тому же с камином, и только я разлатался, как залетает в комнату этот черный дедуля и ну кочергой такой длинной в камине шурудить. Дровишек-то там не было, вот я и думаю: чего это он тут кочергой своей в моем камине расшурудился?
А он смотрит на меня, крантик свой в кулачке зажал и шипит этак вот: "иссссссс, иссссссс!" И тут я подумал: что ж, он с чего-то решил, что я распиздяй залетный, но поскольку я не из таких, то помочь ему ничем не могу. М-да, подумал я, таков весь мир, так уж он устроен. Он навил еше несколько кругов по комнате со своей кочергой, потом отчалил.
После этого я забрался в постель. От длинных автобусных перегонов у меня всегда запор – и бессонница к тому же, впрочем бессонница у меня постоянно.
Как бы то ни было, значит, только дедуля с кочергой из комнаты вымелся, как я растянулся на кровати и подумал: ну вот, может, через несколько дней удастся опростаться.
Тут дверь открывается снова, и заходит такое нехило втаренное существо женского пола, опускается на колени и давай полы драить, а задница у нее так и ходит, так и ходит, так и ходит, а она полы-то все драит и драит.
– Как насчет хорошей девчушки? – спрашивает.
– Нет. Подыхаю от усталости. Только что с автобуса. Мне отоспаться надо.
– Славный кусочек жопки тебя как раз и убаюкает. К тому же – всего пятерка.
– Я устал.
– Хорошая чистенькая девчушка.
– Где она?
– Она – это я.
Она поднялась с колен и повернулась ко мне.
– Прости, но я действительно слишком устал, правда.
– Всего 2 доллара.
– Нет, прости.
Она вышла. Через несколько минут я услыхал голос этого мужика.
– Слушай, ты хочешь сказать, что жопу свою ему толкнуть не смогла? Да мы дали ему самый лучший номер всего за пятерку. И ты теперь хочешь сказать, что не смогла ему толкнуть жопу?
– Бруно, я пыталась! Чесслово, ей-бо, пыталась, Бруно!
– Блядина ты грязная!
Я знал этот звук хорошо. Не пошечина. Хорошим сутенерам по большинству не безразлично, есть бланш на лице или нет. Они бьют по шеке, у самой челюсти, подальше от глаза и рта. У Бруно, должно быть, тут большая конюшня. То определенно был удар кулака о голову. Она взвыла, ударилась о стену, а братец Бруно заехал ей еше разок – так, что стена вздрогнула. Так она и отскакивала, то от стены, то от кулаков, и орала, а я потягивался в постели и думал: н-да, жизнь иногда – действительно штука интересная, но что-то не очень мне хочется все это слушать. Если б я знал, что так все обернется, я б ей кусочек уделил.
Потом я заснул.
Наутро я встал, оделся. Естественно, оделся. Но просраться по-прежнему не получалось. Поэтому я вышел на улицу и стал искать мастерские фотографии. Зашел в первую.
– Слушаю вас, сэр? Хотите сняться на карточку?
Она неплохо выглядела – рыжие волосы, улыбается мне снизу вверх.
– С такой-то рожей – зачем мне на карточку сниматься? Я ишу Глорию Вестхэвен.
– Я Глория Вестхэвен, – ответила она, закинула одну ногу на другую и поддернула юбку. А я думал, нужно сдохнуть, чтобы попасть в рай.
– Что это с вами такое? – спросил я ее. – Какая вы Глория Вестхэвен? Я познакомился с Глорией Вестхэвен в автобусе из Лос-Анжелеса.
– А у нее тут что?
– Ну, я слыхал, что у ее матери тут фотостудия. Пытаюсь ее найти. В автобусе между нами кое-что было.
– Хотите сказать, что в автобусе между вами ничего не было?
– Мы с нею познакомились. Когда она выходила, у нее слезы в глазах стояли. Я доехал до самого Нового Орлеана, потом поймал автобус обратно. Ни одна женщина раньше из-за меня не плакала.
– Может, она плакала из-за чего-то другого.
– Я тоже так думал, пока все остальные пассажиры не начали меня материть.
– И вы знаете только, что у ее матери тут фотостудия?
– Только это и знаю.
– Ладно, послушайте, я знакома с редактором главной газеты в этом городе.
– Меня это не удивляет, – заметил я, глядя на ее ноги.
– Хорошо, запишите мне, как вас зовут и где вы остановились. Я позвоню ему и расскажу, что с вами случилось, только придется кое-что изменить. Вы познакомились в самолете, понятно? Любовь в небесах. Теперь вы расстались и потеряли друг друга, понятно? И прилетели аж из самого Нового Орлеана, зная только, что у ее матери тут фотостудия. Ясно? Завтра утром напечатают в колонке "М– К–". Договорились?
– Договорились, – ответил я. Кинул прощальный взгляд на эти ноги и вышел, когда она уже начала набирать номер. Вот я во 2-ом или З-ем крупнейшем городе Техаса – и он уже у моих ног. Я направился к ближайшему бару...
Внутри было довольно людно для такого времени суток. Я устроился на единственном свободном табурете. Ну, не совсем, потому что свободных табурета было два – по обе стороны от какого-то здоровенного парняги. Лет 25-ти, больше 6 футов росту и чистого весу фунтов 270. Значит, сел я на один из табуретов и заказал себе пива.
Опорожнил стакан и заказал другой.
– Вот когда так пьют, мне нравится, – произнес парняга. – А то эти задроты тут сидят, один стакан часами сосут. Мне нравится, как ты себя держишь, чужак.
Чем занимаешься и откуда ты?
– Ничем не занимаюсь, – ответил я, – и я из Калифорнии.
– Думаешь чем-нибудь заняться?
– Не-а, не думаю. Тусуюсь вот.
Я выпил половину своего второго стакана.
– Ты мне нравишься, чужак, – сказал парняга, – поэтому я тебе доверюсь. Но скажу я тебе на ушко, потому что хоть я и здоровый бык, боюсь, что перевес слегка не на нашей стороне.
– Запуливай, – сказал я.
Парняга склонился к моему уху:
– Техасцы – говно, – прошептал он.