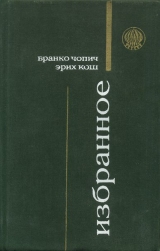
Текст книги "Суровая школа (рассказы)"
Автор книги: Бранко Чопич
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Первая встреча с Николетиной
С Николетиной Бурсачем, лихим партизаном, прославленным пулеметчиком, а позже – любимым бойцами командиром роты, я познакомился еще в те времена, когда он был всего-навсего босоногим сорванцом Николицей.
В тот день я в первый раз пошел в школу.
Осенним утром меня одели по-праздничному, и дед повел меня учиться. По дороге, под самой Михаиличевой горой, нас догнал голенастый парнишка со школьной сумкой, подпрыгивающей за спиной, на бегу бросил нам «доброе утро» и зарысил в гору, но дед окликнул его:
– Эгей, Николица, постой-ка!
Тот остановился, точно его дернули за удила на полном скаку, повернулся на одной ноге и с любопытством уставился сначала на деда, а потом на меня.
– Слушай, Ниджо-душа, присмотри-ка за моим внуком. Видишь, несмышленыш еще совсем. Ходи вместе с ним в школу и домой приводи, чтобы на него чья-нибудь собака не кинулась или корова не забодала. Как, брат, согласен?
– А чего же, согласен, – добродушно отозвался нескладный, одетый кое-как подросток и с интересом оглядел меня с головы до пят. Видно, белобрысый первоклассник в красной шапочке, какие носят в Лике, и новеньких опанках показался Ниджо чересчур нарядным, так как у него вырвалось восклицание:
– Ишь ты какой – все равно как бусинка!
– Вот-вот, ладная дедова бусинка, дедушкин ученичок! – с гордостью подтвердил старик и, обнимая меня, посоветовал:
– А ты, душа, знай держись этого паренька. Не отходи от него всю дорогу.
Как бы приняв меня под свою опеку, Никола сдвинул мою личанскую шапочку на правое ухо и критически оглядел меня.
– Так вот и носи, как парню положено!
– Ни дать ни взять парень, – согласился дед, а я сам, чувствуя, как шапка щекочет мне ухо, возомнил, что другого такого молодца не сыщешь во всей округе и не встретишь ни на одном приходском празднике. Даже на таком, где без жандармов не обходится. Шапка набекрень, эгей!
Но, конечно, только дед ушел, а я остался в классе, все мое молодечество как рукой сняло. Я едва дождался перемены и поторопился выйти во двор, чтобы там, словно и в самом деле потерянная дедова бусинка, приткнуться к моему новому знакомцу Николе, ученику второго класса.
– Карандаш-то чинить умеешь? – выспрашивал мой покровитель.
– Умею, Бея меня научила.
– А штаны развязать и обратно завязать можешь?
– Могу.
– Ну, молодец. А если тебя кто ударит, ты мне только скажи, я ему так наподдам…
По дороге домой Никола предложил:
– Скинь-ка опанки да положи в сумку, босиком лучше ходить.
Я с радостью последовал его совету, а он, помогая мне засовывать обувь в сумку, серьезно, как взрослый, сказал:
– Опанки на зиму прибереги.
Благодаря своей опекунской роли Никола очень быстро прижился у нас. Глядя, как он стремительно меряет двор своими длинными ногами, мой дядя дивился:
– И как только этот Бурсач не поломает свои ходули?!
С его появлением в нашем тихом, спокойном доме ощущалось резкое дыхание иной, суровой жизни. В играх, в мальчишечьих похождениях и в серьезном деле Никола не баловал меня, хоть и был всегда справедлив. Я впервые почувствовал, что «родимый дедушкин Бая» отнюдь не всегда бывает прав. Мир и люди, окружающие меня, начали ставить пределы моим желаниям. Счастье еще, что рядом находился Николица, с чьей помощью много легче было переваривать первые порции горького житейского опыта.
– Ага, подразнил собаку, когда она ела? – язвительно корил он меня. – Вот и прощайся со штанами.
– Прибей ее! – шмыгая носом, хныкал я.
– Э, ты сам виноват. Она собачка славная, веселая. Вот кабы на тебя Глишина рыжая бродяга налетела, я бы об нее, ей-богу, кол обломал.
Николин родной дом находился в поселке Вргель, прилепившемся к самой горе. Начальной школы там поблизости не было, и Николина мать отослала паренька в наше село, к своей сестре, чтобы он ходил в школу отсюда.
– Видишь, вон он, наш Вргель, под тем желтым обрывом, – показывал мне Никола на далекий горный склон. – Смотри, там, на опушке, мой дом. А это моя мать, вязанку дров тащит. А вот сестра моя Елка, лису метлой отгоняет.
– Где, где лиса? – наивно спрашивал я, изумляясь, как это Никола видит и мать, и сестру, и лисицу, а я – ничего.
– Неужто не видишь? – притворно удивлялся Никола. – А вон тех барсуков в камнях видишь? Не видишь?
А медведя? Вон, вон, гляди!.. Э, да ничего-то ты не видишь.
– Разве около твоего дома и медведи водятся?
– Ого, да их там что муравьев! – увлекался парень, а потом, усовестившись, добавлял серьезно и деловито: – Каждый год, как кукуруза поспеет, матери отбою нет от медведя.
* * *
Николина мать, Мария, овдовела, когда дети ее были совсем маленькими: Николе шел пятый год, Елке – второй.
– Ну, хозяин, теперь придется тебе за домом смотреть, – говорила она сынишке, уходя куда-нибудь на работу. – Сиди тут под яблоней и качай сестру, а если придет эта охальница лиса, бей ее палкой и кричи.
Как только за домом раздавалось истошное кудахтанье кур и хлопанье крыльев, мальчуган бросал люльку и сломя голову пускался в погоню. Расторопная кумушка-лиса уже трусила по редкому папоротнику с курицей в зубах, а маленький преследователь, безнадежно отставая от нее, ругался сквозь подступающие слезы:
– Чтоб ты сдохла, чтоб ты подавилась, проклятая! Дождешься у меня еще, смотри!
Побежденный и расстроенный, он возвращался к люльке и жаловался сестре:
– Ну вот, опять утащила курицу. А тебе хоть бы что, только и знаешь, что глазами хлопать!
Лиса, говорят, в конце концов так обнаглела, что однажды прямо вырвала у малого курицу из рук. Он тянул к себе, она – к себе. Но упорный мальчишка вышел победителем. Взлохмаченный, весь в пыли, с окровавленной птицей в руках, он ликовал, едва переводя дух:
– Ага, что, съела? Не видать тебе нашей курочки!
Эта победа, завоеванная самостоятельно, собственными силами, с малых лет придала Николе смелости, и он стал поглядывать на все вокруг с насмешливым вызовом, будто говоря: «Знаю я вас, так и норовите что-нибудь у меня вырвать».
Ясными вечерами в конце лета мать накидывала старое отцовское пальто, брала с колоды топор и звала мальчугана:
– Ну-ка, Николица-душа, прихвати кожух да пойдем в поле сторожить этого разбойника.
– Какого разбойника, мама?
– Да медведя бессовестного. Опять в кукурузу повадился.
Девочку оставляли спать дома, а паренек отправлялся с матерью в поле, на опушку леса. Там они разводили костер и устраивались сторожить.
– Вот ведь разбойник, без стыда без совести! Словно и он знает, где вдовья худоба, так туда и ломится, – бранила медведя крестьянка. – Не ходит, гадина, туда, где мужчина в доме есть, а все туда ладит, где баба да малые сироты.
– Мама, а я мужчина? – спрашивал малыш, растревоженный красотой летней ночи.
– Мужчина, душа моя, только ты еще маленький да слабый. А вот как ты у меня подрастешь, пусть тогда этот дармоед-медведь сунется в нашу кукурузу…
– Ого, пусть только сунется! – вскакивал на ноги мальчик.
Так, слово за слово, мальчуган засыпал с мыслью о будущей расправе с медведем, а Мария, умолкнув, клевала носом над маленьким веселым костром, который один бодрствовал на пустынном ночном подгорье…
Школьные годы пролетели незаметно и стремительно, будто во сне привиделись. Не успел я опомниться, а уж под моим окном в тоскливой ночи шумит река Уна и мерцает огнями многолюдный Бихач. Я теперь гимназист.
Где ты, родимый край, куда девался ты, Никола Бурсач, мой защитник?
Многих тайных слез стоила мне разлука с родными местами (кто его знает, примирился ли я с ней по-настоящему?). Десять – двенадцать лет спустя, перед самой войной меня остановил на базаре в Крупе здоровенный детина и с упреком покачал головой:
– Ага, вот ты как, удрал от меня, скрылся? А кто тебя защищал столько лет без меня?
В тот же миг я узнал Николу Бурсача, давнего моего покровителя. Он стоял предо мной такой знакомый, суровый и милый, как трудная жизнь моего родного края.
– Как, по-твоему, Бая, что это такое готовится? – доверительно пригнулся он ко мне. – Вроде этот гад и к нам норовит вломиться, а?
Я вспомнил его вечные баталии с лисой и медведем и только было собрался ответить, как вдруг кто-то крикнул:
– Николетина, эй, Николетина, поросенок сбежал!
Николетина вскинулся и, не сказав ни слова, затопал сквозь толпу за поросенком.
* * *
Через год, когда повстанцы собирались начать штурм Босанской Крупы, Николетина отыскал меня в Вигневичевской роще и без каких-либо предисловий сердито и расстроенно сказал:
– Говорил я тебе прошлый год: готовится, гад, того и гляди на нас полезет. И вот он тут как тут. Кого-кого, а Николетину в таких делах не проведешь – стреляный воробей… Уж так, видно, мне на роду написано – всю жизнь обороняться то от одной, то от другой напасти!
Крах и пророчество
Резервисты Николетина Бурсач и Йовица Еж несколько дней блуждали по Добою и окрестным селам, отыскивая часть, к которой были приписаны. Но всюду, куда бы парни ни ткнулись, оказывалось, что они попали не туда, куда надо. В одном месте им грубо отвечали, что они ошиблись, из другого просто выгоняли, а в третьем какой-нибудь фельдфебель мерил их с ног до головы хмурым взглядом и цедил сквозь зубы:
– Только вас двоих мы и дожидались, чтобы парад начать. А ну, проваливайте с глаз долой, олухи деревенские, пока я вам…
Посылали их и в «песью роту свинского батальона», и в «воловий моторизованный полк», и другую чушь несли, а в одной части какой-то поручик пригрозил им расстрелом и обозвал башибузуками.
– Вот тебе на! – недоуменно чесал в затылке долговязый Николетина. – Ты тут пришел по военной надобности, а они над тобой потешаются. И что это за «башибузуки» такие?
– Чудное что-то. Никогда такого не слыхивал. Добро бы сказал: олухи, прохвосты, скоты или еще как-нибудь, чтобы понятно было, а то… Неладное что-то. Может, это значит дезертиры?
Сутулый Йовица брел понурый и озабоченный, точно пастух, который потерял корову и безуспешно разыскивает ее, прислушиваясь, не звякнет ли вдали колокольчик.
Николетина, напротив, был зол и раздражен: от дома его оторвали, война на носу, а тут еще эти ослы с ума посходили и дурака валяют. Что-то будет?..
В конце концов после долгих скитаний и расспросов совершенно случайно они узнали, что часть их, оказывается, стоит ни больше ни меньше как в Травнике. Добрались туда в сумерках, полных мглы и измороси.
– Что ни говори, а теперь мы все же вроде как дома, – сипел Николетина, уминая в темноте черствый солдатский хлеб. – Вот только никак в толк не возьму, кто это нас послал совсем в другую сторону, аж в Добой?
– А бог их знает, – примирительно бормотал Йовица, счастливый, что попал под крышу и что кончились скитания и расспросы. – Послал, и все тут.
– Как это «и все тут»? А тебе разве не кажется, что тут кто-то воду мутит?
– Что ж поделаешь, – с покорностью судьбе отвечал измученный, обмякший Йовица, основательно устраиваясь на соломе. – Выходит, есть кому и таким делом заниматься.
– Как можно! – кипятился Николетина. – Тут кто-то подкапывается под державу и воду мутит, а ты говоришь «что ж поделаешь»?
– Ну а что делать-то? – приподнялся Йовица, и в его голосе зазвучала извечная крестьянская тоскливая беспомощность. – Разве меня когда кто спрашивал насчет державы? Налог с меня брали, только и всего.
– ' Что верно, то верно… Никто нас не спросит, никто не послушает.
– Твоя правда, – пробормотал Йовица, – как бы все это опять на бедолагу крестьянина не обрушилось…
Наутро стало известно, что началась война. Офицеры засуетились, стали совещаться, шушукаться, забыв о солдатах. Вновь прибывшие резервисты только на другой день получили некомплектную форму и винтовки без патронов.
– Кол-то я бы и сам нашел, да еще получше, – возмущался Николетина, беря карабин за дуло. – Не больно-то с этим повоюешь.
Несколько раз они строились в маршевую колонну, но затем или раздавалась команда «вольно», или они разбегались от авиации по ближним зарослям и оврагам, лишь затемно возвращаясь в казармы. Вокруг начали шнырять подозрительные личности в штатском: одни советовали солдатам идти по домам, другие насмехались, говорили, что все пропало, грозили, уговаривали отдать оружие. Николетина слушал их в хмуром молчании, а когда какой-то зеленоглазый и белобрысый тип будто в шутку потянулся к его винтовке, он резко отстранился и отрубил:
– Осади назад, шпак!
Помрачневший Йовица украдкой вздыхал, посматривая на своего рослого товарища. А Николетина после долгого угрюмого молчания вдруг загудел:
– Говорил я тебе, что тут кто-то мутит и подкапывается! Так и чую под башмаками – гад какой-то роет да буравит.
Йовица недоверчиво вгляделся в Николины разномастные башмачищи, похожие на копыта, и испуганно замигал.
– Неужто правда?
– Не веришь? – почти оскорбленно спросил парень. – Ей-богу, роет. Во мне прямо отдается, и такая на меня слабость и оторопь нападает, как вроде я уже и не солдат… будто распоясали меня, разоружили… ни дать ни взять пленный.
– Вот-вот! – понимающе поддакнул Йовица. – И я что-то такое замечаю, вроде тоска какая во мне засела…
– Ага, тоска, – мрачно вздохнул Николетина. – Я сначала думал, что это я от солдатского пайка хвораю, а потом гляжу – нет, не в том дело, а подкапывается под нас какой-то дьявол, точит, как червь под корой. Я неприятеля-то и в глаза не видел, а уже – черт его знает… будто меня давно кто-то отдал немцу в руки.
– Вот-вот, так и есть! – быстро подхватил Йовица. – Ходишь сам не свой, все мерещится, будто враг тебя уже за горло схватил.
Дня через три-четыре они получили кое-что из боеприпасов и двинулись вперед. Два раза выходили из вагонов, занимали позицию в кустах над железнодорожным полотном, опять грузились и продолжали путь. Потом шли маршем и, смертельно уставшие, без ужина, расположились на ночлег на плоскогорье, возле чабанских хижин, над шоссейной дорогой.
Вдыхая знакомый запах сосны, дыма и овец, Николетина уныло качал головой.
– Нет, дружище, не похоже это на войну. Все мы чего-то тянем, все в горы отходим, будто прячемся от неприятеля.
– Ей-богу, так оно, верно, и есть, – сокрушенно соглашался сонный Йовица.
Когда рассвело, пронесся слух, что ночью офицеры, покинув часть, сбежали. Брошенные солдаты заметались и загалдели, не зная, куда податься и что делать. Потом стали группами расходиться, растворяясь в сумрачном ельнике. Некоторые двинулись вниз, к дороге.
– Что ж это такое, Йовица? – озираясь, спрашивал Николетина, небритый, опухший и страшный. – То ли мне снится, то ли…
– Да не снится тебе… Видишь, все пропало.
– Что пропало?
– Держава, разве не видишь?
– Откуда мне видеть, горемыке? Вижу только, что войско расползается, а почему, из-за чего?
– Эх, Ниджо, Ниджо, сдается мне, из-за того самого, что давно под твоими башмаками роет да буравит.
– Выходит, вот оно и вылезло на свет божий, – подхватил Николетина. – Смотри-ка, как оно снимает с солдат ремни, заставляет бросать винтовки, патроны. Говорил я тебе: прежде чем хоть одна винтовка выстрелит, мы уже в плену будем. Проснешься однажды утром и увидишь…
– Вижу, вижу, что тут говорить… вот оно, это самое утро, и есть.
Они поднялись на оголенный гребень над хижинами, словно оттуда, с высоты, легче разобраться в том, что делается вокруг. Первое, что наверху донес до их ушей ветер, было какое-то жужжание, которое все нарастало и приближалось. Николетина несколько мгновений внимательно вслушивался, потом вдруг побледнел и пробормотал, вглядываясь в даль:
– Вот они!
– Кто, кто?
– Немцы! Неприятель! Вон, за первым поворотом на дороге!
Как будто поставленный здесь дозорным, Николетина взволнованно оглянулся, чтобы дать сигнал о появлении противника. Оглянулся и остолбенел. Позади – никого.
Последние солдаты были ужо едва различимы на далеких пастбищах, точно муравьи уползали.
Угнетенные и безмолвные, парни долго смотрели на оживший участок дороги, по которому двигалась немецкая мотоколонна. Потом Йовица с трудом выдавил:
– Говорю тебе, пропадает держава!
– Пропадает, пропадает, – задумчиво подтвердил Николетина, может уверяя самого себя, что это правда. – Погибает без единого выстрела, а я, ей-богу, думал, что одой жандармы продержатся самое меньшее полгода, столько их было!
Они стояли на гребне, потерянные, одинокие, как сироты. Зябко поеживаясь, словно от сырости, Николетина подавленно спросил:
– А теперь куда податься?
– Домой, куда же еще, – пробормотал Йовица.
– Это ты кстати припомнил, – невесело усмехнулся Николетина, – а то я совсем что-то растерялся, будто нет у меня больше ни кола ни двора. Первый раз на моих глазах держава пропадает, никак в себя не приду.
Он помолчал и грустно добавил:
– Вот был бы жив мой покойный дед Тодор, может, присоветовал бы что. На его веку сколько властей сменилось: и турецкая, и австрийская, и… а он каждый раз выпутывался и жив оставался.
Вконец расстроенный, Николетина беспомощно поглядел на Йовицу и простонал:
– Эх, легко ему было, ведь то все чужие были державы, а мы, горемычные, до погибели своей собственной дожили.
– Хорошо, хоть голова цела осталась, – нерешительно заметил Йовица.
– Голова? И верно, тут она, – оживился Николетина. – И ноги вот, и руки, и… А погляди-ка вокруг, брат Иова, и горы наши тут, и долины, и леса, и нивы…
Точно пробуждаясь от тяжкого сна, он, снова здоровый и сильный, прояснившимся взглядом обвел все вокруг.
– Иова, братец ты мой, видишь, цела наша прекрасная земля! Слышишь, наша, наша, а не тех, кто там едет внизу. Даже собака у своей конуры смелеет, а человек и подавно.
– Дай-то бог!
– Даст, даст, не бойся! – вдохновенно выпалил Николетина. – Запомни, что я, дурак, тебе скажу. Приехали они к нам, как на парад, а как уедут, им и в страшном сне не снилось. Так всегда было.
Он сжал губы и подобрался, будто готовясь к громадному прыжку.
– Слушай, Иовица, мой злосчастный дед видел спину и турецкой, и швабской власти, всех он проводил и пережил, а в нем сорока ок [11]11
Ока – старинная мера веса, немногим более одного килограмма.
[Закрыть] весу не было. Ну что ж, и мы этих или выживем, или вышибем, а так дела не оставим, даже если сам бог со всеми святыми будет против! Мне об этом что-то из-под земли шепчет, уже пробивается сквозь подметки и расходится по телу. Слышишь, пусть весь свет плюнет мне в лицо, если я, Николетина Бурсач, снова не опояшусь солдатским ремнем!
Царь и бог
У Оканова Бука уже несколько дней бурлил шумный и пестрый повстанческий лагерь, полный самого разного люда: от босоногих парнишек до едва ковыляющих стариков, которые добровольно шли в ночной дозор, потому что им и так по ночам не спалось. Как только улеглась сумятица первых дней Восстания, между повстанцами и злополучным павеличевским государством установилось что-то похожее на границу, весьма ненадежную и неопределенную…
Тогда же народу в лагере стало понемногу убавляться. Те, что не годились для боя или побаивались ружейной пальбы, стали неприметно подаваться в села, норовя укрыться за спины людей, вооруженных винтовками, которые вместе с тремя десятками безоружных составляли нечто вроде роты.
Вскоре разнесся слух, что в горах сформирован штаб отряда. Оттуда приходил то один, то другой со звездой на шапке, держали речи. Повстанцы получили командира, а с ним еще одного начальника, который назывался комиссаром. Мало-помалу в голове у каждого бойца всерьез начала складываться уверенность в том, что у них настоящая рота и ей уже полагается вести настоящую войну.
– Ну, братцы, пришла пора пороху понюхать! Хватит прохлаждаться, – говорил своей ротной братии Николетина Бурсач из Вргеля, тот самый неуклюжий и прямодушный детина, который в первой атаке повстанцев на Будимличи разнес радиопередатчик в жандармской казарме.
– Конечно, Ниджо, армия должна воевать, – озабоченно подтверждал рано ссутулившийся, щуплый паренек, его односельчанин Йовица Еж.
Настоящее боевое крещение рота получила на дороге в Будимличи. Здесь она устроила засаду и без труда расколошматила целую роту домобранов [12]12
Домобраны – солдаты воинских соединений Независимого государства Хорватии.
[Закрыть]. А Николетина Бурсач взял в плен двоих солдат, притаившихся в высоченной траве у ручья.
– А ну, вылезайте! Расселись тут, что твои индюшки на яйцах!
– Ого, да ты пленных взял! – радостно приветствовал командир Николетину, видя, как тот выходит с домобранами из ивняка.
– Брось, какое там «взял», – отнекивался парень. – Просто нашел их в осоке у ручья, без винтовок они.
– Так или иначе, а они твои пленные.
– Пленные? Да, может, они и не солдаты вовсе, а обозники какие-нибудь, и, если я кому скажу, что в плен их взял, вся рота меня на смех подымет. Это уж скорее военный трофей.
– Еще чего!
Оказалось, что оба домобрана – настоящие солдаты, и Николетина сразу посерьезнел.
– Смотри ты, это и называется взять в плен… А я, ей-ей, думал, что здесь попотеть придется.
Рота столпилась вокруг пленных. Посыпались угрозы. Того, что поплотнее, кто-то схватил за ухо. Николетина ощетинился.
– А ну, убери руки, браток, тебе его не батька купил! Тут я свои штаны по ивняку трепал.
Испуганные домобраны прибились поближе к своему новому хозяину и еще больше стали напоминать растерянных и ошалевших индюшек, которых вдали от дома застигло ненастье.
– Эй вы, только меня будете слушать. Теперь я для вас царь и бог!
А в лагере, отойдя в сторонку, Николетина начал допрашивать своих пленных:
– Вы что, настоящая армия, государственная?
– Да, господин.
– Господ у нас нет, – нахмурился парень, – господа не воюют.
Смотрел он на них, несчастных и взъерошенных, точно мокрые курицы, и думал про себя: «Что это за регулярная армия, если она так вот сдается простому… простому…»
Никола никак не мог придумать, как ему именовать самого себя. Что и он солдат, не скажешь: нет» у него ни формы, ни настоящего оружия, да и государства такого нет, которое бы стояло за его плечами и давало ему «гибиру» [13]13
Паек (искаж. нем.).
[Закрыть].
Поэтому парень помолчал немного, а потом сказал своим пленным:
– Вижу я, никудышное это государство, коли войско его с первого выстрела рассыпается, как стая воробьев. Между нами говоря, братцы, мне бы на вашем место стыдно было.
– Кого это нам стыдиться? – удивленно вытаращился пленный помоложе.
«И в самом деле, кого? – спросил теперь уже самого себя Никола. – Мне бы, например, было стыдно перед бабами и детишками, которые остались там, в моем селе, и надеются на меня как на каменную гору. А эти?! Разве их родня какая снарядила, чтобы здесь, около Оканова Бука, гонять по чащобе за каким-то Николетиной Бурсачем?»
– В самом деле, кой черт послал вас воевать с нами?
– Да заставили нас, – пожал плечами старший из пленных.
Николетине вдруг стало жаль этих растерянных и напуганных людей, таких же крестьян, как и он сам. Бойцы его роты уже поснимали с них обмундирование, отдав им свои лохмотья, так что бедняги еще больше стали походить на какого-нибудь Николиного односельчанина, посаженного в общинную кутузку.
За этими невеселыми размышлениями застал Николетину связной из штаба отряда. Он прибыл со срочным распоряжением тотчас же отправить пленных в штаб.
– Это каких таких пленных? – прищурился на него Николетина.
– А вот этих двоих, – небрежно и свысока кивнул связной.
– А какое дело штабу до моих пленных? – подбоченился Никола. – Если им нужны пленные, пусть сами себе добывают. А эти – мои да божьи.
– Ничего, как миленький отправишь, – холодно пригрозил связной, сознавая, что представляет высшую власть.
– А вот те крест, не отправлю! – заартачился Николетина. – Я их добыл в бою и теперь что захочу, то с ними и сделаю. Захочу – буду их резать, свежевать, жарить, кому какое дело?.. Эй вы, а ну, встать!
Домобраны повскакали, бледные, испуганные.
– Смирно! – скомандовал Ниджо.
Пленные замерли на месте.
– Напра-во! – пронзительно и отрывисто выкрикнул детина; когда его приказ был выполнен, он, сторожко наставив ухо, прислушался и важно заявил, подражая капралу прежней югославской армии: – Плохо, плохо, ребята. Не слышал я, чтоб каблуки щелкнули.
– Да мы ж босые, господин, – взмолился домобран постарше. – Разули нас тут.
– Не вижу, ничего такого не вижу! – закусил удила Николетина. – Ложись! Встать! Раздевайся!
Боясь, как бы дело не приняло худого оборота, домобраны стали нерешительно и неохотно раздеваться, но, когда взялись за штаны, Никола вытаращил глаза.
– Вы это что, догола собрались? Всерьез надумали?
– Всерьез, господин. Видим, что погибель пришла.
Николетина опомнился и начал остывать.
– Ну-ну, какая еще там погибель? Одевайтесь.
Когда домобраны были готовы, он подозвал ротного повара:
– Выдай им по двойной порции, и пусть себе идут в штаб с этим парнишкой… Сам видишь, как я расходился, еще, чего доброго, люди и вправду голов не досчитаются. Затем он повернулся к связному и наставительно сказал:
– Видел? Могу что угодно с ними сделать, только не хочу.
– Ух, а я уж думал – крышка им, – с облегчением перевел дух связной.
– Неужели я тебе и вправду таким показался? – недоверчиво покосился Никола. – Этаким кровопийцей?
Он немного помолчал и выдохнул встревоженно и изумленно:
– И что только не взбредет на ум человеку, если дать ему власть да силу?! Людей жарить вздумал! Все двадцать пять лет мне это и в голову не приходило, а как поцаревал полчаса – измотал людей, раздел догола и еще чуть – зарезал бы, ободрал да зажарил… Эхе-хе, Ниджо, сокол ты мой, смотри-ка, до чего легко потерять честь и совесть…








