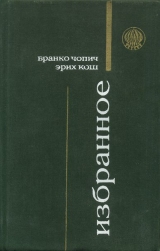
Текст книги "Суровая школа (рассказы)"
Автор книги: Бранко Чопич
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
Гибель Танасие Буля
В зарослях на пологом холме Лиеце встретились, впервые за пять месяцев, Николина рота и Омладинский ударный батальон.
– Вот они, вот они, целехоньки! – приветствовали омладинцев Николины бойцы, по-отечески радуясь, что снова видят своих ребят живыми и здоровыми. – Ну как, ребята, не отдали богу душу, а?
Среди бед и поражений прошлой зимы, когда неприятель со всех сторон лез на сузившуюся и ставшую тесной свободную территорию, мало кто верил, что уцелеет и доживет до такой радостной встречи. Они расставались, ослепленные снежным бураном, под захлебывающийся треск пулеметов и громыхание пушек, и казалось, что сама земля вокруг осыпается и валится в темную бездну. Прощай навеки, белый свет и песня!
– Выжили-таки, а? – радовались старые друзья, тыча друг друга под ребра и хлопая по спинам. Теперь, под весенним солнцем, в зелени кустов, они во всем видели знамение своего воскресения и полной победы над невзгодами зимы. Они ожили и расцвели, счастливые, ободренные внезапной встречей, и каждый думал про себя: «Вот сколько нас! Ничего, мы еще повоюем, будет и на нашей улице праздник!»
Николетина ворочался в бурливом и шумном сборище, как медведь, упоенный движением и собственной силой. Оглушенный гомоном, точно хмельной, он бродил в толпе и вдруг, остановившись как вкопанный и выпучив глаза, закричал:
– Да ты ли это, Танасие, сукин сын?
– Кто же, как не я! – весело ответил длинный загорелый парень. – А ты, Ниджо, как живешь-можешь?
Он двинулся навстречу и уже протянул было руку, но Николетина решительно остановил его:
– Стой, стой, погоди! Ты разве не погиб зимой?
– Как так погиб? Нет, брат.
– Врешь, подлец, как это нет?
– Да нет же! Вот ей-богу!
– А ну, не ври, гад двужильный! – взъерепенился Николетина. – Будто я самолично не видел, как ты упал, когда мы шли на прорыв!
– Э, браток! – присвистнул Танасие. – Ты ошибся тогда. Меня только миной оглушило.
– Быть того не может! Я же сам тебя за плечо тряс и звал, а ты – ни словечка и бровью не повел. Ну мертвый и есть мертвый.
– А как же иначе, коли меня так по башке трахнуло, что я и мины не слыхал.
– Смотри, брат! – удивлялся Николетина. – А я-то думаю: отвоевался мой Танасие. Эх, Тане мой, Тане! Стал я около тебя честь честью на колени и снял револьвер, чтоб неприятелю не достался. Самого тут чуть живьем не сцапали.
– Слава богу, а то я боялся, что это противник снял. Решили, думаю, что мертвый, вот и разоружили.
– Нет, брат, это был лично я, – заверил Ниджо. – Выбрался я кое-как из этой свалки и догнал роту. Иду в колонне, гляжу на твой револьвер, и слезы у меня в три ручья. Жалко хорошего товарища.
– Э, врешь ты небось! – прервал его Танасие, а у самого лицо от волнения скривилось, как от кислого яблока.
– Вот-те крест святой – горючими слезами обливался! Счастье еще, что темно было и эти мои дьяволы ничего не заметили.
– Ха-ха, а я-то жив!
– Ну да. Кто бы мог подумать, что ты такой мошенник и так меня надуешь!
– Так откуда же я знал, что ты плакать будешь? – начал оправдываться Танасие. – Кто это станет убиваться по непутевому Танасие Булю из Стрмоноги?
– Ох, и вредный же ты! – озлился Николетина, садясь рядом с ним в тени орешника. – Что же ты думаешь, я тебе и вправду такой плохой товарищ? Вот теперь мне и в самом деле жалко, что я тогда слезу пустил.
– Ну вот, видишь, какой ты! – с укором протянул Танасие.
– Я тебя лучше оплакал, чем кто другой, – серьезно продолжал Николетина. – Знал бы ты, какую я речь в роте сказал о твоей геройской кончине!
– Да иди ты! – замигал, не веря, Танасие и во все глаза уставился на Николетину.
– Еще какую речь, брат ты мой! Так распалился, что слова из меня, как искры, сыпались. Начал я с того, что, дескать, противник открыл с откосов пулеметный и минометный огонь, а ты первый выскочил из укрытия и бросился в атаку.
– Гм… то есть… ну да, – пробормотал Танасие, взволнованно дыша.
– Товарищи, говорю, вспомнил Танасие свое сожженное село и малых сирот, стиснул в руках автомат…
– Верно, верно, стиснул… Только винтовка это была…
– Знаю, что винтовка, но оно красивее получается, если автомат… Стиснул, говорю, свой автомат и пустился по зеленому лесочку…
– Ага… только это в скалах было…
– Ясное дело – в скалах, но трогательней получается, если сказать, что идет юнак по зеленому лесочку, так жальче выходит… Бежит, говорю, наш Тане, а пули вокруг него сыплются, как град небесный.
– Уж это как есть, палили здорово! – приосанился парень, сверкнув глазами.
– А ты как думал! – распалялся Николетина. – Свистят пули, решетят шинель – серую кабаницу [20]20
Кабаница – национальная верхняя одежда, плащ-накидка.
[Закрыть]…
– Эх, будь у меня кабаница, не мерз бы я этой зимой, – проворчал себе под нос Танасие, но, так как Никола с возрастающим жаром продолжал свою речь, ему и самому начало казаться, что он был одет да наряжен, как настоящий старинный юнак.
– Уж подполз наш Тане к самым окопам супостатов, – продолжал Николетина, – как пробил вражий пулемет его молодецкую грудь. Скосила его каленая пуля, как подсолнух во поле зеленом…
– Э-э, не так, брат! – вздохнул Танасие. – Вот сюда мне угодило, камнем, что ли, стукнуло.
– Куда, куда угодило? – вдруг насторожился Николетина и уже вполне трезво оглядел своего собеседника. – Сюда, говоришь?
– Вот-вот, в самое это место.
– Ни стыда у тебя, ни совести! Как это ты можешь врать мне прямо в глаза? Сразило его в самое сердце, а он тут с камнем своим. Что это ты выдумал?
– А ты что выдумал, дружочек мой? – оскорбленно выпрямился Танасие.
– Я это все своими глазами видел. Мой Танасие погиб именно так, и нет на свете человека, который бы мне доказал, что это иначе было.
– Как нет? А я? Стою перед тобой жив-живехонек, – заволновался Танасие.
– А ты кто такой? Подумаешь! – сварливо ответил Николетина. – Ты вообще не тот, не мой Танасие. Тот был юнак, человечина, а ты тут заладил: и лесу-то зеленого не было, и автомата, и без шинели-то он был, да еще камень этот дурацкий приплел. Ну да, тебе это, может, и пристало, но моему Танасие…
– Какому еще твоему Танасие?
– Настоящему, понятное дело. Моему другу Танасие Булю, который геройски погиб зимой. Сто раз я об этом в роте рассказывал.
– Стой, брат, стой, а я-то тогда кто, если Танасие Буль погиб? – остолбенел парень, судорожно сглотнув слюну.
– Ты кто? А черт тебя знает, кто ты. Дрянь какая-нибудь, надо полагать! Я бы своего Танасие за десять таких не отдал.
Николетина поднялся, поправил ремень и, уходя, кинул ошарашенному парню:
– И в шутку не поминай, что ты тот самый Танасие Буль из моей речи, – вся наша рота тебя на смех подымет! То был юнак, богатырь, а ты… Камнем тебе, говоришь, по голове засветило? Хорош молодец! Больше мне на глаза не попадайся – как бы чего не случилось. А чтоб я тебе револьвер обратно отдал – и думать забудь!
Роковой спектакль
Будут идти военные годы, и в Николиной роте появится еще немало ученого народу и разных школяров, но никто больше не придется так по сердцу ее людям и не будет столько значить для роты, как первый ее гимназист.
Эх, Гимназист наш!
Будут помнить и «гимназиста из Бихача», который пришел в отряд после освобождения этого города; и веселого школяра, прозванного «парнишкой из Нового»; и «вечного студента» (из учительской семинарии исключен, из коммерческого училища сам ушел!); и «монашка» из Санского Моста; и «второгодника» из местечка Притока… Каждый из них имел какое-нибудь прозвище или назывался по месту, из которого пришел. Только первый в роте гимназист остался Гимназистом, и ничем больше. Гимназист – было его занятие, Гимназист – стало его именем в роте, и, хоть жил он и воевал, как всякий другой боец, все-таки он продолжал для всех оставаться гимназистом, а не, скажем, партизаном, омладинцем или кем-нибудь еще.
Были потом в роте школяры и собой поприглядней, и ученее, и храбрее, но никто не умел так хорошо и так увлекательно рассказывать обо всем прочитанном и выученном, никто не был так мил и простодушен, как этот худенький и незлобивый говорун. Бойцы знали, что он сирота, крестьянский сын, как и все они, и ему ведомо, что такое суровые, черствые родственники, ночлег в пустом сарае, пробуждение на зябком рассвете, пыль и пот молотьбы. В нем видели мальчишку, тощего и изголодавшегося, но все еще достаточно жизнерадостного и упорного, чтобы где-то там, в городе, в таинственной гимназии, яростно и весело схватываться один на один с книгой и наукой. Да, он был первым из их среды, кто одолел науку, первым из образованных, кого они видели своими глазами и слышали своими ушами.
– Играет наукой, что мячиком! – сказал однажды изумленный Николетина. И это каким-то образом придавало храбрости каждому бойцу в роте: если может он, почему не сможем когда-нибудь и мы или по крайней мере кто-нибудь из наших, помоложе?
– Славный он, этот наш Синенький, добрая душа, – без ревности признавал Николетина, посматривая откуда-нибудь из-за угла на голубовато-прозрачное лицо увлеченного рассказом подростка. – Ты только погляди на него: рта не закроет, не посидит спокойно, будто огонек в нем какой горит.
В своей грубоватой, ворчливой любви к Гимназисту он выдумал и слегка обидное прозвище – Синенький (из-за голубоватого от худобы лица мальчика), но это имя не пристало к парнишке. Все стеснялись произносить его при Гимназисте, казалось, что это будет насмешкой и над книгой, и над наукой. Только когда его не было рядом, прозвище Синенький становилось уместным и вполне подходящим этому чудаковатому мечтателю, который среди такого смертоубийства умудряется сходить с ума по знанию и науке и даже привораживать к ним других.
Однажды Гимназист вернулся из штаба отряда с полной сумкой «культурного материала» и сразу начал отбирать бойцов для подготовки первого ротного концерта. Нужно было выучить несколько стихотворений для декламации, спеть хором две песни и сыграть пьеску-скетч, в которой показывалось, как усташи расстреливают передового учителя и как их самих вскоре настигает справедливое партизанское возмездие.
– А что, если командира партизан сыграет Николетина? – загорелся Гимназист. – Он такой цельный, убедительный, непосредственный…
– Нет, нет! – как от зубной боли, сморщился политический комиссар роты. – Только хлопот себе наделаем. Не годится он для этого.
– Воображения не хватает?
– Да черт его знает, когда как. Иногда совсем нет, а иногда чересчур много. Если он на сцене увлечется и распалится, устроит он нам комедию – всерьез драться начнет.
– Ну, не может быть!
– Уж ты мне поверь. Не говоря о том, что после концерта не захочет снять командирские знаки различия. Знаю я его.
– Эх, жаль, ужасно жаль. Такой бы был актерище, – сокрушался Гимназист, собираясь на свою режиссерскую должность.
День за днем, как только выпадало свободное время, в сарайчике рядом с лагерем партизаны репетировали свою пьесу. Сначала все делалось стыдливо и втихомолку, а потом участники осмелели настолько, что и в самом лагере, перед остальными, начали в шутку произносить свои реплики. Разошелся даже понурый Йовица Еж, по пьесе усташский шпион: он стал подлизываться и лебезить перед «усташским офицером» Танасие Булем.
Все это Николетина и замечал и не замечал, делая вид, будто знает гораздо больше, чем это было на самом деле; притворяясь равнодушным, он краем уха постоянно ловил что-нибудь из этих Гимназистовых «глупостей». Только иногда, когда ему казалось, что Йовица хватает через край, он, прищурившись, косился сквозь едкое облако самосада и зловеще гудел:
– Смотри, смотри, сутулый черт. Я не я буду, если тебе комиссар за это не намылит башку.
На концерте, в набитом до отказа классе сельской школы, Николетина, сидя рядом с комиссаром, спокойно слушал декламацию и пение – вещи, знакомые ему по начальной школе. Но когда поднялся занавес и началась пьеса, он нахмурился и вытянул шею: ничего подобного он еще не видывал. Через несколько минут у него вырвалось:
– Гляди-ка, в штатском-то – Гимназист наш.
– Да, учителя играет, – шепотом объяснил комиссар.
Чем дальше развивалось действие, тем мрачней и мрачней становился Николетина. Наконец, окончательно и бесповоротно узнав в «шпионе» Йовицу, он стиснул челюсти и пробурчал себе под нос:
– Гм!
– Ты что? – сжал его руку комиссар.
– Ничего.
До самого конца спектакля слышались страдальческие Николины вздохи и скрип стула под ним, а когда над «убитым шпионом» Йовицей опустился занавес, Николетина шумно поднялся, непонимающе глянул на радостно оживленного комиссара, желчно плюнул и кинулся куда-то к дверям, очумело расталкивая всех.
– А ну, с дороги, чего вылупились!
В темноте он прошел в расположение роты, забрался в сарай и натянул на голову сложенное вдвое одеялишко, только бы не слышать доносившегося из школы пения. Заснуть никак не удавалось, и долго еще из его груди вырывалось мучительное и сдерживаемое:
– Гм!
Три-четыре дня после концерта Николетина избегал встреч с Йовицей, а на Гимназиста посматривал только издали, украдкой и со странным недоумением. Видно было, что он молча страдает от какой-то тайной муки.
– Не иначе как сейчас новолуние, потому и наш Ниджо туча тучей ходит, – подмаргивал исподтишка долговязый Танасие Буль, стараясь, чтобы его не услышал расстроенный пулеметчик.
Лишь перед самой атакой на Старый Майдан, когда рота отдыхала в густых дубовых зарослях, Николетина и Йовица случайно оказались наедине, в стороне от остальных.
– Вот ты как, значит, Бранкович ты этакий? – уставился на Йовицу пулеметчик, с притворным спокойствием выпуская целое облако табачного дыма. – Товарища, значит, предавать, да?
– Что ты еще выдумал? Какого товарища? – сдвинул брови Йовица.
– Ты мне из себя богородицу не строй, – холодно процедил сквозь зубы Николетина. – Знаешь, о ком я говорю, – о Гимназисте. Или забыл, что в школе было?
– Так это ты о представлении, о нашей пьесе! – догадался Йовица, но Никола оборвал его еще грубее:
– Да, об этом самом! И не егози! О твоем шпионстве.
– Так это же было представление, сам знаешь.
– А почему именно ты, мой ближайший сосед, вызвался шпиона представлять? Ни за что поумнее не взялся?
– А что тут плохого? И Гимназист вон представлял, ты же видел…
– Это тебе твой курносый нос представлял! Гимназист и там, перед школьниками, говорил то же самое, что нам в роте говорит, – о море, о книгах, о науке. Ничего он не представлял. А ты и эта потаскуха Танасие Буль только и думали, как бы погубить парня. И погубили, клянусь богом.
– Да Ниджо, это же шутка! Вон он, Гимназист, живой и здоровый, а вот и мы – как были партизаны, так и остались.
– Эх, не совсем это так, – серьезно и горько сказал Николетина. – Ни он для меня не живой, как раньше, ни вы двое больше… Знаешь, я только сейчас разглядел: не курносый у тебя нос, а шпионский, самый настоящий шпионский, который всюду пролезет и все пронюхает. Только после этого представления мне стало ясно, какая ты двуличная душонка, настоящая лиса.
– Ей-богу, Ниджо, либо ты с ума сошел, либо все это какая-то дурацкая шутка.
– Дурацкая шутка – то, что было в школе, – оборвал его пулеметчик. – На глазах у всей роты, у всей молодежи превратиться в бандита, в шпиона и убить единственного школяра в роте, единственного нашего выучившегося деревенского мальчишку! Или слишком много у нас таких, а? – Николетина воинственно нахмурил брови. – Что ж вы на меня не пошли, будь вы неладны, на пулеметчика, вы б у меня узнали, почем фунт лиха! Мне бы во сто раз легче было вам простить, если б вы мне голову сняли, а не этому мальчишке. Школяр с карандашом, с книжкой, так и давай на него, да?
– Но, Ниджо, мы же представляли, как фашисты…
– Кого б вы там ни представляли – маху вы дали! Зачем нашему народу, да и мне вместе с ним, знать, что на свете есть такие скоты, которым ничего не стоит загубить ученого человека, застрелить ни в чем не повинного учителя посреди школы, перед детишками? Зачем это нам?
– Ну, чтобы лучше бороться, чтобы, так сказать… – замялся Йовица.
– Чтобы лучше бороться? Слушай, Йован, у меня руки на пулемете стынут, как я об этом вспомню. Так и думаю: раз такое есть где-то на свете, между живыми людьми, – значит, и в нас оно может проникнуть и заползти. Мы ведь тоже из плоти и крови. Коли ты согласился такое представлять – значит, зло не дремлет, а так и пробирается повсюду, так и подкапывается…
– Эх, Ниджо, нашел чего бояться!
– Ей-богу, боюсь, брат, – теперь уже спокойнее, озабоченно признался Николетина. – Врага, что атакует с той стороны, можно остановить пулеметом, но отрава, яд… как ты загородишь этому дорогу? Так вот глянешь когда-нибудь, а твой лучший друг… Хватит тебе, это не шутка… Вот я в бою под Чараковом недавно поджег дом, оставил кого-то без крова. Теперь спрашиваю себя: где приютились детишки того человека?
– Да чего тебе думать об этих бандитах из Чаракова?
– Вот я и говорю, что яд действует, – опечаленно закивал Николетина. – Действует, действует и никого не щадит. Как от него защититься, один бог знает.
* * *
Спустя несколько месяцев после концерта Гимназист погиб в бою за укрепленный пункт Черные Воды. Притихла рота после его похорон, но больнее всех, казалось, было новому командиру – Николетине Бурсачу, его добровольному покровителю. В лагере он обычно молча сидел где-нибудь в углу, не переставая курил и будто искал кого-то блуждающим взглядом.
Видя его в таком состоянии, товарищи не поминали при нем о Гимназисте. Однажды, сидя с Йовицей на пригорке около Оканова Бука, Николетина сам заговорил о нем.
– Наворожили вы на том представлении моему несчастному Гимназисту погибель.
Йовица изумленно откинулся.
– Да-да, наворожили. Играют дети в войну, она и приходит, так и вы.
Расстроенный Йовица молчал, не зная, что ответить, а Никола продолжал, не заботясь, слушают его или нет:
– Когда он в вашей пьесе должен был погибнуть, я сразу понял, что это с ним и в самом деле случится, и заныло у меня сердце. И вот сейчас – жив я, здоров, иду с ротой, как раньше, а на душе у меня так, будто потерял запасной диск от пулемета. Я не дурак, я понимаю, что диск – одно, а веселый мальчишка-грамотей – совсем другое, но все-таки… Бедный мой Синенький!
Контроль в Бихаче
Прошло несколько недель после освобождения Бихача, и командир Николетина Бурсач вновь оказался со своей ротой в таком важном сейчас городе на реке Уне.
Весь город под тонкой снежной пеленой. Тишина такая, что кажется, будто ты оглох, и недоверчивый командир подозрительно озирается и простуженно хрипит, обращаясь к взводному Ежу:
– Йовица, что это Бихач притих, как все равно ребенок, когда обделается? Не рассыпаться ли нам, а то глядишь, дадут очередь из окон, поздно будет.
Месяц назад, в начале ноября, когда партизанские бригады готовились к штурму города, Николетина первый раз в жизни очутился под Бихачем. Политический комиссар бригады произнес перед партизанами речь о годовщине Октябрьской революции, которая произошла седьмого ноября. Он упомянул и о тяжелых орудиях крейсера «Аврора», и о штурме царского Зимнего дворца. У Николы в грохоте и сумятице двухдневных боев за город смешались в одну кучу Бихач и Петроград, октябрь и ноябрь, пушки «Авроры» и партизанские минометы. Когда в конце концов, закопченный и грязный, он вломился в монастырь благочестивых сестер в самом центре Бихача, ему показалось, что это и есть тот самый знаменитый Зимний дворец – ни больше ни меньше! Он пришел в себя лишь тогда, когда вокруг испуганно затрепыхались черные одеяния монахинь.
– Тьфу ты, нечистая сила. Давай, Йовица, выбираться из этих юбок, пока живы! Не смыслю я ни бельмеса ни в женщинах, ни в законе божием.
И даже несколько дней спустя Николетина, проходя мимо монастыря, каждый раз кривился и отворачивался, как от погреба с протухшей кислой капустой.
– Вот говорят – Зимний дворец, Зимний дворец! А как попадешь туда – из бабьих юбок не выпутаться.
Сейчас, когда Николетина второй раз попал в Бихач, город показался ему каким-то необычайно торжественным и спокойным. То ли из-за выпавшего утром снега, то ли из-за чего другого – командир и сам не знает. Но, как всякий настоящий солдат, он недовольно косится на всю эту тишь и красоту.
– Гм, вот штатская жизнь, заснули они все тут, в тылу, что ли?
На домах то здесь, то там виднеются флаги. Чем ближе к центру, тем их больше. Только теперь Николетина догадывается, что это может означать, и ищет взглядом взводного Ежа.
– Йовица, уж не началась ли эта самая Скупщина [21]21
Скупщина – парламент.
[Закрыть], или там заседание правительства?
С того временя как в бою под Цазином был ранен ротный комиссар Пирго, Йовица стал своего рода политическим советником Николы. Хотя он знает, быть может, Меньше командира, Николетина всегда обращается к своему добродушному и терпеливому односельчанину, встречая такую надежную поддержку и такой искренний отклик, словно он рассуждает вслух сам с собою. Все самое лучшее, что мог бы он сказать и пожелать себе, скажет и пожелает ему этот понурый Йовица.
Хотя Еж принадлежит к числу бойцов, что помоложе, все партизаны с некоторого времени называют взводного Батей, ибо он горбится так же, как их отцы. Раннее сиротство наложило на его лицо печать постоянной глубокой озабоченности, так что при взгляде на него каждый думает: этот, как видно, добровольно взвалил на себя и мои заботы.
Батя Йовица напряженно моргает, словно силясь сообразить что-то, и тупо глядит на Николу.
– Я говорю, не началось ли заседание Скупщины, или как она там называется?.. – громче повторяет Николетина и недовольно потирает небритое лицо.
– А-а, ну да, конечно! – спохватывается Йовица. – Как это она называется, брат? А?
Все так же моргая, он торопливо роется в торбе, вытаскивает оборванный по краям лист бумаги и разочарованно рассматривает его:
– Нету… искурили… Вот тут было записано.
– Искурили политический материал? – меряет его Николетина укоризненным взглядом. – Нечего сказать, хорош у меня помощничек!
– А что делать, коли у меня вся рота просит!
Им приходится обратиться за информацией к новичку, восьмикласснику, присоединившемуся к роте в самом Бихаче, и тот объясняет им, что сейчас в городе заседает Антифашистское вече народного освобождения Югославии, или АВНОЮ.
В беготне и сутолоке, наступившей после освобождения Бихача, когда к тому же и комиссар был ранен, никто толком не разъяснил бойцам Николиной роты, что такое АВНОЮ. Поэтому они поняли дело так, что в Бихаче собирается партизанское правительство. Новичок-гимназист, правда, пытался, как мог, растолковать им, в чем дело, но бойцы не очень-то слушали его, а еще меньше верили. Что он может знать – в роту пришел только вчера, на шее шелковое кашне, видать, барич. Эх, будь тут прежний их Гимназист, была бы совсем другая песня!
Николетина словно воды в рот набрал, он молча шагал впереди колонны, как нагруженный мешками помольщик; когда роту разместили, он отозвал Йовицу в сторонку.
– Пойду-ка я посмотрю, что там делается. Не мешает, знаешь, проконтролировать.
– А что именно?
– Да вот это самое АВНОЮ.
– Тебе-то что за дело до него?
– Вот те на! – вытаращил глаза командир. – Создается правительство, командование всего государства, а ты говоришь – что мне за дело? Хочу посмотреть, я все тут.
Николетина прибрался и подтянулся, насколько было возможно. Насупившись, он решительной походкой направился к дому, где происходило заседание. Глядя на дом, он припомнил, что здесь вроде бы он сражался в ноябре. Это придало ему решимости.
Перед самым домом его остановил часовой.
– Эй, товарищ, ты куда?
– Надо заглянуть, – деловито ответил Николетина и собрался пройти.
– Нельзя, товарищ.
Никола вздрогнул, как от удара, и мрачно уставился на часового.
– Как нельзя? Ты что?
– Нельзя, там заседание.
– Так я из-за него и пришел.
Часовой позвал начальника караула; тот, убедившись, что Николетина не делегат и не гость, с важностью покачал головой:
– Нельзя. А что тебе там надо?
– Хочу посмотреть, кто там есть.
– Ишь какой! А тебе что за дело?
Николетина вскипел:
– То есть как «что за дело»?! Я тут второй год кровь проливаю, того и гляди головы лишусь, а теперь, когда создают власть и государство, меня не пускают посмотреть, на что все это похоже?! Чепуху ты городишь, братишка! Есть у меня право…
Начальник караула несколько смутился.
– Никто тебе, товарищ, не говорит, что ты не имеешь права, но только… Запрещено, брат, входить, пока там идет работа, приказ такой.
– Да успокойся ты, парень, не стану же я там в барабан колотить. Тихонько войду и погляжу, кто там сидит.
– И этого, товарищ, нельзя. Николетина нетерпеливо почесал в затылке.
– Ну ладно, а если я на животе подползу и посмотрю как-нибудь одним глазком?
– Ты что, с ума сошел или дурака валяешь? – сдвинул брови начальник караула. – На брюхе он полезет на заседание АВНОЮ, нечего сказать!
– А что ты удивляешься? – приосанился Ниджо. – Я во время боя пол-Бихача прополз на пузе, так неужто десяти шагов до зала не проползу?
Начальник охраны только отмахнулся, исчерпав все доводы. Николетина оглянулся на Йовицу Ежа, который стоял в трех-четырех шагах от них, и полусердито-полушутливо подмигнул.
– Видишь, Йовица, и заглянуть не дают. Неспроста это, что-то меня сомнение берет.
– Какое еще может быть сомнение? – сердито спросил начальник караула.
– Как какое? – рявкнул Никола. – Если тут и правда составляется настоящее наше правительство, партизанское, почему его от меня прячут и охраняют? Почему мне нельзя заглянуть туда?
– Нельзя, и все тут! – уперся начальник караула, не вступая в дальнейшие объяснения.
– Выходит, ты мне не дашь увидеть мое собственное правительство? – побледнел Никола и вплотную придвинулся к начальнику.
– Не дам. Ну и что?
Николетина резко обернулся и прошипел:
– Йовица, веди роту!
И Йовица, и начальник караула были в замешательстве.
– Какую еще роту? – нахмурился начальник.
– Мою роту! – рявкнул Никола. – Если мы могли ворваться в блиндажи перед Бихачем и пройти по мосту, когда по нему строчило пять пулеметов, не остановит же нас эта несчастная дверь с парой часовых.
Йовица приблизился к начальнику караула и озабоченно сказал:
– Пропусти его, товарищ, пусть заглянет. А то наделает он нам хлопот, уж такой у него нрав, черт бы его побрал! Рота за ним в огонь и в воду пойдет.
Начальник караула с остервенением плюнул и хмуро поглядел на Николетины перекрещенные ремни.
– Ладно, оставь тут оружие, приоткрою тебе дверь, так и быть, заглянешь.
У Николетины округлились глаза.
– Оружие? Какое оружие?! Я дал зарок не снимать оружия до самого Берлина и сейчас не сниму, хоть бы там, в зале, сама святая Троица сидела.
– Ну, делай, брат, как знаешь! – отмахнулся начальник, которому надоело препираться; введя вместе с часовым Николетину в здание, он осторожно приоткрыл дверь и шепотом сказал:
– Смотри, но только чтоб один нос просунуть.
Николетина пригнулся, затаил дыхание и приник глазом к узкой щели у косяка. Через несколько мгновений он просипел:
– У-ух, мать честная, да тут почти одни военные!
И, как бы объясняя самому себе, прошептал уже спокойнее:
– Ну ясно, раз вся страна поднялась. Даже деды надели военную форму. Вон и поп сидит, клянусь Николаем-угодником!
Чтобы лучше видеть, он просунул голову в зал. Делегаты, сидевшие с краю, начали оглядываться, чувствуя, что сзади потянуло холодом, но Никола попятился только тогда, когда ему показалось, что его заметил сам Верховный главнокомандующий, сидевший за столом президиума.
Поглощенный увиденным, ничего не замечая вокруг, он в сумраке вестибюля едва взглянул на начальника караула и с упреком покачал головой:
– Вот, значит, ты какой? Не хотел, чтоб я взглянул на такую нашу честь и славу, такую… такую… Эх, будто их сам царь Лазар созвал на пир!
– Объяснял ведь я тебе: приказ есть приказ.
– Да, сразу видно, что твои деды, как и мои, служили императору. Уперся тут… Я уж испугался, не из лондонского ли правительства кто приехал, раз ты не хочешь меня пускать.
– Эка куда хватил!
– А как же! Собрались тут все мои братья-крестьяне, командиры, члены комитетов, а ты уперся…
– Ну и уперся, своих ведь охраняю, это тебе не какой-нибудь там прошлогодний снег.
– Ого, смотри, оказывается, ты и с этой стороны можешь зайти, – удивленно вырвалось у Николетины. – Вот теперь ты правильно говоришь. Правильно, клянусь верой.
Тут Ниджо на минуту задумался, а потом, уже выходя на улицу, добавил совсем по-дружески:
– И я тоже прав – ты, товарищ, это должен признать. Подумай только: воюю я воюю, кровь проливаю, а вдруг там, за закрытыми дверями, кто-то мне свинью подложить собирается. Глазом не успеешь моргнуть, как тебе скажут: а ты откуда явился, чего тебе тут надо? Не так ли, Йовица, яблочко мое сладкое?








