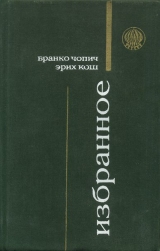
Текст книги "Суровая школа (рассказы)"
Автор книги: Бранко Чопич
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
Когда третья, а тотчас следом за ней и четвертая мина разорвались посредине хижины и та взлетела на воздух, все заволокло огромным облаком дыма и пыли. Торжествуя, Раде не выдержал:
– Вот тебе, Баук, за твое упрямство!
Сквозь оседающий дым прорвался узкий и веселый язычок пламени. Кто-то из осаждающих взвизгнул, выглядывая из-за ели:
– Ой, горит!
И все же потребовалось немало времени, чтобы четники осмелились открыто выйти на поляну и приблизиться к развалинам хижины, охваченной пламенем. Они передвигались ползком, готовые к любой неожиданности.
Вместо ожидаемых шести трупов в хижине обнаружили только пять. Один бесследно исчез.
Братьев Еличичей признали сразу, они и мертвые были очень похожи друг на друга; опознали кузнеца и сухощавого Каракола, но пятый, опаленный огнем, со страшно обезображенным лицом, в рубахе и суконных брюках, мог быть и Баук и студент Чук – оба они были черновые и одинакового роста.
Первым высказал сомнение белоусый верзила из четы Тривуна. Он упорно твердил, что последний раз, в схватке под Верхним Дералом, Баук был в офицерской форме.
– Вечно ты видишь не так, как все! – огрызнулся на него Тривун, не пытаясь, однако, оспаривать.
– Баук! Это Баук, я его знаю! – словно уверяя сам себя, повторял воевода Раде, а обступившие их четники недоуменно молчали, ибо трудно было поверить, что этот убитый ими человек, так обычно и просто одетый, был грозный Баук.
В тот же день трупы положили посреди села на усыпанной гравием площадке у разрушенного каменного колодца. Словно построившись на свой последний парад, один подле другого, на виду у всего села, они лежали одинокие и страшные. Кругом стояла неземная тишина, в которой слышалось только медленное, словно испуганное журчание узенькой струйки воды из чесмы [10]10
Чесма – источник, родник (тур.).
[Закрыть]. Казалось, своим негромким и прерывистым шепотом вода пытается поведать людям об этих навеки уснувших борцах.
Мать Баука уже давно умерла в четницкой тюрьме, до последней минуты упрямо защищая своего Мичо, и к убитым привели старого дядьку Баука, чтобы он опознал в одном из них Майора.
Невзрачный тощий старичонка, в маленьком, будто с женского плеча, овечьем кожушке, заросший серой щетиной, оторопело поглядывал из-под нависших бровей, словно не понимая, чего от него хотят. Если б его позвали посмотреть овец, оценить потраву или еще что, все было бы ясно – это его дело, а тут… Ну зачем старого человека вмешивать в такие большие и страшные дела?
Старик сразу же догадался, что перед ним Баук, по обгоревшей вышивке признал даже свою праздничную рубаху, но ему будто кто шепнул, что и мертвого не следует предавать, и он спокойно и грустно принялся отрицать.
– Нет, не он это… Это не Майор, – уже более уверенно подтвердил он, взяв себя в руки, и, не желая произнести настоящего имени племянника, назвал его так, как привыкли все его называть.
Только на обратном пути, оставшись один в густой грабовой рощице, старик припомнил, как они с Милошем пасли коз и как мальчик обещал подарить ему новую шапку, «когда возвратится с заработков». При этом воспоминании старик снял свою старую папаху, сел на камень и расплакался горько и неутешно:
– О мой Милчо, яблочко мое сладкое, конечно же, признал тебя дядя Дане, как только глазами своими увидел, но разве можно перед этими злодеями сознаться, чтоб они и мертвому тебе мстили…
После гибели отряда Баука окрестные села погрузились в тревожную тишину. И хотя некоторые старики и родственники четников злорадствовали – так, мол, и надо этому безбожнику, который вызвался воевать с самим государством, – молодежь в большинстве своем жалела Баука и охотно верила, что пятый из убитых так и остался неопознанным.
Словно крадучись, тихонько по селам пополз слух, будто Майор жив и что там был совсем другой человек. Рассказ этот, передаваемый из уст в уста, становился таким, каким хотели его слышать люди.
Петар Чук услышал о героической смерти своих друзей спустя три недели после их гибели. Все это время он сидел в хлеву. Много дней и ночей он пролежал в забытьи и приходил в себя лишь в ранние утренние часы, когда в темный хлев доносилось блеянье овец и проникала свежесть, напоминавшая ему о холодных ночевках в лесу. Возвращенный к жизни ловкими сухонькими теткиными руками и успокоенный ее добрым голосом, он медленно освобождался от болезни. С возвращением его к жизни воскресли и старые заботы, и опасения за товарищей. Все чаще он спрашивал тетку:
– Что с Милошем, почему он не дает о себе знать? Не слышно ли чего-нибудь?
Старушка не хотела говорить правду, пока парень не поправится, и спешила перевести разговор на Первую Краинскую бригаду, которая теснила четников воеводы Раде.
– Нам, сынок, и не надо другого Баука, чем Краинская бригада. Вон и от нас парни уже бегут к краинцам. Кто знает, может, и Баук там!
Услышав о гибели Баука и о тех легендах, что увековечили его подвиг, Петар заперся в своем убежище; только к обеду вышел он во двор. Пошатываясь, направился к амбару, в свою «типографию», вытащил из мешка спрятанную там пишущую машинку и, размазывая по лицу обильные слезы ослабевшего после болезни человека, начал писать листовку от имени Майора Баука.
«… Дорогие мои земляки! Вставайте в ряды героической Первой Краинской бригады. Смойте позор, которым запятнал весь наш край итальянский и усташеский прислужник, предатель воевода Раде. Не допускайте, чтобы молчали винтовки моих погибших товарищей…»
До глубокой ночи печатал Петар на своем шапирографе листовки. А далеко в горах гремела итальянская артиллерия, отбиваясь от Первой Краинской. Ободренный этой неумолкающей канонадой, последний бауковец, единственный, кому было достоверно известно, что его командира нет в живых, сейчас тверже всех верил, что Баук жив, что он уже близко и что армия его растет. С каждой листовкой, которую он снимал с клейкой массы, он словно бы воскрешал день за днем жизнь Майора…
Когда в руки Раде попала мятая и перепачканная листовка с подписью Баука, он долго и недоуменно глядел на едва различимые буквы, словно пытаясь отгадать их тайный смысл. Баук погиб, в самом деле погиб, и все же…
Ссутулившись и помрачнев, засунув руки глубоко в карманы, Раде тайком прошмыгнул через садик к заросшей терновником канаве, где закопали Баука и его друзей. Тут он долго стоял над утоптанной свежей землей – осевшей могилой бауковцев, – и в нем росли тревога и беспокойство, словно со всех сторон его окружили невидимые враги. Глубоко подавленный, он размышлял: «Закопай ты это на сто, на тысячу метров, а оно все-таки снова покажется, прорастет, как трава. Взойдет и заговорит в каждом кустике, в каждом камне, и тогда не помогут тебе ни винтовки, ни итальянцы с их танками. Чем защищаться, если и мертвые встанут против тебя?!»
Так он стоял, охваченный думами, и чувствовал, что в битве с Бауком поражение потерпел он. Будет он еще и стрелять, и защищаться до последнего патрона, но битва уже проиграна, а те, кто убит, восстанут, чтобы судить. Вон и канонада по ту сторону гор все нарастает и приближается, и это опять они. Опять Баук, но теперь уже его не поймать, не убить. И это страшнее всего…
Мамаша Миля
В большой комнате просторного полупустого дома Шкундрича, что прилепился к самому откосу Грмеча, первым обосновался штаб отряда, а потом уж, как по проторенной дорожке, стали, сменяя друг друга, размещаться штабы отдельных партизанских батальонов, когда забрасывало их сюда переменчивое боевое счастье или поставленные командованием задачи. Время от времени здесь ночевали связные из других отрядов, юркие, смекалистые парни, а то неожиданно в неурочный час останавливалась целая рота, чтоб на заре так же поспешно исчезнуть под приглушенную ругань и скрип обоза.
Это была одна из тех старинных, грубо, но на совесть срубленных построек, на которых почти незаметны разрушительные действия времени и ненастья. Наоборот, кажется, что год от года они становятся все прочнее и все упрямее сопротивляются всякой непогоде и порче. Как только дом, выстроенный на сухой и каменистой почве, утратит свой изменчивый и преходящий блеск, бревна потемнеют и просохнут, он тотчас же сравнивается, сливается со своим окружением и стоит без изменений десятки лет. Каждая дверь приобретает свой особый скрип, по которому ее можно узнать даже во сне. Высокий порог в меру обшаркивается, всякая вещь находит свое постоянное место, на крыше вырастает низенькая, невзрачная поросль молодильника, и жизнь в доме течет однообразно и мирно, без непредвиденных скачков и излишней суеты.
Дом этот лет сорок назад построил Стево Шкундрич, переселенец из Лики, многосемейный член задруги, сохранивший по старой привычке склонность погреть руки на краже коней, волов или другого крупного скота. Потому, вероятно, и выселился он так высоко, на самый откос: вся окрестность как на ладони, а на случай опасности за спиной горы.
– А наш Стево не собирается, должно быть, на виду у всех хозяйничать, – полушутя, полусерьезно говаривали старики, тоже выходцы из Лики, посасывая свои огромные трубки и переглядываясь исподлобья, весело и с хитрецой, словно припоминая и свои давние грешки. Видно было, что они не слишком осуждают своего ловкого соседа. Каждый о себе думает, а гайдук как волк: что урвал, то и съел.
После короткого и призрачного благополучия, наступившего после первой мировой войны, когда «у каждой бабы была припрятана тыщонка», большая задруга Шкундричей начала быстро распадаться. Старший из трех братьев Шкундричей, залезший во время войны в долги, продал свою часть земли и переселился куда-то в Банат. Младший, беспутный пьяница, с юных лет скитался по свету и погиб в какой-то схватке с мусульманами из Каменграда. В полуопустевшем и затихшем доме Шкундричей остались средний брат, Перо, уже пожилой, разговорчивый и немного ребячливый, большой мастер выдергивать зубы, и его жена Миля, которую он всегда ласково звал «мамаша». Это была высокая, хорошо сохранившаяся женщина, спокойная и сдержанная, с выражением покорной и полускрытой печали в глазах, какую нередко можно заметить у бездетных женщин.
У Мили и Перо, никогда не имевших детей, постоянно жил кто-нибудь из близких родственников, чаще всего девочка, которую они и воспитывали вплоть до замужества. Когда же разукрашенные свадебные повозки, сопровождаемые пальбой и громыханием колес, отъезжали от дома, оставляя позади себя облачко пыли и просторный затихший дом, двое одиноких людей грустили денек-другой, а потом Миля первой приходила в себя и предлагала озабоченно и по-хозяйски, туго завязывая платок под подбородком:
– А что, Перо, не взять ли нам опять какую сиротку? Чего плакать-то?
– И правда, мамаша, приведи кого-нибудь, – соглашался Перо, не поднимая головы, ибо слезы капали в его открытую сумку со щипцами и клещами, которые он беспрестанно перебирал в такие дни, обманывая самого себя, будто ищет что-то.
А на следующий день в доме появлялась новая девчушка, застенчивая и растрепанная, и грустно осматривала просторные комнаты этого безмолвного дома. Перо опять становился веселым и разговорчивым, а спокойная и степенная Миля снова принималась за свои привычные дела.
Первые дни Восстания, кипучие и тревожные, двое пятидесятилетних людей встретили в полном замешательстве и растерянности. В то время как все сельские женщины и старики спешили укрыться в горах, спасая ребятишек и самые необходимые вещи, Миля и Перо столбом стояли у своих ворот, молча глядя на народное горе. Наконец, словно стыдясь и укоряя себя в чем-то, Миля проговорила:
– Вот видишь, Перо, каждый заботится о своих птенцах, страдает горемычный народ, а мы с тобой как две ледяшки. Что нам делать?.. Эх, если уж в такой беде нам только и заботы, что о собственной голове, так чего бояться, если мы и потеряем ее?
Сбитый с толку, расстроенный, ожидая и наставления, и последнего слова от своей рассудительной жены, Перо стоял под орехом, положа руку на неразлучную сумку, угрюмо глядел на людей, которые, запыхавшись, толпами спешили к ближнему лесистому откосу. Решительно, даже с какой-то гадливостью, схватила Миля объемистый узел, приготовленный на случай бегства, и в сердцах швырнула его обратно в дом.
– Перо, помоги-ка вон той женщине с узлами да веди ее с ребятишками сюда. Зачем ей в лес бежать с этакой мелюзгой, когда у нас она пока что будет в безопасности!
Маленькая рябая женщина, подавленная заботами и страхом, обремененная детьми и ношей, покорно вошла вслед за Перо в их пустой двор, беспрекословно позволила Миле снять с себя все сумки и узлы и, уже окончательно освободившись от груза, присела на поленницу и с удивлением осмотрелась усталыми глазами. Вид у нее был такой, словно она только что вернулась из лихорадочного забытья в мир обыденных вещей, людей и событий.
– Сестрица, неужели можно нам здесь остаться?
– Сиди знай, – успокоила Миля женщину, заботливо поправляя ей платок на голове, будто малому ребенку, который нуждается в помощи.
– Оставайся, горемычная, куда же тебе еще деваться, – добавил Перо, почувствовав необходимость сказать свое слово, и робко посмотрел на жену, будто спрашивая: так ли я сказал, мамаша?
Дней десять – пятнадцать во дворе у Мили кишмя кишели беженцы, с их подводами, воловьими упряжками и тюками. Наконец, после того как несколько вылазок усташей из города окончились неудачей, у подножия горы образовалась более или менее свободная территория, народ осмелел, ожил и начал возвращаться по домам. Опустел просторный двор, где остались только сенная труха, навоз да объедки.
– Вот и ушли от нас люди, мамаша.
– Конечно, ушли, Перо. Каждый торопится к своему очагу, – подавляя вздох, серьезно ответила Миля и, направляясь в дом, распорядилась: – Возьми-ка ты вон ту старую метлу да подмети двор, а мы с Марой приберем в доме. Как знать, время военное, теперь гости запросто приходят.
И в тот же вечер у Мили разместился штаб отряда, который все еще формировался – при страшной неразберихе, преодолевая отпор и недоверие многочисленных сельских повстанческих отрядов (в каждом селе был свой «отряд» из трех-четырех бойцов с винтовками и неорганизованной, галдящей толпы, вооруженной вилами). Четверо штабистов поселились в большой прохладной комнате с низким потолком на толстых перекладинах, а связные и охрана разместились кто где сумел: в просторной кухне, поближе к очагу, по чуланам и в старом амбаре, где в углах под крышей было полно пустых осиных гнезд.
Торжественная и слегка возгордившаяся оказанной ей честью, Миля до позднего вечера была на ногах, помогая гостям получше и поудобнее устроиться. Вытащила из сундука чистые простыни, перестелила постели, возле дверей повесила новое полотенце и помогла внести в комнату еще одну кровать, которая давно без употребления стояла на чердаке.
От ее Перо было куда меньше пользы. Он бродил по двору среди бойцов, все время приглядываясь к угрюмому пареньку, у которого болел зуб, не решаясь, однако, предложить свои услуги, так как ему никогда еще не приходилось иметь дело с солдатами.
Поздно ночью Мара, новая воспитанница Мили и Перо, взятая из бедной семьи, из глухой деревушки Глибае, боязливо спросила Милю, ворочаясь возле нее в постели:
– Тёть, а этот большой, весь такой блестящий, он что, король?
– Нет, дурочка, какой же он король! Это командир Петар, офицер, а король, кроха моя, удрал куда-то, – рассеянно отозвался Перо, у которого не выходил из головы боец с больным зубом.
– Нечего пустое болтать перед ребенком. Откуда тебе знать, кто и куда удрал, – укорила его осмотрительная Миля.
Новые гости, вернее, хозяева, распоряжались в доме по своему усмотрению, переставляя вещи для собственного удобства. Хорошо знакомый и давным-давно установленный порядок внезапно менялся. Все передвигалось со своих привычных мест, так что и сама Миля не могла толком разобраться в своем родном углу. В ней бунтовала аккуратная и рачительная хозяйка, и часто, разыскивая что-нибудь, она недовольно ворчала:
– И угораздит же их каждый раз засунуть, куда не нужно!
Но как только издали доносился глухой гул орудий, она сразу же приходила в себя и забывала о недовольстве, чувствуя, что это рука войны дотянулась до ее заброшенного домишки и перевернула в нем все вверх дном.
– Вон люди головы свои кладут, а я пекусь о каком-то топоре.
И Миля, у которой никто из родных не участвовал в борьбе, стала чувствовать себя в чем-то виноватой и словно бы в долгу перед командиром, перед бойцами, да и перед каждым в селе. Большой и спокойный командир Петар может, казалось ей, каждую минуту обернуться к ней, опустить руку с неизменной сигаретой и укоризненно спросить: «Что же это, мамаша, а? Все что-то отдают для нашей борьбы, а ты, как срубленная ветка, оторвалась от нас».
Терзаясь мыслью об этой своей вине, которая преследовала ее, словно нескончаемый кошмар, Миля старалась быть как можно полезней в штабе всем, от командира до связного. Она быстро распознала нрав, слабости и склонности каждого. И по вечерам, когда супруги подводили перед сном итог минувшему дню, она жаловалась Перо:
– Плохо у меня что-то ест командир, может, заболел, а может, заботы одолевают.
– Нет, нет, от табака все это, курит без конца! Так я ему и сказал: «Тезка, говорю, брось ты этот табачище».
(Перо и в голову не приходило, что табак вреден, и уж тем более никогда не говорил он об этом с командиром, но эта маленькая ложь так ему понравилась – в самом деле, было бы так естественно сказать об этом командиру, что Перо готов был поклясться всеми святыми, что именно так он и сказал!)
– А у этого маленького чернявого связного уж до того плоха рубашка, что и зашивать нечего. Не знаю, как быть? – и жаловалась, и советовалась Миля.
– Эх, что поделаешь, все обеднели, – бормотал Перо и, не находя более подходящего ответа и утешения, считал необходимым тоже расстроиться и с грустью разглядывал свои носки, так как это было единственное, чем он мог бы помочь обносившемуся связному.
В начале осени на Боснийскую Краину – через Лику – двинулись итальянцы. Однажды в штаб отряда прибыл «личский командир» Стоян Матич, чтобы посоветоваться, как вести себя с этим новым врагом, ловким и коварным, который вероломно устремляется вперед под лозунгом защиты сербов.
В полукрестьянской одежде, в низенькой меховой папахе, похожей на личскую шапочку, скромный и тихий, сидел Матич в большой прохладной комнате и внимательно, не прерывая, слушал командира Петара, машинально поглаживая старый шрам под глазом. Он заговорил как раз в тот момент, когда в комнату вошла Миля с миской простокваши, и она была поражена его голосом, по-детски слабым и высоким, как у женщины.
– Народ в Лике еще колеблется, но я хочу сразиться с итальянцами, и будь что будет.
Явная и удивительная дисгармония между голосом и тем, что сказал этот человек, заставила Милю внимательно приглядеться к нему. И хоть лицо его огрубело и было изрезано шрамами на щеке и возле рта, в глазах личанина она прочитала горькую печаль семейного человека и добряка, печаль, которую подобным ему людям не так-то легко изжить. Первое, что кольнуло ее в сердце, когда она увидела командира, – было острое и тяжелое предчувствие: «Погибнет!»
Вечером, принимая из Милиных рук чашку с чаем, Стоян неожиданно сказал, прислонившись к двери и глядя куда-то во мрак, прищуренные глаза его, окруженные морщинками, приобрели вдруг злое выражение:
– А ты знаешь, мамаша, что мою мать усташи живой сбросили в ущелье?
Долго стыла в его руках забытая чашка, а Миля, тайком наблюдая за ним из-за косяка, опять подумала: «Погибнет!.. И что они плохого сделали, такие хорошие ребята?»
В тот вечер она долго вздыхала, готовясь к серьезному сообщению, и наконец, заметив, что Перо не спит, сказала:
– Ударит наш Стоян на итальянцев.
В тот день Перо охрип, хвастаясь на селе своим «земляком» Матичем, и теперь командир-личанин стал ему совсем как родной.
– Правильно ты говоришь, собирается наш Стоян и по итальянцам хватануть. Э, браток, не напрасно говорится: «Того, кого родила Лика и Крбава, запугать не может рубаха кровава…» Честное слово, ударит родненький!
Вскоре после отъезда Матича штаб отряда переселился на хуторок, поближе к шоссе, единственной и самой важной магистрали в том краю, а к Шкундричам перевели штаб батальона, известного под названием «батальон Миланчича».
Два-три дня Миля чувствовала себя чужой в собственном доме.
Вместо высокого и сдержанного Петара в комнате возле стола суетился маленький Миланчич, живой, вспыльчивый и непоседливый. Резкий и решительный, он не выносил долгих разговоров и беспочвенных догадок. Когда однажды вечером, обсуждая какую-то новую операцию, его командиры пустились в препирательства из-за мелочей, он вскочил с лавки, босой, без пояса, и обрушился на них:
– Тары-бары-растабары, месят, словно бабы тесто! Нечего тут увиливать, бросайся прямо на бункеры, и точка. Я первым туда пойду, и не забывайте – дома у меня семеро детишек мал-мала меньше.
Когда Миля в первый раз принесла ему молоко, он, не взглянув, сказал ей резко и сухо:
– Оставь здесь.
И продолжал, сосредоточенно хмурясь, разбирать по складам донесение, написанное чернильным карандашом на листке в клеточку из ученической тетрадки.
Часто, особенно в первые дни после отъезда штаба отряда, Миля расспрашивала связных о командире Петаре и его людях, сопровождая вопросы заботливыми наставлениями:
– Достаньте в деревне простокваши, он ведь не очень-то любит баранину… А Триво пусть зашьет мешки под муку, и скажите, чтоб следил, а то опять их мыши прогрызут.
– Чего же еще и ждать от них, воришек проклятых! – поддакивал ей Перо, который оставался все таким же беспечным весельчаком, не меняясь и не старея.
Чередующиеся события и постоянно грозящая опасность заставляли быстро забывать минувшее, вытесняли его из памяти людей. Так и Миля все больше забывала товарищей Петара, не могла уже припомнить их имена, привычки и вкусы. Теперь, когда хмурый и не особенно любезный Миланчич отправлялся на задание, она всякий раз заботливо провожала его и не могла успокоиться до самого его возвращения.
– Семеро детей у него, Перо, это не шутка.
Однажды ранним утром, когда промозглый осенний день, словно с трудом, выползал из влажного тумана, Миланчича принесли на носилках. Он был ранен в ногу при ночном нападении на опорный пункт усташей в Браич Таване.
С провалившимися, как-то вдруг обросшими щеками, но по-прежнему решительный и насмешливый, он, лежа на носилках, распекал кого-то и продолжал командовать, а когда в штабной комнате его опустили на сухой и чистый пол, он сбросил с себя мокрую заскорузлую плащ-палатку и весело обратился к перепуганной и растерявшейся Миле, впервые назвав ее мамашей.
– Что, мамаша, перепугалась? Не бойся, Миланчич живуч, его не возьмешь голыми руками.
Подкладывая подушку ему под голову, Миля по-матерински заботливо пеняла ему:
– Сынок мой, что ты с собой делаешь? Поберегся бы, ведь у тебя семеро деток.
– Молчи, мамаша, лучше погибнуть, чем воротиться в эту заваруху, они там уши мне отгрызут, – шутливо ответил Миланчич, а потом, сделав усилие, приподнялся на подушке и прибавил горько и совсем серьезно: – Не будь у меня этой семерки-то, стал бы я так стараться да рисковать своей головой? Черта с два! Карабин на плечо и айда, недолго думая, как все.
Так же внезапно и поспешно, как появился, отбыл Миланчич со своим штабом, оставив после себя тоскливую пустоту в просторных комнатах с настежь открытыми дверями, сетку следов на первом снегу во дворе и слабую надежду в душе Мили на то, что к вечеру он вернется.
Короткая колонна тотчас же затерялась в густой метели, нещадно засыпавшей крупными седыми хлопьями окрестные склоны гор. Долго еще слышался откуда-то снизу, из каменистой котловины, голос Миланчича, резко покрикивавшего на своих связных и погонщиков в обозе.
Неделю спустя в уединенный домишко, тонувший в глухой зимней тишине, ворвался вместе с неистовым бураном горячий и шумный командир батальона, знаменитый Джурин.
Прославившийся в схватках и смелых атаках на усташей, этот бывший унтер-офицер югославской армии, уроженец здешних мест, быстро завоевал известность и любовь в народе. Сердечный и веселый, с беспокойными смеющимися голубыми глазами, он сеял вокруг себя надежду и уверенность, что дела наши идут хорошо, что не существует непреодолимых препятствий и что в конце концов все завершится благополучно. При нем, словно палочка при барабане, был высокий и тощий Штрбац, политкомиссар батальона, любимец молодежи и деревенских молодух, вечно с песней и прибауткой, однако в бою беспощадный и быстрый, как сабля.
– Мамаша, рада ли ты гостям и добрым людям? – еще с порога закричал Штрбац, сразу же стукнувшись головой о притолоку, но чувствуя себя непринужденно и свободно, словно он входил в свой родной дом.
– Как же не радоваться-то, сынок! – встретила его Миля, поспешно поднимаясь от очага, уже готовая заменить мать и этому разбитному тощему верзиле.
И Джурин, и Штрбац, оба молодые парни, вскоре стали для нее будто родные дети. И если сердечный и шумный здоровяк Джурин полонил ее сердце неугасающей улыбкой в светлых живых глазах, то Штрбац не пропускал случая, чтобы при встрече не подтолкнуть ее легонько в плечо и, лихо подмигнув, не спросить:
– А что, мамаша, когда женить-то своих сынов думаешь? Состаримся ведь так на войне.
Он задирал и Перо, расспрашивая про деда, который когда-то угонял волов и под Подовами переправлял их через Уну; Штрбац знал множество деревенских частушек и не оставлял в покое даже Милину воспитанницу, Мару, которая давно уже освоилась с партизанами, по целым дням вертясь среди них. Поймав девчонку, он гладил ее лохматую головенку и по-стариковски ласково приговаривал:
– Ах ты умница-разумница дедушкина. Выдаст тебя дед в Приедор, чтоб не есть тебе больше нашей боснийской кукурузы.
Когда они вместе отправлялись на операцию – Джурин, как всегда, в отличном настроении, добродушный и спокойный, а Штрбац суровый и злой от возбуждения, – Миля провожала их за огороды, как своих домочадцев. И пока они не скрывались за поворотом дороги, она глядела им вслед по-матерински нежно, без тревоги и страха, никак не веря, что двое этих милых парней идут туда, где гибнут люди и где, как в своем доме, распоряжается смерть – ненавистный, недремлющий и жестокий хозяин.
Ночью, заслышав далекую и беспорядочную перестрелку и глухие взрывы мин, она царапала ногтем обледенелое стекло в окошке, всматривалась в снежную мглу и звала Перо, который спал чутким, заячьим сном:
– Перо, слышишь? Горе мне, уж не наши ли где попались?
– Да нет, родная, – торопливо отзывался Перо, охотно веривший в то, что лучше и менее опасно. – Скорее, это наш Миланчич, он такой задира.
– А может, и наш Петар. И он ведь где-то там.
С этой минуты у Мили пропадал сон. Она принималась трезво рассуждать вслух, словно и не спала совсем:
– Жалко своего, кого ни возьми… И все-таки не идет у меня из головы, что это наши двое; Петара с Миланчичем я вроде забывать стала, а эти будто дети родные.
Как-то в конце зимы пришло известие, что Стоян Матич, командир из Лики, погиб в бою на Лапаце. Услышав это от вестового, Миля ушла в холодный и пустой чулан и долго плакала, сидя, согнувшись, на низенькой скамеечке. Она давно уже не думала о нем, а теперь вдруг так ясно все припомнила, как живой возник он перед ней, такой же скромный и смертельно грустный.
– Правда, что погиб наш Стоян? – будто мимоходом, спокойно и печально спросила она Джурина, который стоял посреди двора, провожая связных.
– Погиб, – коротко ответил Джурин, глядя в снег, словно стыдясь того, что всякая мысль о смерти была далека, непонятна и чужда ему. – Погиб, погиб, – дважды повторил он, будто стараясь уверить себя в том, что и такое случается в жизни.
Гибель Стояна заставила пожилую женщину задуматься о всех людях, что прошли за последнее время через ее дом.
Перебирая их в памяти, одного за другим, она вдруг невольно сказала вслух, обращаясь к своему Перо:
– Сколько мы хороших людей перевидали, Перо, за осень и зиму, больше чем за все свои пятьдесят лет. Как будто здесь собралось все, что только есть хорошего и доброго.
– Да так оно и есть, – с готовностью отозвался добродушный Перо, давно уже решивший про себя, что их постояльцы лучше всех, потому-то, вполне естественно, они и выбрали его дом.
Оставаясь по ночам наедине со своими горестями и заботами, эта простая, неграмотная женщина, всегда окруженная повстанцами и их вожаками, своим умом постепенно доходила до ясной я непреложной истины, что здесь, «на нашей стороне», действительно собирается все самое лучшее и честное. И она уже догадывалась, что в этой борьбе дело идет не только о спасении головы и собственной жизни, а о чем-то значительно более крупном и важном.
– Видишь, Перо, что вокруг творится! И, скажу я тебе, не ради собственной головы они стараются, потому что, будь так – больше бы они о ней заботились. Это они за правду, Перо.
– А за что же, как не за правду, – поддерживал ее Перо, вдруг становясь серьезным. – Не так уж много эта самая голова стоит, чтоб из-за нее подымался такой бунт. Голова-то сегодня есть, а завтра нет ее, а правда – о, это совсем другое дело.
– Еще по Стояну я это замечала: давно уж он со своей жизнью распростился, а все старался, будто тысячи людей спасал.
После подобных ночных разговоров Миля с еще большим радушием встречала все новых и новых бойцов и разные партизанские штабы. Они появлялись в ее доме в не* погоду, чаще по вечерам, ночью или на заре, продрогшие, усталые и грязные, в мокрых, полуразвалившихся сапогах, но всегда искренне радовались, услышав, что это дом мамаши Мили. Мамаша Миля пользовалась доброй славой во всех отрядах, штабах и среди всезнающих связных.
– Иди отсюда прямо к мамаше Миле, от нее выйди пораньше утром, держись ближе к горам и попадешь как раз в штаб, – так поучал перед отправкой опытный связной своего младшего товарища.
В эту первую партизанскую весну, тревожную и изменчивую, то и дело происходили настоящие сражения, то наступали местные гарнизоны, то налетали четники, то где-то возникали схватки, стычки да перестрелки. Поэтому и Милины гости были непостоянны и часто менялись. Она уже не запоминала лица, путалась в названиях батальонов и отрядов, забывала имена командиров и политкомиссаров.
– Ишь ты, что делается, не успеешь еще голос человека как следует расслышать, глянь – а его уже война забрала. Завтра он может погибнуть, а я не успела его даже яблочком угостить, – жаловалась Миля своим соседкам, которые изредка наведывались к ней, чтобы в разговорах отвести душу.








