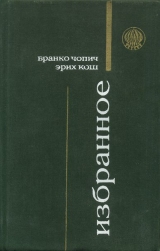
Текст книги "Суровая школа (рассказы)"
Автор книги: Бранко Чопич
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Столкновение в горах
Атакуя с двух сторон, от Санского Моста и от Босанской Крупы, и пробиваясь навстречу друг другу опасной подгрмечской дорогой, изобилующей поворотами да рвами, немцы и легионеры все теснее сжимали просвет на дороге, через который жители подгрмечских сел уходили в горы. Стоял сухой студеный февраль. Начало месяца, вторая неделя Четвертого наступления. В конце концов на дороге в течение почти трех дней свободным оставался только участок длиною семь-восемь километров, который днем долбила авиация, а ночью время от времени сотрясали снаряды из горной пушки. Через него то тут, то там в обоих направлениях пробирались крестьяне, сторожкие и пугливые, как зайцы; запоздавшие пользовались последним моментом, чтобы перебросить семьи на Грмеч, тогда как другие, пренебрегая опасностью, возвращались назад в села – прихватить кое-что из имущества, поначалу брошенного и смятении и спешке.
После трехдневного затишья, получив подкрепление, противник на рассвете рванул вперед, разбил и отбросил слабые партизанские заслоны, сметая их с невысоких скал пулеметным и минометным огнем, и уже около полудням обе его колонны соединились у села Бенаковца, полностью овладев дорогой. Теперь все села были начисто отрезаны от Грмеч-горы. Двадцать тысяч беженцев и две партизанские бригады, Вторая и Пятая, оказались запертыми в безводных и глухих горах, скованных февральским морозом и покрытых слежавшимся снегом.
Николетина последним отступил из Бенаковца. Матеря всех подряд – фрицев, легион, минометы и своего командира, приказавшего роте отступать, – он самовольно остался на скале над дорогой, потонувшей в дыму минных взрывов, и его часть еще долго слышала за собой редкие и короткие очереди «зброевки», которая ему досталась после погибшего пулеметчика. Николин сосед Йовица, раненный осколками малокалиберной мины, ковылял в хвосте колонны и поминутно оборачивался, скорбно удивляясь:
– Вот ведь дурень! Пропадет ни за что! И бывают же такие полоумные – немцев он, вишь, остановит, этакую, махину. Идем, говорю, Ниджо, идем, брат, – так нет, не желает!
Когда немецкие стрелки подобрались к самой скале, а тут еще минометы его нащупали, Ннколетина, оглушенный и ошалевший от взрывов, побежал к ближайшему отрогу Грмеча, спотыкаясь на каменистых осыпях и цепляясь за низкие кусты. В начале подъема он еще раз оглянулся на свою скалу, затянутую медленно рассеивающимся беловатым дымом, и вдруг схватился за голову и громко и сердито сказал:
– Плакала моя шапка, мать-перемать! Куда я теперь простоволосый, засмеет меня народ!
На покинутой им скале одна за другой грохнули две мины. Николетина плюнул с гневом и презрением.
– Тьфу, вот ведь срам – на одного человека этакую уйму изводить. Не Красная же Армия там засела, чай, и сами знают.
Злясь на расточительных немцев, на самого себя из-за потерянной шапки и на свою роту, ушедшую в неизвестном направлении («Только этого мне и не хватало!»), Николетина двинулся наугад вдоль лесистого отрога, неровно покрытого снегом, из-под которого выглядывали темные бока и корни упавших стволов. Вскоре он столкнулся с пожилым крестьянином в бараньем кожухе, вынырнувшим вдруг на тропинку и застывшим от неожиданности и испуга.
– Ну что, чего ты стал как вкопанный, небось не легион идет! – рыкнул Николетина.
Еще не оправившись от страха, крестьянин пытался, заикаясь, что-то ответить, а по его остановившимся глазам было видно, что он все еще принимает этого простоволосого молодца за домобрана или четника.
– Ну-ну, не бойся, я из Второй Краинской, из бригады Дзюрина, немцы нас раскидали, как бык загородку. Не видал, наши тут не проходили? – гудел Николетина, недовольно разглядывая множество следов на неглубоком снегу.
Облегченно вздохнув, крестьянин поспешил ответить:
– Нет, брат, никого не видал. Я было пошел – авось, думаю, переберусь через дорогу, а тут вдруг эта напасть.
От него Николетина узнал, что поблизости, на просторной укромной поляне, находится один из многочисленных лагерей беженцев, и двинулся вместе с крестьянином, надеясь напасть на след своей роты.
Едва они поднялись на крутой гребень, слегка припорошенный снегом, как перед ними меж высоких и прямых елей завиднелась просторная долина, на которой кишмя кишел народ и слышался сдержанный гомон. Перед шалашами из еловых веток горели костры, их облепили ребята и зябнущие старики. Овцы и козы бродили по лагерю, щипали хвою и заглядывали в шалаши, а лошади и волы стояли, привязанные к телегам. Справа терялась среди деревьев ухабистая и черная лесная дорога.
Николетина и крестьянин сели на бревно возле первого же костра, на котором пыхтел горшок с мамалыгой. Только они скрутили цигарки из табака крупной домашней резки, как вдруг откуда-то появилась хозяйка – высокая и сухощавая, еще крепкая старуха, повязанная голубым платком.
Неприветливо оглядев Николетину, она обратилась к его спутнику:
– Что, кум Перо, не побывал ты в селе?
– Какое там, кума Тривуна, и думать забудь! – невесело отмахнулся крестьянин. – Не пройдешь больше в село. Немцы перекрыли дорогу.
– А где же наше войско? – спросила подошедшая молодуха, разрумянившаяся у костра, с пеплом в светлых волосах.
– Ищи-свищи! Удрали! – разгневалась бабка Тривуна. – Мы их полтора года кормили-поили, а они – на тебе, удрали. Теперь вот таскайся Тривуна на старости лет по лесу.
Николетина насупился:
– А ты, старая, спустись-ка на дорогу, посмотри, как там перья летят. Гада этого – видимо-невидимо.
– Чего ж было в драку лезть, коли силы не хватает? – набросилась бабка на Николетину. – Это вам-то да с десятью державами воевать!
– А ты бы согласилась, чтобы тебя дома за печкой убивали безо всякого? – хмуро пробурчал Николетина.
– Кабы думала соглашаться, не потащилась бы на Грмеч! – отрезала бабка, яростно мешая мамалыгу.
С другой стороны костра весело закричал ребенок:
– Баба, баба, вон чей-то козел на наш шалаш залез!
Бабка сердито вскочила и, вымещая гнев на козле, стала хлестать его веткой, понося его бороду. Вернувшись к костру, она поправила на голове платок и уже дружелюбнее спросила Николетину:
– А где, чадо, твоя шапка? Голова-то у тебя простынет.
– Где? У фрицев осталась! – процедил Николетина, собирая по карманам завалявшиеся патроны.
Бабка дала внучатам миску мамалыги, посмотрела исподлобья на Николетину, а потом заглянула в свой горшок, положила на щербатую тарелку каши и протянула ему.
– На, товарищ, поешь.
– Не хочу! – отрезал Николетина и отвернулся от тарелки, а у самого рот наполнился слюной. Ел он последний раз вчера утром.
– Бери, бери, ешь! – примирительно сказала бабка, ставя тарелку возле нею на бревно.
Николетина, нахмурившись, искоса оглядел тарелку с едой и опять отвернулся.
– Пропади она пропадом, твоя мамалыга. Им снеси, на дорогу, они небось тебе милее, чем наша армия.
У бабки рука так и застыла, и ложка упала в горшок. Задетая за живое, она медленно подняла взгляд на партизана.
– Эх, сыночек, не надо так. Они нам какую беду принесли, а ты – подавай им обед! Или я хуже всех под Грмечем?
– А что ж ты нас тогда костишь? Мало нам немцев, еще и ты – «удрали»! Лучше бы и мне остаться под Бенаковцем.
Бабка понурилась над горшком и начала всхлипывать:
– Да не корю я вас, сыночек, это горе меня одолело, а ты сразу и… Вот до чего дожила – партизан из моих рук не хочет ложку мамалыги взять, будто я чумная какая.
Тихонько всхлипывая, бабка вытирала мокрые глаза, да и Николетина виновато примолк и хмуро воззрился на тарелку с мамалыгой, а потом поставил ее на колени и медленно стал есть.
Старуха еще долго утирала покрасневшие глаза, ворошила костер и озабоченно разговаривала с детьми, а когда подошли какие-то люди и сказали Николетине, что рота его находится у бенаковацкого склада, старуха ушла в шалаш и вернулась оттуда с новой личанской шапкой.
– Вот, товарищ, это у меня от сына, он в плену еще с той злосчастной королевской войны, – невесело сказала она, протягивая Николетине шапку. – Носи на счастье, сынок.
Застигнутый врасплох, Николетина принял шапку, не догадавшись поблагодарить, нахлобучил ее и поднялся, вскидывая ручной пулемет на плечо.
Уже уходя, он припомнил что-то и, обернувшись, сказал бабке Тривуне:
– А ты думаешь, я и вправду сержусь? И у меня мать есть. Теперь она, как и ты, где-нибудь под елкой.
Как Николетина удивился
До чего все-таки трогательно слушать и смотреть, как молодые бойцы нашей роты, до недавнего времени пастухи и поденщики, восторгаются, когда им рассказываешь о необычных вещах на свете. Изумляются люди, да и только.
– Ого, неужто слон такой, побойся бога, братишка?! – удивляются они, когда им рассказываю, например, про слона. Если заведу речь об Эйфелевой башне, отказываются мне верить и с сомнением вглядываются в облака, а когда описываю Великую китайскую стену, у них просто-напросто вырываются всякие устаревшие религиозные восклицания:
– Ох, пресвятая богородица!
– Святая Петка, вот так огромадная работа!
Тут я, понятное дело, расту в собственных глазах и прямо-таки чувствую, как честолюбие щекочет меня с той стороны, откуда у павлина растет хвост, а бойцы, опять же, забывают, что однажды ночью я поднял в роте настоящую тревогу из-за теленка, шуршавшего в кукурузе, и удивленно пялятся на меня, точно порываются сказать: «Э-э, хорошо тебе, раз знаешь всякую такую всячину!»
Даже повар уважает меня за «ум», всегда дает выскоблить котел и удивляется:
– Да, брат, ничего не скажешь, ты человек с большим понятием, нужный для революции, когда столько всего знаешь. Потом невесело добавляет: – Была бы и от меня какая ни то корысть, не будь я такой великий пролакатор.
– Хочешь сказать – провокатор, – поправляю я.
– Ну да, браток, пролакатор, – продолжает он. – Сколько б ни заработал, все пролакал, пропил в корчме.
И так я блистал вплоть до того дня, когда в нашей роте появился этот проклятый Николетина, командир пулеметного расчета.
Кого угодно я мог занять своими рассказами, но не его, проклятущего личанина, повидавшего чуть не весь белый свет и ничему не удивлявшегося.
Однажды, только я завел с какими-то связными разговор о слоне, как вдруг Николетина, этот увалень и соня, пробубнил из угла:
– Видывал я слона!
– Слона? – поразился я. – Ну и как, удивился, когда увидал?
– Чему там удивляться, не медведь же он! – ворчит в ответ Николетина. – Животинка, братва, что и все остальные.
– Но ты видал, какой он громадный?
– Огромадный, – соглашается Николетина, ковыряя в носу.
– А бивни каковы, а хобот! – подзадориваю я.
– Ну да, брат, таким его сотворило.
– Это еще ничего, – переношу я огонь на другой объект. – А вот что бы ты, Николетина, заявил, коли б увидал говорящую птицу попугая!
– Слыхал я и его, – бормочет Николетина.
– Ну, и что скажешь, а? – восклицаю я.
– Что тут сказать! Говорит птица. Раз мы с тобой балакаем, отчего бы и ей не заговорить?
Вижу я, что Николетину ничем не проймешь, прекращаю огонь и без потерь отступаю.
Только дней через десяток, в то время как мы шагали рядом с ним по крупской дороге, Николетина в разговоре упомянул, что бывал и в Париже.
– В Париже! – воскликнул я. – Да расскажи же, человечище, каково там, что видал?
– А ничего особенного, город, вот и весь сказ: улицы, дома, транваи, как и в каждом городе.
– Ух, Париж, Париж! – восторженно продолжаю я. – Ну и как ты, подивился, а?
– Чему я там должен дивиться? – недоумевает он. – Будто я до этого в городах не бывал. Тоже мне, нашел невидаль – город, ах, боже мой!
– Да разве ты, разрази тебя гром, не видал высоченную Эйфелеву башню?
– Видал, ну так что? Сделали люди, только и всего. Люди и не то могут сделать, было б желание.
– Ох, какой же ты, братец! Ты бы не поразился, увидев океан, – укоризненно говорю я.
– С какой стати я должен удивляться океану, бывал я и на нем, когда в Аргентину ехал. То и дело рвало за борт, от качки всю душу наизнанку вывернуло.
– И ты не удивился этому пространству неба и воды?
– С чего бы мне этому удивляться? Не такой я дурак. Вода как вода, только вот пить нельзя, соленая.
Выдохся я и на сей раз, пытаясь хоть чем-нибудь удивить Николетину, и с того дня больше не приставал к нему, оставил его в покое.
«Этого в жизни ничем не удивишь», – заключил я про себя.
Не много времени утекло с тех пор, как я окончательно капитулировал перед нашим равнодушным Николетиной, и вот однажды мы получили задание перебазироваться из-под Грмеча в район Козары. Переход следовало совершить ночью, соблюдая меры предосторожности. Особые опасения вызывал один участок пути, возле железной дороги и шоссе, где на каждом шагу были укрепления и рыскали патрули.
– Как думаешь, Николетина, сможем пройти без боя? – допытываюсь я, а сам в темноте стараюсь держаться к нему поближе. Чувствую, стал он мне вроде бы дорог, будто мы с ним родня кровная.
– Коли не нарвемся на усташей или на немецкий танк в дозоре, то пройдем, – мудро отвечает Николетина и, наклонясь вперед, покачивает головой в такт шагу, как лошаденка, навьюченная тяжелым пулеметом.
– А может случиться, в засаде подстерегут, со мной такое раза два-три уже бывало, – снова дает о себе знать Николетина, а у меня мурашки ползут по спине и за каждым кустом мерещится немецкая колонна.
Николетина же знай себе мелет как ни в чем не бывало:
– Подкараулили нас в том самом месте, где будем нынче проходить, а мы…
– Нико, браток, а далеко ль до того места?
– Что это с тобой, малыш, уж не струхнул ли ты часом? – высказывает догадку Николетина. – Голос у тебя будто подрагивает. И не такой ты веселый, как раньше, когда про этого своего слона баял.
– Да нет, чего мне бояться! – защищаюсь я. – В нашей семье у всех от ночной влаги голос дрожит.
– Гляди ты, такого пока не слыхивал, – бормочет Николетина, и в голосе у него замечаю я что-то вроде тени удивления.
На рассвете мы достигли ближайших склонов Козары. Сразу отлегло от души, и я с облегчением вздохнул, будто скинул с плеч бронепоезд.
Когда же на одной ровной площадке мы стали располагаться на привал, то среди бойцов вдруг обнаружили маленькую сгорбленную старушонку с палочкой в руке.
– Ты откуда это, бабка, взялась посередь войска, забодай тебя комар? – зарычал на нее Николетина.
– Чтоб он тебя забодал, горлопана окаянного! Нет, вы только посмотрите на этого сукина сына! – вскипела старушенция и замахнулась на него своей палкой, в ответ на что наш Нико стал сниматься со всех своих позиций.
– Ого, вот так бабка, сразу серчать, а ведь я ее серьезно спрашиваю.
– Она ночью вела наш батальон. Это с ней мы так ловко проскользнули между укреплениями, – сказал кто-то.
Николетина от такого чуда рот раззявил, что твой экскаватор.
– Быть того не может! Неужто она провела отряд?
– Она, сынок, она, а то кто же, – назидательно подтвердила бабка.
От большого удивления Николетина стал вдруг выражаться реакционными церковными восклицаниями, подкрепляя их жестами:
– Боже правый и святая Петка, дайте мне на это чудо поглядеть своими грешными глазами. Бабуська и росточком-то с петуха, а ведь провела отряд мимо укреплений и засад! – И давай креститься. Потом отыскал взглядом меня. – Поди-ка сюда, философ, да глянь – чудо небывалое: бабушка, божий одуванчик, чуть дышит, а не робеет перед немецкой силой да перед бандюгами-усташами. Ты мне вот про что расскажи, это и есть чудо, а твой слон – можешь прицепить его себе на шляпу.
Разгорячившись, Николетина схватил старушонку под руки и как перышко поднял кверху.
– Эх, бабусенька ты наша родимая!
– Ой-ой, – заверещала бабка. – Опусти меня на землю, я бояжливая.
– Как это – бояжливая?! – Николетина аж глаза вытаращил от удивления.
– Да и как тут не испугаешься, сынок, коли ты меня на цельных два метра вверх подкинул. У меня, сынок, сердчишко-то настоящее заячье. Вот, к примеру, когда иду по мосту, от страха вниз на воду поглядеть не смею, прижмурюсь, чтоб голова не закружилась… А тут верзила этакий подымает меня под облака; да ведь я богу душу отдам, опуститься не успею.
– О черт подери, это вы слыхали? – поразился Нико. – Высоты боится, а сюда пропела отряд под пулеметами. Неужто за тобой мы ночью перебрались по мосту через Гомионицу, да еще в темень?
– Э-э, сынок, вела-то я наше родное войско, потому и забыла про мост и про пулеметы. Это одно, а вот ежели иду по своим делам, то совсем другое. Да кто же, сынок, будет про мост думать, когда за тобой цельный батальон партизан.
– О люди, люди, помри я вчера, не видать бы мне этого чуда! – изумился Николетина, а сам с бабки глаз не сводит.
– Ага, наконец-то и тебя хоть что-нибудь удивило, теперь мне и умереть не страшно! – злорадно вставил я.
– Отойди, ты, мудрослов, – укорил меня Никола и насмешливо добавил: – Подивился я еще давеча ночью, отчего это в вашем роду у всех голос дрожит от ночной влаги, особливо когда укрепления под боком.
И пока я, посрамленный, высматривал, куда бы мне шмыгнуть, за спиной слышался голос Николы:
– Он мне тут рассказывает вроде как невидальщину из бела света, а на нашей родной земле вот они – чудеса-то, на каждом шагу… Ну, заикнись ты мне еще хоть раз о слоне и каком-то там океане!..
Улепетывая от Нико, я снова наткнулся на старушку. Она собиралась в обратный путь, домой, и все беспокойно охала:
– Да как же я теперь по мосту-то пройду! Помру ведь от страха!
Релейная станция
Если где-нибудь устанавливали релейную станцию – партизанскую «почту», – всем становилось ясно: освобожденная территория крепнет. Тыловые штабы – это вроде бы гарантия для крестьянина: можно, мол, приниматься за свои обычные дела, но только когда начинает работать «реалка», мужички берутся за плуги и мотыги. Есть, значит, у наших связь с другими районами и боевыми бригадами, а враг отполз назад и отсиживается в городах да бункерах.
На пригорке над ручьем Калином спряталась в сливовой рощице одна из таких станций – самая ближняя к Грмечу. Разместили ее в хозяйственной постройке на большом крестьянском дворе, в нескольких шагах от огромного старого деревенского дома. Откуда бы, по эту сторону горной гряды, ни прибывал связной, прежде всего он попадал сюда. Приносит парень письма, радиограммы, культурно-просветительную литературу для молодежных ячеек, да и у самого полно новостей, словно воробьев на плетне, – Только слушай. Немало поколесил мальчонка по белу свету, навидался и командиров, и штабов – чего только не знает!
Начальник станции, хромой Душан, человек в годах, всю душу отдает своей работе. Умеет он утешить и горьких матерей, которые пришли узнать, нет ли весточки от сынов, сердечно поговорить с молодой женщиной, тоскующей по мужу, а сегодня вот успокаивает загрустившего старика – ушел его внук без спроса в бригаду и молчит, паршивец, ни звука.
– Словно дома у него пень старый остался – не дед. А, товарищ Душан?
– Э, дорогой мой старикан, сам знаешь – молодо-зелено. Наберется и он ума-разума, как потопает подольше по свету. Да вот оно, принесли почту – может, и для тебя что отыщем.
– А ну, Душан, погляди, дай бог тебе здоровья, может, мне и полегчает.
Душан подымается со своего места и кричит в открытую дверь:
– Эй, Белач, Гончин, – сюда.
У командира двое связных – пятнадцатилетний Джюраица и тринадцатилетний Милорад, но при посторонних он никогда не называет их по именам, а только по фамилии – для официальности.
– Слушай, хозяин, не видал Белача?
– Да вон он, на речке, – с девками лясы точит, – отвечает кто-то со двора.
– А этот, меньшой, Гончин?
– Да и он туда побежал… хочет у большого подучиться.
– Что б его черт подучил! Видал, дед? Погоди-ка.
Командир ковыляет по двору и орет в сторону потока, откуда доносятся удары вальков:
– Джураица, чтоб тебя черти съели, гони сюда! Я вам покажу «царя Душана».
Лоботрясы и острословы из тыловой команды давно пришили начальнику «реалки» прозвище Царь Душан. За глаза так зовут его и мальчишки-связные, да он и сам не прочь иногда угрозы ради воспользоваться своим прозвищем. А кто же он, как не царь – о чем разговор!
Душан берет со стола пачку писем и вздыхает:
– Потерял я, старик, очки. Придется нам подождать моих обалдуев. Они посмотрят, кому нынче письма. Все эти в наше село. Есть и газеты, и радиосводки…
Начальнику неохота признаться старику в своей неграмотности, и поэтому он берет в руки какое-то письмо, отодвигает подальше от глаз и прикидывается, будто пытается прочитать:
– О-б-бе… А, что б тебе пусто – ничего не вижу… Уж не той ли это Милевуре Декичевой? Да только к чему бы это ей такое большущее письмо… А это кому? Какое-то вроде толстое, а маленькое, должно быть, мельнику Джукану. Сын у него в Первой Краинской, в третьем батальоне.
– Там и мой Милош, рана моя горькая, – вздыхает дед.
– Э, тогда жди весточку и о нем, – подбадривает его Душан, да и сам оживляется. – Там и наш Жалобный Джура, знаешь, этот Джура Векич – он всем из нашего села письма пишет.
Джура был широко известный деревенский острослов, и, так его перетак, не было драки, кражи или еще какого «озорного» события, чтобы он не сложил о нем частушку. Ругали его, грозили, доходило дело и до тумаков, но только все напрасно. Джура гнул свое:
– Все это – даром. Когда меня возьмет за живое, будто мурашки пойдут по телу, тут же и сочиню песенку – будь что будет, хоть убей.
С тех пор как началось Восстание и Джура «встал в строй», в село из его части приходили «жалобные» поэтические письма, от которых на глазах проступали слезы: и у того, кому письмо было адресовано, и у «грамотея», что вслух читал его, и у остальных слушателей. Не было в этих письмах прежних шуточек и прибауток, переменился Джура, словно на Косово поле ушел со своей дружиной.
– Бона, видите, и это письмецо Джура сочинил, – угадывали в селе уже с первых слов, и тогда письмо переходило из рук в руки, гуляло по крестьянским сходам, кружило и без конца читалось, пока все не забывали, кому оно, по сути дела, было адресовано. Конверт обычно теряли сразу же, и письмо превращалось в партизанскую листовку, в песню, которая предназначалась каждому, кто сердцем был связан с народными воинами.
И так вдруг нежданно-негаданно бывший весельчак и задира превратился в Жалобного Джуру…
Во дворе послышался конский топот. Джураица и Милорад, сидя на крупе сивого мерина, подгарцевали к самому порогу станции.
– Давай сюда, кавалеры. Разве так положено относиться к воинским обязанностям?
– Купали коня, товарищ командир.
– Ладно, ладно, знаю я это купанье. А ну взгляните, нет ли чего для деда Басы.
Мальчонки бросились – кто быстрей – к письмам. Милорад подбежал первый и радостно объявил:
– Вот оно! «Товарищу Василию Бариловцу, село Верхнее Калинье…»
Старик скинул длинный кожух и растроганно запричитал:
– А, слышал, Душан, Василием называет, и еще товарищем! Вот как уважает меня внучек. И адресу мою знает: село, пишет, Верхнее Калинье. Гляди-ка, и село свое, родненький, вспомнил.
Старик зашмыгал носом. Прослезился и Царь Душан и полез в карман – платок ищет. Милорад оглядел всю компанию и не без ехидства спрашивает:
– Ну как, все готово для плаканья, можно начинать?
– Дождешься ты, получишь по уху! – пригрозил Царь. – Давай, не тяни!
Мальчик развернул письмо и начал:
«Дед мой милый, товарищ Василий, долгих лет тебе твой внук желает, а сам ныне на Врбас отбывает. Из реки студену воду пью, воду пью, а четников бью. А со мной наши горцы везде, не оставим друг друга в беде…»
Нижет Милорад слово к слову, читает песню Жалобного Джуры, дед молча плачет, а Царь Душан уткнулся лицом в ладонь, и капают слезы в горшок с остывшей гороховой похлебкой. Разволновало письмо и старшего связного, Джураицу, – как-то уж очень быстро-быстро он начал мигать, а сам глаза пялит – боится зареветь. В конце концов он вскакивает с места и с шумом выбегает из канцелярии. Царь глядит ему вслед подпухшими глазами и с грустью ворчит:
– Все понятно, и этот того и гляди сбежит в бригаду. Уже пятерых сманил у меня Джура своими письмами… Эх, мать честная, не эта бы моя нога…
Словно дочитав до конца его мысль, заплаканный старик встает и, взяв палку, направляется к двери.
– Ты куда, дед Васа?
– На Врбас, Душан, к внуку! – отвечает, всхлипывая, старик.
– Ой, Васа, Васа, а знаешь ты, где Врбас, где Первая Краинская? Не по твоим это силам, не по твоим годам.
– Оставь, сынок, все равно пойду… По дороге выплачусь вволю, может, и передумаю, вернусь – жалко мне старухи, а пока, а пока… Не отговаривай меня, Душан, братец, сердце туда тянет.








