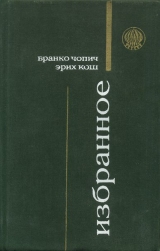
Текст книги "Суровая школа (рассказы)"
Автор книги: Бранко Чопич
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Голубая кружка
В конце концов и Шестая Краинская бригада покидает родной горный край, под Грмечем, и направляется куда-то в сторону Врбаса – студеной реки. Только теперь, по сути дела, и стала она настоящей армией, потому что, покуда ты, братец, таишься у околицы родного села да возле отцовского порога, никакой ты еще не солдат – потому что солдат должен уметь воевать везде и всюду…
– Вплоть до изгнания оккупантов из нашей многострадальной родины, – повторяет кашевар Перайица отрывок фразы из какой-то статьи, присяги вроде бы, беспрестанно озирается на знакомые с детства горы, и кажется ему, что это его самого изгоняют из родного дома. – Вот оно как все перевернулось: думаешь одно, а выходит другое.
Каждая из «старых» краинских бригад уже имеет свое лицо, и это хорошо известно высшему командованию. Одна незаменима в атаке, другая опять же мастерски, ведет уличные бои, третья настропалилась на очистке территории от четников, четвертая…
О Шестой известно, что лучше ее нет в дефанзиве, в обороне значит. Стойко сражается она на своем участке, и когда враг жмет уж особенно сильно, бьет из всех орудий, а то и самолеты пускает в ход – и тогда не так-то легко заставить эту бригаду отступить. За спиной у бойцов родные села, дома, семьи, и отступать некуда. Замри там, где оказался, собери все силы и, не сводя глаз с прицела, поджидай стрелковую цепь врага.
Плетется рота кашевара Перайицы в хвосте колонны, все глубже засасывают ее незнакомые перелески, заросли кустарника и ущелья, а родной Грмеч то здесь, то там показывает им свою горбатую спину, и смотришь – уже вдалеке подергивается дымкой, весь прозрачный и голубой – и есть он и нет, – будто сон.
– Кум Перайица, неужто вон там – мы? – спрашивает тощий лохматый боец, совсем еще мальчик, и тянет руку в сторону горизонта.
– Мы, мы, дорогой крестничек. А ты шагай, незачем туда и смотреть.
– Ну, если бы мне кто раньше сказал, что Грмеч такой голубой, – никак бы не поверил. У нас дома есть такая кружка, привез дядя Вук из Крупы.
– Забудь ты, сыпок, кружки да чашки, – отмахивается от него Перайица, и вроде бы ему слезы подступают к глазам, сам не знает отчего: из-за дяди Вука, Грмеча или этой проклятой голубой кружки.
Устраиваясь на ночлег, Перайица ерзает, пыхтит и наконец закуривает. Из темноты окликает его знакомый ребячий голосок:
– И ты не спишь, кум Перайица?
– Да ты-то что не спишь, паренек? – удивляется кашевар. – Я человек пожилой, ко мне сон не сразу приходит, а ты, братец, как-никак молодой, ты-то что?
– Больно мне тоскливо, кум.
– О голубой кружке вспомнил, а?
– Да вроде и о ней. Откуда знаешь?
Утром выяснилось, что ночью только из их роты сбежало двое бойцов. А сколько из всего батальона, еще неизвестно.
– Теперь они прямо под Грмеч, переночуют дома, а утром в Оканову рощу – там собираются все беглецы: «Такие и такие дела, товарищ Мане, явились в вашу часть. Не изменили мы нашему святому Энобу [22]22
От НОВ – Народно-освободительная борьба.
[Закрыть], только не можем без Грмеча, и решай с нами как знаешь».
Так рассуждает вслух кто-то из беспечных ротных шутников, а невыспавшиеся бойцы угрюмо цедят:
– Бандиты, надо таких расстреливать на месте.
– Попробуй догони. Мане всех принимает в свою роту, откуда бы ни явились.
В следующую ночь дезертировало еще больше. Политкомиссар, выслушав донесение, говорит командиру:
– Нам бы поскорее перебраться через реку – и отсев прекратится. Эти грмечские горцы боятся воды больше, чем вражеских бункеров.
На третью ночь, неспокойную и ветреную, из Перайициной роты сбежало почти целиком отделение во главе с командиром и пулеметчиком. Мальчонка, встрепанный, рано утром влетел в хибару, где ночевали кашевары, и испуганно оглядел темную, битком набитую комнатку, а заметив своего крестного, просиял:
– Ну и напугался же я: думал, и тебя нет.
– Куда я денусь?
– Да вон, сбежал ведь наш пулеметчик Гойко.
– Эх, крестничек-крестничек, одно дело я, а другое – Гойко, – в голосе кума чувствовалась досада. – Не сидят у него на шее восемьдесят верзил, которых надо каждый день накормить. Не так-то легко бросить свою поварешку, сыночек. Понял я это сегодня ночью, пока вертелся под этим одеялишком.
– Не думай, нелегко и им будет добраться до Грмеча, – угрюмо проговорил кто-то из бойцов. – Снова придется пройти по шоссе, а там, сам знаешь, что ни шаг – патрули. Не ровен час – дойдет до заварухи.
Когда рота построилась для марша, за ближними холмами под Грмечем затарахтели винтовки и тут же затрещал пулемет.
– Это они, наши бедолаги, – вздрогнул командир взвода, откуда сбежали бойцы.
– Да я сразу узнал Гойков пулемет, честное слово, – почти обрадовался лохматый мальчонка.
– Похоже, дело не шуточное, нарвались наши ребята на засаду, – вставил свое взводный, строго и укоризненно. – Слышите, с боем мерзавцы пробиваются, так им и надо.
– А ведь и правда, с боем. Наши это, грмечские! – заметил кто-то с гордостью.
– Какие еще наши? Бандиты! Что б они сдохли, предатели!
– Ну как ты можешь такое говорить? – изумился Перайица, переменившись в лице. – Этакое и в шутку нехорошо говорить.
– А сбежать да своих товарищей бросить хорошо, а?
– Кто говорит, что хорошо?
Перестрелка на шоссе усилилась. Повар вздохнул.
– Самое бы время им малость подсобить, гадам, а? Погибнут, чтоб им пусто было.
– Как это подсобить? Пускай погибают. Никто их отсюда не гнал, сами сбежали, да еще всю роту осрамили. А стыд-то какой: и отделенный, и пулеметчик – оба скоевцы [23]23
Скоевец – член Союза коммунистической молодежи Югославии (СКОЮ).
[Закрыть].
– Потому-то, дорогой мой, они так и бьются, там, на шоссе! – прицокнул языком балагур. – Будь я на месте нашего дружка Миле, повернул бы я всю нашу роту назад да и прикрыл бы им отступление.
– Отступление, ты только погляди на него! Дезертирство, так это называется. Смылись, твари, хоть и звезда у них на шапках.
– Ну уж, твари! Как ты можешь так говорить! – снова возмутился кашевар.
Балагур опять вспомянул дружка Миле (так, все еще не по-военному, фамильярно, называли они своего командира), а тот, услышав, что предлагают помочь дезертирам, побагровел и раздраженно и без надобности громко, словно заглушая сам себя, закричал:
– Эй вы, там, двигайтесь же наконец, что приросли к земле, будто камень к могиле! И чтобы я сегодня же видел вас на Врбасе, раз вы такие герои, прихвостни дезертирские!
– Ты посмотри только, как он умеет лихо ругаться, одно удовольствие послушать, – выразил свое восхищение балагур.
Лохматый мальчишка теснее прижался к крестному, мешаясь у него под ногами, как жеребенок при кобыле. Он долго молчал, грустный и испуганный, а потом вдруг проговорил тихонько, так, чтобы другие не слышали:
– Слышь, крестный, а пробьются наши?
– Ясное дело, пробьются, милок. Знаю я Гойко.
На первом же привале паренек поднял глаза на своего защитника.
– Крестный, а они что, и взаправду предатели, как его… дезертиры? Предали, говорят, родину, борьбу, а?
Перайица обстоятельно и со смаком высморкался в серую тряпицу, потупился и начал приговаривать слона, словно колдуя или читая по гальке, что хрустела под ногами:
– Эх, крестничек мой, крестничек, знаю я каждого из них, будто дите родное… Слышал, как утром они пробивались, а? Видишь ли, как бы тебе это сказать, свернули они немного с дороги, потому и подались на Грмеч… Бывает ведь так – защемит сердце, потянет дьявол душу… Много ли надо: замаячит перед глазами хотя бы та твоя голубая кружечка – и повернешь не туда, и пара лошадей тебя обратно не перетянет… Заплутали, дорогой мой, парни, как журавли по злой метели… Как журавли, вот оно что. Какие же они предатели, дорогой ты мой крестничек?!
Суд
Воздух напоен запахами и теплом зрелой осени, за ближним леском потрескивают винтовочные выстрелы, содрогается лишенный покоя сорок первый год, а мы в просторной крестьянской избе, где разместился наш штаб, разбираем Пантелию Вокича, низенького усача из соседнего села. Маемся мы с ним с самого раннего утра, а толку чуть. Ничего пес не признает, хоть тресни.
– Давай, Пане, сердечко ты мое, признавайся уж, не мучай ты нас и себя, – ласково так просит его секретарь штаба батальона Раде Чувида, бывший общинный чиновник; однако вспотевший Пантелия только косит глазом на свежую ореховую палку, что в руках у Раде, и настырно, деловито отнекивается:
– Спасибо, Раде, было бы что признать – разве стал бы я скрывать от тебя даже свои старые грехи, из тех еще, прошлых, счастливых времен.
– А эти времена, теперешние, не по тебе, что ли? – спрашивает политкомиссар Михайло, почувствовав необходимость вмешаться в рассуждения о прошлых временах.
– Как не по мне, Мянло, братец! – совершенно отрезвляется крестьянин и опять бросает взгляд на палку. – Хорошие времена, самые хорошие, и нет у меня к ним никакого недовольства.
– Смотри-ка, верзила, каждое слово – что твой мед, можно сказать, ну чем не святой? – злится Раде. – Кто бы мог подумать, что он в состоянии напасть на старую женщину, прямо скажем, старуху.
– Да брось ты, Раде, не будь таким чистоплюем, это еще вполне сохранившаяся женщина, – с укоризной рычит охранник Весо Куколь, совсем молодой парень, и влюбленными глазами рассматривает свое охотничье ружье: мортира, настоящая, церковная.
– Неужели и ты, Веселии, дитятко мое, ты ведь мне в сыновья годишься? – Обвиняемый Пантелия страдальчески оглядывается по сторонам, словно бы обвинение этого парня задело его больше всех: ему и слышать-то о таких делах негоже, не то что открыто судить.
А вещь и в самом деле куда как неприличная, если хочешь знать, да, брат, и скрывать тут нечего. Обвиняют нашего распрекрасного Пантелию в том, что он в божью ночь изнасиловал старуху Тривуну и ее сноху Анджу. Пригласили его женщины, как полагается с образом да почетом, помочь им варить ракию, а он вот… свой сосед. Стало известно об этом далеко, разговоры пошли.
Если бы еще дело было о каком шпионаже или там бегстве из армии, ну ладно, в этом бы штаб как-нибудь разобрался, а то ведь такие дела…
Уже третий месяц как вспыхнуло Восстание, поднялись целиком все села, что у подножия гор, создались отряды, штабы и сельские комитеты, военная и гражданская власть на местах. Казалось бы, куда лучше, но народ есть народ, уперся как баран, никого в грош не ставит, подавай ему только военную власть. Изобьют кого – подавай штаб, кража случится – зовут военный патруль, учинил кто несправедливость – пусть армия рассудит. Была бы только винтовка да поясной ремень, а гражданских-то никто и в грош не ставит, словно их и в помине нет.
А в нашем штабе опять-таки нет никого опытного в судейских делах. Начальник штаба Миланчич, лютый как змей, и слышать ничего не хочет об этом. Михаиле, политкомиссар, очень уж добросердечный и мягкий, да еще по целым дням занят со своими партийцами и скоевцами: вечно о чем-то шушукается с ними за живой изгородью да по низинкам.
– Слышь ты, шепот до хорошего не доведет, – напомнил ему как-то Миланчич и добавил, не глядя на него: – Кончай ты со своей политикой, сейчас война.
Словом, все заботы при каждом разбирательстве и суде падали главным образом на секретаря Раде, а он – легкий офицерский китель, какой-то огромный револьверище, на подоконнике брошены погоны (пусть видят!) – душу бы отдал за судейского чиновника. Но не такого, как он сам, А тут еще в помощниках стойкий Весо Куколь со своим охотничьим ружьем – некая комбинация военно-гражданского конвоя, а это любого обвиняемого взбесит: арестован, выходит, и военной, и этой, другой, крестьянской стороной.
Случай Пантелии требовал специального разбирательства: шутка ли, бабка признала, что было дело, да и сноха говорит, изнасилована, хотя вроде бы как-то вырвалась в темноте и убежала в кукурузу. Чего ж тут удивляться, что на суд собрался весь штаб батальона? В комнате оказался даже сам начальник штаба Миланчич, прибыл с передовой, прямо с операции. Снял лишь ботинки, лег на постель, отвернулся к стене и свернулся клубочком, точно мальчишка. Кажется, спит и ничего не замечает и не слушает, что происходит в комнате.
– Так ты, Пане, так ничего не признаешь, в чем тебя обвиняет эта присутствующая здесь женщина и товарищ, Тривуна Декич? – по-ученому спрашивает Раде.
– Радое, родной ты мой, ну неужели ж не знаем мы друг друга вот уже столько лет? – увиливает обвиняемый усач и, как всегда, когда обращается к кому-нибудь из спрашивающих, называет по-родственному, по имени и словно бы любовно чуть изменяет имя: не Раде, а Радое, не Весо, а Веселии.
– Вот женщина говорит, клянется. Рассказывай, браток, правду, да отправляйся себе домой, по своим делам. Чего понапрасну тебя казним?
– Люди добрые, ну на что мне какая-то бабка, ну скажите? Вот начальник Миланчич, наш товарищ, пусть он подтвердит.
Миланчич на это лишь подскакивает на своей постели, точно его укусила блоха, но ничего не отвечает.
– Ну хоть бы ты догнал ту, что помоложе, Анджу, или как ее там зовут, это бы еще простительно, – добродушно вмешивается в разговор комиссар Михаиле, на что крестьянин только поигрывает усом и растягивает в улыбке рот.
– Это ты верно, брат Мянло, а я ее и догнал. Женщина она вдовая, выпила, выпил и я, что тут поделаешь, всякое может случиться. – Пантелия пожимает плечами. – Кто спьяну да в такой темени мог знать, чем все это кончится.
Вдруг со своей постели неожиданно, точно развернутая пружина, вскакивает начальник штаба Миланчич и вмиг оказывается перед крестьянином как был – с непокрытой головой и в одних чулках.
– У, мать твою… а я все думал: ничего-то он не сделал, и жалел, что тебя столько времени молотят! Что бы сказать сразу, как все было, и отделался бы палкой, осел ты разэтакий!
– Боялся, что расстреляют, – заморгал усач.
– А ты думаешь, у армии нет умнее дела, как тратить пули на ваши амуры возле котла с ракией, а?! Ну, живо, шапку в охапку и сгинь с моих глаз, пока не взял я у Рады палку!
Усач поспешно хватает из угла свою шапку, и его как ветром сдувает, а Миланчич, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону к своим штабистам, принимается высмеивать их всех, одного за другим, словно перед ним малые дети:
– Эх вы, тоже нашли себе подходящее занятие!.. Если так будете и впредь, останемся мы и без армии, и без тыла, не на кого врагу нашему наступать будет.
Орехи
Беспокойный, живой дядек, член Верховного штаба, вот уже несколько часов трясется на спине выносливой боснийской кобылки. Шаг за шагом продвигаются они по одному из плоскогорий средней Боснии, покрытому снегом, который так плотно утрамбован и слежался на дороге, что кажется – по ней прошло бесчисленное партизанское войско.
Уже не один километр смерзшийся снег по обе стороны дороги усыпан скорлупками от орехов. Дядька то и дело косит на них глаза, выглядывая над дужкой очков, и ворчит:
– И кто это налущил столько орехов, чтоб ему пусто было?
– Поди-ка, краинцы! – весело хихикает сопровождающий его паренек, родом из Кралева, еще вчера сидевший за партой коммерческого училища.
– Откуда ж у них столько орехов? – изумляется тот.
– Должно, получили в подарок или сами забрали. Позавчера наши взяли Прнявор.
И дядьку осенило. Он вдруг вспомнил: в сводке об освобождении Прнявора указывалось, что в городе конфисковано два вагона с орехами. Было тотчас же дано распоряжение направить их в партизанские госпитали. Черт возьми, уж не те ли это орешки, а?
Дядек этот неусыпно радел о делах вверенного ему военного интендантства, и подобная догадка его разволновала. Разве это порядок, чтоб растащили орехи, предназначенные для раненых? Вот разбойники!
Пыхтит дядька, ерзает в седле. Оборачивается к своим спутникам и спрашивает:
– Послушай, Чедо, не могло случиться, что краинцы разворовали орехи, которые мы приказали отвезти раненым?
– А почему бы и нет. С ними никогда не знаешь, чем дело кончится. Да вспомните хоть ту историю со стрижкой.
– Это когда мы только что пришли в Краину?
– Ну да. Помните? Они тогда отказались стричься. Для них ихние чубы да косички – единственное украшение. Только наш парикмахер заявился в одну ихнюю роту – они похватали ручные пулеметы и заорали: «Сперва сними голову, а потом будешь ее стричь!»
– Помню, помню, так их перетак, а через три дня сами остриглись, добровольно.
– Не все. Пулеметчики остались с волосами. Нам, говорят, и так, может, не сносить головы.
– Э, пропади они пропадом, дикий народ!
Где-то возле полудня путники добрались до узкого мосточка, перекинутого через тихую реку, скованную поседевшими, заиндевелыми берегами. Здесь уже собралось множество партизан и жителей окрестных сел, и они толпились по обе стороны потока, так как переправляться по обледенелым бревнам надо было не торопясь и осторожно.
Внимание интенданта сразу же привлек огромный косматый пулеметчик с растрепанным рыжим чубом, торчащим из-под лихо заломленной партизанской пилотки. Верзила был до того нагружен, что напоминал безбожно навьюченную кашеварову клячу: на спине огромный ранец, поверх него пулемет «шарац» с пулеметными лентами и еще туго набитый чем-то холщовый мешок.
– Не иначе краинец! – раздраженно пробормотал дядька. – И нестриженый, и нахватал через силу, конечно, краинец. Эй, товарищ, разве у вас в роте нет какой-нибудь лошаденки, чтобы таскать пулемет? – выдавил из себя интендант, сползая с коня.
– Ух ты, лошаденки! А я чего тогда буду делать? – с обидой огрызнулся пулеметчик.
– А что у тебя в ранце? – подозрительно поинтересовался интендант.
– Припасец для «шараца» – патроны.
– Так-таки патроны? А в сумке?
Великан, улыбаясь, с нежностью похлопал рукой по туго набитой торбе.
– А это для меня припасец, орехи.
– Ага, попался! – злорадно рявкнул интендант. – Грабежом занимаешься! А? Если все примутся за такие делишки – пойдет наша борьба к чертовой матери. Пропадем – и глазом моргнуть не успеешь.
Навьюченный пулеметчик с изумлением уставился на раскипятившегося интенданта, точно перед ним оказалось существо с какой-то другой планеты.
– Погоди, старик, успокойся, иди своей дорогой и не разводи тут панику. Что же, по-твоему, наша борьба пропадет из-за горсти орехов? А? Ну ладно, пускай тогда пропадает, если уж она такая дохлая. И откуда ты этакого набрался, скажи на милость?
– Ты хорошо знаешь – орехи были назначены для раненых. И все-таки спер на складе. Неужели тебе не жалко раненых товарищей?
– Да бог с тобой, как не жалко!
– И такие, как ты, жизни для них не пожалеют, если будет надо?
– Верь не верь, а я за них с десяток раз бывал в таких перепалках, когда все кругом горело! – рявкнул пулеметчик.
– И все-таки протянул руку за орехами? А?
– И всегда протяну. Пусть хоть змея на тех орехах разляжется. Все равно суну в мешок руку.
– Да как же это понять? – изумился дядька, и в голосе его было скорее любопытство, чем злость.
– Как понять, спрашиваешь? – Великан вдруг начал говорить серьезно. – Да знаешь ли ты, товарищ, что у нас тут, в Крайне, для детишек нет большей радости и лучшего гостинца, чем орехи, особенно зимой. Придет, бывало, в гости тетка, крестная или там другая родственница и… шасть рукой в торбу: где же вы, ребятишки, вот вам каждому по горсти орехов. Э-эх, орешки! Нет ничего лучше на свете. Никогда и никто во всю жизнь мне ничего, кроме орехов, и не даривал.
– Ты только подумай, чертяка этакий! – удивился интендант.
– Вот так-то, – заключил богатырь. – И вдруг там, в Прняворе, в разгар боя и страшенной схватки, кто-то из нашей роты как заорет: «Эй, орехи! Глянь, вон они – целые мешки».
– И вы все туда?
– И-их, куда там, полетели один через другого, будто на бункер, а усташ-пулеметчик как жарнул! Трое-четверо так и остались на месте.
– А ты хоть бы хны – гребешь и гребешь в свой мешок?
– Гребу – черта лысого! Сперва надо было того пулеметчика кокнуть. Влетел я в его укрытие, а там все засыпано скорлупой. И он, грешный, захотел полакомиться орешками. Тоже, видно, наш бедолага, краинец.
Парень потупился, помолчал минутку и задумчиво произнес:
– Жалко мне его было, мертвого. И он орехи любил, тоже ведь человек.
Славный малый Василий
Отчитывая своего племянника, стоявшего рядом, крестьянин, распаляясь в гневе, ругал, казалось, уже не его, а кого-то другого, затаившегося в зеленой глубине ущелья, которое уходило вниз из-под самого дома.
– Я же тебе с вечера наказывал корову угнать и спрятать хорошенько! Раз овец нет, они и корову рады-радешеньки забрать!
– Кому она нужна? – лениво отмахивался дюжий детина, как бы замешенный в огромной капустной кадке и брошенный безжалостной рукой выбираться, как знает, из всех передряг этого тесного мира.
– Кому нужна, ты еще спрашиваешь, кому нужна? На нее охотников найдется – четники, итальянцы, усташи, партизаны, да и эти новоиспеченные, тоже небось не побрезгают – уж и не знаю, как их там величают.
– Пролетары [24]24
Пролетары – бойцы регулярных партизанских соединений.
[Закрыть]?
– Ишь ведь, чем у него голова забита. Они, чтоб им пусто было! Дьявол их разберет, что это за птицы такие!
– Никакие они вовсе и не птицы, – растягивая слова, бубнил детина. – Пролетары все равно что партизаны, только перебрали их как следует, а после еще через частое сито просеяли.
– И когда только он всей этой премудрости набрался?
– Да не шуми ты так, у меня от крика твоего в ушах звенит!
Парень подавленно озирается по сторонам, как бы ища спасительного выхода из невообразимой тесноты окружающей его жизни – тесно малому в доме, тесно с дядькой, тесно в родной долине, со всех сторон окруженной врагом, – как вдруг взгляд его упирается в трех вооруженных людей, только что вышедших из ближнего лесного клина и спускавшихся теперь к их дому.
– Вон они, дядька, идут.
Крестьянин в отчаянии хлопнул себя по загривку рукой.
– Точно, они. Говорил я тебе, Василий, угоняй корову. Ну, теперь беды не миновать.
Интендант Пролетарского батальона издали оценил на глаз убогое поголовье, обнаруженное им в окрестностях этого уединенного дома, и кисло заметил:
– Н-да, улов предстоит не густой: овец они успели припрятать, а корова… Неужто нам опять придется корову резать? О люди, люди, сколько можно резать коров в этой несчастной стране и до чего мы этак докатимся?
И, тщетно ища защиты от пристального взгляда печальных крестьянских глаз, интендант поспешно устремляется к молодому парню:
– Ну, как дела, товарищ?
– Его вон спрашивай, он тут хозяин, – хмуро тянет здоровяк, кивая головой на дядьку.
Многозначительно переглянувшись со своими спутниками, интендант подходит к хозяину дома, здоровается с ним за руку и сразу приступает к самой сути, пропуская вступительную часть беседы, вроде бы уже состоявшуюся:
– Так что же будем делать, отец? Ягнят, говоришь, у тебя нет?
– Нет, сам видишь.
– Вояки подчистую замели? – участливо вздыхает интендант, категорически игнорируя свою собственную принадлежность к регулярным армейским частям и относя себя самого к своим, понимающим и состраждущим.
– Подчистую, – глухо вторит крестьянин.
– Одна Пеструха осталась? – сочувственно допытывается интендант, приглядываясь к черно-белой корове на лужайке и до смерти жалея несчастную скотину, не догадавшуюся появиться на свет уж хотя бы Буренкой с ее защитной окраской. При известном старании Буренку можно было бы и не заметить.
– Пеструха, – с полной безнадежностью отзывается крестьянин.
Задумчиво уставясь в буйные заросли сорняков под оградой, интендант в конце концов извлекает на свет божий решение, как бы добытое в гуще травы:
– Ничего не попишешь, придется тебе корову отдать. В горах голодает триста человек. Пулеметчик целый день таскает пулемет, и все на пустой желудок.
Крестьянин замирает, как громом пораженный. И лишь глаза его, два маленьких затравленных зверька, выказывая явные признаки жизни, отчаянно мечутся в поисках выхода по жалкому пятачку боевого плацдарма, ограниченного коровой, племянником и патрулем.
– А… а… а что, если я своего Василия заместо коровы отдам? Парень он крепкий, молодой, он вам не то что пулемет, он вам целую пушку утащит. Честное слово, он вам здорово подойдет.
Услышав, что речь идет о нем, и полуобернувшись ленивым движением потревоженного телка, Василий как бы безмолвно вопрошал: если я не ослышался, это обо мне говорят?
– А ну давай, милок Василий, отправляйся с товарищами в горы да повоюй во славу рода нашего. В армии будет тебе хорошо: одет, обут, с-с-с-с…
Коварное слово «сыт» уже готово было сорваться с его уст, но, удержавшись на самом краю бездонной пропасти, крестьянин круто осадил:
– И оружие получишь, сокол мой, будешь с пулеметом, что твой королевич Марко [25]25
Королевич Марко – герой сербского эпоса.
[Закрыть], ходить!
Придирчиво оглядев партизан (спору нет, в целехонькой обувке, туго-натуго перепоясанные да к тому же и вооруженные, эти парни имели вид что надо!), Василий невольно покосился на собственные босые ноги и стрельнул глазами во тьму раскрытой двери, ведущей в дом.
Но проворный дядька и тут успел его предупредить:
– Но-но-но, ведь не станешь же ты, в самом деле, наши драные опорки обувать. В армии небось получишь новенькие башмаки. То-то прифасонишься, что твой жених.
Крестьянин столь самозабвенно умасливал, лицемерил и льстил, что обескураженный интендант лишь в самом конце крутого подъема осознал, что вместо коровы он ведет с собой в горы могучего и добродушного детину.
– Э-эх! Черт бы его совсем побрал!
Терзаясь запоздалым раскаянием, интендант окинул прощальным взором простирающуюся под ним долину. В глубине ее маленький, словно игрушка, хранил молчание всеми покинутый домик. Пеструха со своим хозяином исчезла без следа.
– Мой-то, не будь дурак, давно уже смылся с коровой, теперь его сам черт не найдет, – доверительно усмехается Василий, как бы игнорируя свою причастность к этому делу.
– Ну что я теперь комиссару скажу? – вздыхает интендант. – Кто мне поверит, что эту самую дубину заместо коровы я взял? Не иначе, ты в лесу орясину-то эту подобрал, скажет небось комиссар, среди людей такому и не вымахать!
Выслушав донесение о состоявшемся обмене, комиссар действительно оторопел и первую минуту таращил глаза на своего интенданта, а потом прошептал зловещим шепотом:
– А ну, дыхни!
Увы! Заподозренное лицо распространяло вокруг себя ужасающее благоухание дикого лука, попросту говоря «живодерки», но было абсолютно трезво.
Припертый к стене интендант в конце концов выложил на стол последний козырь:
– Пожалел я его, товарищ политкомиссар. Не понять тебе, городскому, что такое корова для мужика.
Смерив строгим взглядом интенданта, а вслед за ним и Василия, комиссар, отчеканивая слова, авторитетным тоном произнес:
– Понять или не понять, но то, что ты сюда привел, корову не заменит!
Уныло обозревая свой трофей, интендант в глубине души лелеял смутную надежду стать свидетелем чуда превращения людей в крупный рогатый скот, но упрямый Василий, по всей видимости, предпочитал оставаться обыкновенным сельским парнем с невиданным разворотом саженных плеч и удивленным взглядом широко раскрытых глаз, добродушно взирающих на мир, в который он нечаянно угодил, не соразмерившись с его плачевной теснотой.
* * *
Безбожно навьюченный оружием и боеприпасами, босоногий Василий молча плетется в длинном хвосте партизанской колонны, а на привалах безропотно сносит язвительные замечания изголодавшихся людей:
– Подумать только, целую корову за этого типа отдать! Здорово выгадали, ничего не скажешь!
– Оставь ты беднягу в покое, не видишь, что он сам на этой сделке погорел.
Исподволь присматривая за своим «приобретением», интендант прикрикивает на бойцов:
– Эй, вы там, отцепитесь от парня, я вам моего Василия в обиду не дам.
И лишь на второй день своего пребывания в армии, перемалывая зубами недоваренную кукурузу на каком-то школьном дворе, Василий словно начинает постигать истинный смысл происшедшего товарообмена и впервые за все это время позволяет себе проворчать:
– Ну, еще бы, она там, поди, выбирает сейчас: желательно ли травки ей, сенца или там ботвы, а про питье, слава богу, говорить не приходится, пей – не хочу! Изволь только захотеть, как тебе все на тарелочке поднесут, словно попадье какой. А ты, Васо, и так хорош, тебе, мол, и кукуруза сойдет, ты же вознамерился мир перевернуть, голодающих досыта накормить. Эх, и плачет же, скотина ты безмозглая, палка по тебе, толстая палка, да увесистая!








