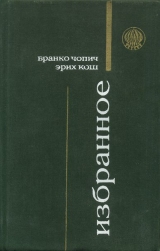
Текст книги "Суровая школа (рассказы)"
Автор книги: Бранко Чопич
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 14 страниц)
Весна, смерть и надежда
Засияет прозрачное радостное утро, улыбнется апрель, словно ребенок, – и затоскует сердце по шалостям пастушечьих лет, прилетят вспугнутые сказки и обновятся разоренные гнезда. Это утро приходит неожиданно, с первыми бутонами примулы, и кажется, будто тебе снова одиннадцать лет и в ранце болтается чистая тетрадка, напоминая про невыученные уроки, в переполненном сердце – базар пестрых бабочек, а в ногах словно муравейник кишит. И невольно замираешь в оцепенении.
Как и в те далекие годы, радостным весенним утром я поднимаюсь тропой, что ведет на пологие холмы, к старому греческому кладбищу. Греки знали, какое место выбрать для вечного упокоения. Отсюда видно, как по широкому раздолью рассыпалась красно-белая мозаика сел; колокольни церквей, словно застывшая стража, торжественно возвышаются над зеленью полей и лесов, а дороги – безлюдные, пустые, – петляя, уходят вдаль, и кажется, словно по ним к тебе идет нежданный-негаданный гость.
И вот я снова на холмах и снова жду своего Чеду.
Весну за весной встречали мы с ним здесь – пасли скот, играли. Так почему бы и теперь, после стольких ушедших лет, мне не подождать Чеду, всегда беззаботного, веселого паренька?! И в это утро я, конечно, найду его здесь.
Едва займется пасмурный, неприветливый день, и я непременно поверю, что, Чеда погиб, погиб холодной весной сорок третьего года на высоких скалах Рамича. Но в это ласковое, прозрачное утро я снова жду Чеду. В такой день над скалами Рамича сияет священная синева и вот ничего проще, как повесить за спину карабин и, сдвинув шапку набекрень, зашагать прямиком через зеленые заросли. В это утро нет места смерти! Слышишь, как весенний ветер шепчет что-то глупое и смешное…
Мне кажется, что в такие дни и старый Люпко, Чедин отец, ощущает нечто подобное. И тогда, притихший, умиротворенный, он заводит со мной разговор о своем сыне.
– Послушный у меня был мальчуган, с пеленок послушный. Не на что пожаловаться, – задумчиво говорит старый крестьянин, и в голосе его не слышно грусти, а на лице, обветренном, грубом, изрезанном сетью морщин, мерцает чуть заметный отсвет весеннего сияния.
Старик не упоминает имени Чеды, не называет его своим сыном. Он говорит – «мой мальчуган». Будто это соседский мальчишка, хотя и очень ему дорогой. Будто он видит Чеду тех дней, когда подбородок у парня был еще гол, а неокрепшая рука не могла удержать винтовку и другие ужасные вещи, которые несут гибель и смерть.
Слушаю я рассказ старика о «моем мальчугане», и передо мной возникает образ Чеды, каким я видел его в последний раз. Привалясь на бок, Чеда лежит на растрескавшейся каменистой земле на скалах чуть повыше Рамича. Усталый, небритый, он прижимает к уху трубку полевого телефона и терпеливо повторяет:
– Алло, алло, «Ласточка», «Ласточка»! Нам отступать? Мы под обстрелом миномета.
Но вот порыв теплого ветра всплеснул крылом и унес мрачные видения войны. И моему внутреннему взору снова является босоногий, неподпоясанный мальчишка, который орет во все горло:
Лес зеленый, ручей узкий,
Вон идет мальчишка русский!
Исподволь завожу разговор со старым крестьянином:
– Послушай, Люпко, давай мы с тобой подадим заявление о гибели Чеды. Вдвоем, без шума. Какую-никакую пенсию тебе выхлопочем. Трудно ведь так-то, одному…
Старик вздрогнул, стал далеким и жестким. Но только на мгновение. Скоро он уже говорил печально и задумчиво:
– Да нет, не буду я. Жалко мне старуху. Она ведь, сиротинка, до сих пор ждет своего мальчугана, надеется. Так неужели поднимется у меня рука подкосить ее на склоне лет? Еще годок-другой – и она…
– Пожалуй, ты прав.
– А как же, а как же… Да и сам я тоже: пока нет у меня бумажки в руках, вроде бы совестно зачислять мальчугана в покойники. Негоже это. Пусть уж будет так, как есть. Все иной раз и у меня надежда появится: а вдруг бредет мой мальчуган по дороге где-то за Милованом, медленно так идет, не торопится, но однажды прекрасным утром дойдет до места. Вернется малыш в свой дом…
Мать Чеды, бодрая, приветливая старушка, сама не сдается и Люпке своему спуску не дает. Стоит только коснуться в разговоре войны или смерти – она уж начеку. Незаметно следит быстрым глазом за стариком и заявляет тоном, не терпящим возражений:
– Я, например, про себя так полагаю – не дай мне бог кому-нибудь смерть прежде времени напророчить. Кто знает, что мой Чеда погиб? Никто! А Миле Баняц сам видел, как Чеда пробирался со скал Рамича к дрварчанам, ну, а потом, наверное, перешел вместе с ними и через Врбас.
Перешел через Врбас! Сказка, которую выдумал легкомысленный Баняц, перед тем как поселиться в Банате. Сказка прижилась, прочно угнездилась в сердце матери, и поди-ка поищи теперь по Воеводине пустомелю Баняца! Попробуй проверь, правда все это или нет! Хорошо, что он убрался вовремя отсюда, бог с ним совсем!
И каждый раз, когда речь заходит про выдумку Баняца, старик доверительно шепчет мне:
– Слыхал? Говорил я тебе – ждет она мальчугана, надеется. Ну не грешно ли мне после всего этого свидетелей для смертного уведомления искать? Не стану я этого делать! Лучше сухой коркой питаться буду!
Чуть только рассветет, бодрый голос Чединой матери уже слышится далеко. Но однажды, проснувшись поутру, я напрасно прислушивался. Через полуоткрытое окно ничего не было слышно. Я вышел во двор – тишина. Глухое, хмурое утро окутало меня, и мой двор показался мне чужим. Как странно! Неужели один только родной, приветливый голос во власти так изменить все вокруг?
На следующий день мне передали, что старуха больна и просит ее навестить.
Без нее, подвижной, живой, дом выглядел пустым и холодным. В очаге сиротливо попыхивал никому не нужный, всеми забытый огонь. Хозяйка лежала в постели, но все еще не поддавалась болезни. Крепилась изо всех сил. И только оставшись наедине со мной, устало перевела дух, словно скинула с себя груз показного геройства.
– Ну вот, настал и мой черед! Теперь и я отправлюсь к своему Чеде!
Я сделал вид, будто не расслышал ее слов. И правильно сделал, потому что через мгновение она прошептала:
– А может, и так случится – Чеда вернется домой, а матери своей уж не застанет. Жаль…
Она глянула на мою голову, уже тронутую сединой, и сказала:
– Вы ведь сверстники с Чедой. Неужели и он так постарел? Эх, прошли его молодые денечки! Лучшие годы прошли вдали от моих глаз. Вот о чем я больше всего жалею.
Тут старуха полезла куда-то под подушку и вытащила голубой конверт.
– Возьми этот конверт. Сохрани у себя. Сам увидишь, что в нем. Все пустое. Я-то знаю, все это враки, а вот мой старик – совсем другое дело. Этот верит каждому слову, которое на бумаге написано. Так лучше уж ему не показывать.
Старушка нагнулась ко мне и прошептала:
– Он и теперь все надеется, ждет своего мальчугана. Грешно ему это вранье показывать.
Дома, затворившись в своей комнате, в полной тишине я открыл конверт. В нем оказались два письма. Два майора, мои приятели из соседнего села, сообщали, что Чеда Бркич, связист Первой Краинской бригады, погиб в марте сорок третьего года на скалах Рамича.
Который час?
В круглосуточных боях, позабыв о привалах и отдыхе, пробивается знаменитая Краинская дивизия от Аранджеловаца в направлении Белграда. Неудержимо влечет бойцов столица, волнует встреча с Красной Армией, и трудно сказать, что больше радует. Только видно, как от счастья человек превращается на глазах в хмельное и зачарованное существо, уж и не помнит, как побаивался швабов, нет-нет замотает ошалелой головой, словно кобыла на гумне, но и это не помогает ему прийти в себя. Гудит что-то внутри и около него, и кружится все в дьявольской свистопляске.
Одна из прорвавшихся рот Краинской дивизии вышла к шоссе у Голеча, на самых подступах к Белграду, и сразу же в темноте расползлись бойцы по придорожным канавам на отдых. Среди них и командир отделения Илия, здоровенный упрямый детина, которому, как назло, именно теперь не спится, хотя черт знает, когда он последний раз спал. Уселся в канаве, прислонившись к набитому рюкзаку, и то глазеет на ручные часы с фосфорическими цифрами, то подносит их к уху и ворчит:
– Вот черт, заглохли, проклятые. Надо же, когда остановиться!
Несколько дней назад Илия получил эти часы от командира роты, первые часы в своей жизни. На скорую руку научился «понимать» время и с тех пор при каждом удобном случае взглядывал на свой «инструмент» и торжественно объявлял:
– Столько-то и столько-то часов, да есть минутка-другая в запасе. Ну как, понятно, товарищи?
А для самого Илии, после того как он обзавелся часами, все будто стало яснее, будто появилась у него волшебная лампа, только поднеси ее к глазам, и – глядь! – предметы покажут свое истинное лицо и выстроятся как на параде: «Вот и мы, товарищ Илия!»
Легче стало ему и в кромешной тьме. Взглянешь на часы, а фосфорические циферки живут и мерцают, как светлячки при дороге, и к тому же сообщают, который час.
И надо же такое несчастье! Предать его, словно проклятый Бранкович, именно сейчас, осрамить перед столицей исстрадавшегося отечества, перед величайшей армией на свете, которая беспощадно бьет фашистов, держа уже их, как говорится, на мушке.
– А, чтобы черт истолок вас на своей антинародной наковальне. На кой ляд вы мне теперь сдались!
И так что-то вдруг стало Илие не по себе, будто заплутал он в этой октябрьской ночи, свернул в сторону с линии народно-освободительной борьбы, а единственная путеводная звезда и надежда угасла в его собственной руке и оставила его одного в пустой и непролазной глухомани.
Что делать?
Илия переваливается поближе к своему взводному Борише, опять прижимает ухо к левой руке, прислушивается и безнадежно пыхтит:
– Встали и стоят, ничего не поделаешь.
– Кто стоит, браток? – мученически стонет Бориша, потому что Илия своим шепотом сбил и без того призрачную дымку его короткого сна.
– Да эти мои часы.
– Иди ты, знаешь куда?.. Я думал, остановился Третий Украинский фронт или корпус Пеко Дапчевича.
– Эх, дорогой мой, где тебе понять, как тяжело, когда встанут часы. Был ты деревенщина, деревенщиной и остался.
– Ну ты зато у нас чисто горожанин, к ядреной матери! – окончательно проснулся Бориша. – А ну, скажи, были у кого в вашем роду часы?
– Ну и пусть не было, а у меня сегодня, браток…
– У тебя сегодня, поди-ка, встали, потому что вчера не завел. А это все равно как в деревне не напоить вечером корову. Только корова-то среди ночи замычит и сама напомнит о твоей промашке.
– Понятно, замычит, – с раскаянием соглашается Илия и смущенно глазеет на часы, словно ожидает от них нечто подобное.
Пока они разбираются со стрелками и заводом, по шоссе, прямо над ними, от Смедерова уже длительное время движется какая-то воинская часть. Движется молча, в боевом порядке, так что кое-кому внизу, в канаве, приходит в голову мысль – уж не немцы ли это, не подтягивают ли они свои отступающие части.
– А хоть и они! Пускай идут ко всем чертям, – бормочут смертельно уставшие люди, они так измучились, что сейчас им плевать даже на собственную жизнь, не то что на какие-то там швабские дивизии, отступающие под натиском «братишек». Далеко не уйдут, так их растак.
Наконец часы заведены и прекрасно идут, но теперь парень терзается, как их правильно поставить. Ни у кого вокруг часов нет.
– Да неужто никто не знает, который теперь час, чтоб вы все провалились!
– Откуда же нам знать? – вразумляет его Бориша. – Часы-то есть только у командира, а где его к чертям разыщешь в этакой темноте?
– Может, спросить у тех, на шоссе, может, они знают? – Да ты спятил, дурная твоя голова! А если это немцы? – отрезвляет его Бориша.
– А пусть хоть мой тятька! – протестует Илия. – Я крикну, и будь что будет.
Парень приподнимается на одеревеневшие колени, складывает ладони рупором и во все горло орет:
– Эй, швабы, привет, который час?
… Как началась эта схватка в секторе возле Болеча между нашими и отступавшими из Смедерова немцами, никто из краинцев сказать не мог. Помнят только, что, вскочив со сна, они очутились в сущем пекле – в огне и грохоте – и до самого утра колошматили кого-то и носились за швабами и за своими. А вроде бы и немцам не поздоровилось, и они то и знай кокали своих собственных комарадов, пока наконец, подняв руки, не пошли сдаваться.
Утром на шоссе, усеянном трупами, Бориша разыскал Илию, живого, хоть и без шапки и в разорванной гимнастерке. Он подошел к нему вплотную и глухо проговорил:
– Ну, дурень, видишь теперь, что ты наделал со своими часами? Кровь по дороге ручьями течет. Отродясь такого не видывал.
Илия, вконец отрезвевший, широким взором окидывает все вокруг, затем подносит часы к уху и в изумлении, обрадованный говорит:
– Мать честная, видел, какая была чертовщина и бойня, а они – все еще идут!








