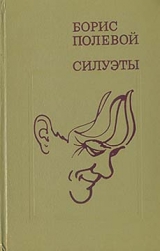
Текст книги "Силуэты"
Автор книги: Борис Полевой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
Но на окраине Гарлема, в доме, к которому мы подъехали уже в час ночи, была освещена лишь одна квартира. Двери ее, на английский манер, выходили прямо на улицу. Массивная дверь открылась прежде, чем мы успели дернуть ручку старинного звонка. Мы увидели атлетическую фигуру Поля Робсона-младшего, которого дома зовут Павликом. Широко улыбаясь, он частил по-московски:
– Привет, привет.
У него за спиной вырисовывалась массивная фигура Поля-старшего. Протягивая огромную свою руку, он рокотал:
– Добро пожаловать!
Если когда-то прежняя квартира Робсона поразила нас пустотой, то новая, несмотря на высоту потолков и размеры комнат, казалась тесной – столько в ней было нагромождено книг, афиш, газет, всяческих артистических сувениров. Оба Поля сложили на пол книги и газеты и освободили таким образом для нас диван и кресла.
– Добро пожаловать, дорогие москвичи, – снова пророкотал хозяин дома, и, пока его сын откупоривал виски и бутылочки с газированной водой, пока разливал все это по стаканам и бросал в них скользкие кубики льда, Поль засыпал нас вопросами о Москве, о «наших», как он говорил, «советских новостях», о театральных и оперных премьерах…
Огромный, грузный, в широких свободных брюках и белоснежной рубашке с расстегнутым воротом, с закатанными рукавами, он действительно напоминал боксера, который ненадолго сошел с ринга, чтобы пожать руку друзьям, прежде чем ринуться в новую схватку. Он был в ударе, шутил, смеялся, пел и негритянские, и ковбойские, и наши советские песни, проделывал некий акустический опыт – брал какую-то очень низкую ноту и заставлял откликаться на нее отчетливо слышным дребезжанием надтреснутое зеркало и, очень довольный этим, смеялся, смеялся, как ребенок, раскачиваясь, хлопая себя по колену, вытирая слезы.
Когда мы прощались, он подарил нам по экземпляру своей книги. На моем экземпляре была надпись: «…С любовью от живущего надеждой на скорую встречу в Москве П. Робсона».
Уже потом я прочел эту книгу в русском переводе. Эта книга-исповедь, книга-кредо. И когда, год спустя, я читал ее, воображение легко воссоздавало такую картину.
Ночь. Знакомая нам квартира в Гарлеме, из окон которой видны освещенные луной нью-йоркские небоскребы. Робсон на миг отодвинул работу. «…Я отрываю взгляд от стола, – пишет он, – смотрю через высокие окна своей комнаты на небо над Гарлемом и задумываюсь еще над одним чудесным знамением нашего времени. Там, высоко в небе, где мерцают звезды, с удивлением рассматриваю двух новорожденных младенцев матери-Земли – две маленькие луны, сделанные руками человека и весело летающие вокруг Земли. И я снова улыбаюсь от сознания того, что где-то высоко над головой проносятся спутники, утверждающие великую истину: нет таких высот, которых бы не достигло человечество! И я думаю о своих друзьях, о людях Советского Союза, руки и мозг которых сотворили это чудо, открывающее человеку безграничные просторы космоса».
И, смотря на спутники, этот большой черный человек восклицает: «Привет тебе, маленький спутник! Миллион благодарностей за то послание, которое получил от тебя мой народ! Я уверен, что ты принесешь нам много добра.
Мир! Да, это самое главное. Если будет обеспечен мир, расцветут все народы и расы».
Товарищ Че

Че Гевара
Он был одним из самых интересных людей, с какими только мне доводилось встречаться, беседовать и спорить за всю мою, довольно уже длинную, журналистскую жизнь.
Познакомился я с Эрнесто Че Геварой на Кубе, куда прилетел, чтобы участвовать во вручении Ленинской премии за мир между народами другому интереснейшему человеку Латинской Америки – Фиделю Кастро. И познакомили нас на правительственном приеме, в обстановке, мало подходящей для откровенных бесед и дружеских разговоров.
Прием происходил на открытом воздухе, в уголке тропического сада. В ночной полутьме отчаянно благоухали какие-то цветущие кусты. Сочные кубинские звезды просвечивали сквозь узорчатые листья великолепных пальм. В кустах, несмотря на многолюдие и темноту, стрекотали и щебетали цикады. Но прием был, как почти все приемы, в общем-то скучноват, и, хотя вечерние туалеты дам и смокинги дипломатов очень мило контрастировали с военными комбинезонами, бутсами и беретами, в которые были одеты новые руководители Кубы, что сообщало приему оригинальную, необычную краску, я украдкой посматривал на часы. Ведь на этом «зеленом крокодиле», как кубинцы шутливо называют свой остров, происходило столько интересного!
И тут на выручку мне пришел поэт Николас Гильен, мой старый друг со времен его эмиграции, ставший одним из руководителей бурно растущей и расцветающей кубинской культуры.
– Хочешь, я сведу тебя с одним из интереснейших людей Кубы?
– С Фиделем?
– Нет, это сейчас не удастся, видишь, как его осаждают со всех сторон.
– С Раулем Кастро?
– Тоже нет. Его взяли в плен военные. Я познакомлю тебя с нашим Че. Он, правда, не кубинец, а аргентинец, но это один из ближайших соратников Фиделя и один из ярчайших деятелей нашей революции. Умница. Отличный, мыслящий человек.
Он подвел меня к невысокому, коренастому мужчине, стоящему несколько в стороне от кипения приема и откровенно скучавшему. Тот дружески обнял Николаса, а мне довольно официально протянул руку и несколько чопорно отрекомендовался:
– Эрнесто Гевара де ла Серна.
– И наш Че, – улыбаясь, добавил Николас.
– Ну что же, так действительно короче.
Мне повезло. Незадолго до этого на Кубе вышли переводы двух моих книг «Повесть о настоящем человеке» и «Мы – советские люди». Их выпустили очень большими, даже на наш счет, тиражами. Гевара их прочитал и, вероятно, поэтому новый знакомый, кажущийся несколько замкнутым, сосредоточенным в себе, понемногу разговорился. Официанты, обслуживающие прием, сохранили свои фраки и жестко накрахмаленные пластроны еще от старой, батистовской, Кубы, но разносили они лишь очень скромный напиток, именуемый «Куба либре»: производимая на острове кока-кола, микроскопическое количество рома «Бакарди», ломтик лимона и несколько кусочков льда. Взяв бокалы, мы отошли в сторону под сень какого-то пышного растения. Я принялся расспрашивать Че о нем самом.
– По профессии я врач, – сказал он, – а сейчас вот, в порядке революционного долга, – министр экономики. Странно? А впрочем, думаю, вас это не должно удивлять, ведь Владимир Ленин по профессии был адвокат, а среди его министров были и врачи, и юристы, и знаменитые инженеры… Ведь так?.. Революция есть революция, и революционная необходимость по-своему расставляет людей. – Он улыбнулся. – Если бы мне, когда я был в отряде Фиделя, давней дружбой с которым я горжусь, когда мы садились на яхту «Гранма», кто-нибудь сказал бы, что мне предстоит стать одним из организаторов экономики, я бы только рассмеялся. Ведь на «Гранму» я сел как врач экспедиции…
Я беззастенчиво рассматривал нового знакомого. У него было характерное лицо: с крупными чертами, очень красивое. Мягкая, клочковатая курчавая бородка, обрамлявшая его, темные усы и, как у нас на Руси говорили, соболиные брови лишь подчеркивали белизну этого бледного лица, которое, видимо, не брал загар. На первый взгляд это лицо казалось суровым, даже фанатичным, но когда он улыбался, как-то сразу проглядывал истинный возраст этого министра, и он выглядел совсем юношей. Военный комбинезон цвета хаки, свободные штаны, заправленные в шнурованные бутсы, и черный берет со звездочкой дополняли его облик.
Договорились, что на следующий день под вечер, после работы я приду к нему в учреждение. Разумеется, перед этим визитом по репортерской привычке я выспросил у моего друга Александра Алексеева, хорошо знакомого с Кубой, все, что тот знал об этом человеке. Очень интересная и характерная для революционеров Латинской Америки была у Гевары биография. Уроженец старинной аргентинской семьи, врач, занимавшийся борьбой с эпидемиями, человек, много покочевавший по своему континенту и участвовавший в революционных движениях, он в Мексике подружился с Фиделем Кастро. В качестве медика примкнул к его легендарной теперь экспедиции. Участвовал в первом революционном десанте с «Гранмы» и в дни борьбы против диктатуры Батисты вдруг проявил незаурядные полководческие способности. Руководил ответственнейшими боевыми операциями в горах Сьерра-Маэстры, возглавил бой по освобождению города Санта-Клара, командовал колонной, вошедшей в Гавану. Ну а потом, когда на Кубе утвердилась новая, народная власть, партизанский «команданте» Че стал одним из организаторов кубинской экономики, товарищем Эрнесто Гевара.
На следующий день, вернее в следующий вечер, мы встретились у него в кабинете в большом, красивом, только что построенном здании – первом правительственном здании на острове, которым кубинцы очень, и не без основания, гордились. Среди многочисленных служащих уже редко кто был в форме военного времени. Но «команданте» был все в том же защитного цвета френче с огромными карманами, с широким ремнем, в походных бутсах с подошвой толщиной в палец: аскет, партизанский вожак, как бы еще живущий днями, проведенными в горах Сьерра-Маэстры. Но в беседе его уже чувствовался государственный деятель, державший в руках рычаги управления очень в ту пору сложной и запутанной экономики Кубы.
Говорил о том, что, лишенные своих богатств и привилегий, кубинские промышленники и латифундисты запутали все дела. Говорил о прямом вредительстве «гусанос» – «гусениц», как именовались ставленники и агенты американского империализма. И в то же время спокойно, деловито рассказывал об экономических достижениях новой Кубы. «…Никогда не строилось столько жилищ… Никогда в море, кишащем рыбой, не велся такой механизированный, научно организованный лов». И не просто говорил, а как настоящий экономист, достав из необъятного нагрудного кармана толстую записную книжку, подтверждал слова цифрами. Об этих государственных успехах он говорил как о чем-то своем, домашнем. Он радовался этим успехам новой Кубы. Он жил ими. Он верил, что кубинский эксперимент – организующий и вдохновляющий пример для всей Латинской Америки.
– Пока что мы остров Свободы, – говорил он. – Но эта свобода раньше или позже овладеет континентом. Во всяком случае, мы уже не робинзоны. Костры революции горят тут и там. Мы их видим. Их надо раздуть… И мы все время чувствуем, что с нами такой далекий и такой близкий Советский Союз, с нами уже весь социалистический мир, и мы левый фланг этого мира…
Несмотря на работу установок кондиционирования воздуха, в кабинете было жарко. Собеседник предложил пройтись по Гаване и закончить разговор на ходу. Пошли. Но разговора не получилось. Он был слишком известен в своем городе. Люди из толпы бросались к нему, жали ему руки; какая-то девушка расцеловала его. Мальчишки следовали за нами, то и дело слышалось: «Че, Че, Че».
Потом мы встретились с ним в Москве осенью 1964 года. Он был все такой же, в том же боевом комбинезоне, с той же клочковатой бородкой, которая как бы навсегда приросла к его лицу. Кубинская делегация была уже одета в штатские костюмы, а он не хотел переодеваться, а может, и не мог. Советские люди тепло, сердечно приветствовали до этого Фиделя и Рауля Кастро. На Гевару обрушились не меньшие аплодисменты.
Выступая в Москве на праздновании 47-й годовщины Великого Октября, он сказал:
– Это такая великая дата, отмечавшаяся к тому же сорок семь раз, поэтому о ней сказано уже почти все. Единственное, что я хочу пожелать, друзья, чтобы наступил тот день, когда трибуны Мавзолея не смогут вместить руководителей социалистических стран, которые будут присутствовать на этом будущем параде.
На следующий день я посетил его в гостинице. И задал ему недипломатичный, журналистский вопрос:
– Ваше выступление – это экспромт?
– Нет, это моя мечта. Мечта, чтобы на трибунах ленинского Мавзолея как можно скорее встало как можно больше руководителей новых социалистических стран Латинской Америки. Я говорю это серьезно. Я вижу в этом смысл моего существования.
Мы сидели в зимнем саду гостиницы. Зеленели экзотические растения. Шелестели струи фонтана. Воздух был влажный. Это напоминало Кубу, и, возможно поэтому, мой собеседник по-домашнему развалился в кресле и даже распустил шнуровку своих военных бутс. Он отдыхал от московских впечатлений, бесед, встреч…
И тут я спросил его, может быть, и невпопад спросил, кого он считает самым большим человеком XX века.
– Ленин, конечно… Но Ленин не в счет. Такие родятся раз в тысячелетие, – задумчиво произнес он. И вдруг сказал: – Альберта Швейцера.
– Швейцера?
– Ну да, – того, африканского… Он с юных лет был для меня примером. Когда студентом я был на Огненной земле на эпидемии, я всюду возил с собой его портрет…
А прощаясь, сказал:
– Жаль, что мало времени и пора уезжать… Интересная у вас страна… – И вдруг спросил: – А в Сибири очень холодно?.. В следующий приезд обязательно побываю в Сибири.
Это была последняя встреча и последний разговор. Я не могу скрыть своего восхищения перед этим удивительным человеком, так героически погибшем. Восхищение – мое и многих других – останется навсегда. Восхищение и память о революционере-коммунисте товарище Че.
Пламенеющая душа

Вера Мухина
Среди замечательных портретов русского живописца М. В. Нестерова есть один, особенно останавливающий на себе внимание зрителя. На небольшом полотне изображена коренастая немолодая женщина в темном сатиновом рабочем халате. В раскрытой ладони левой руки она держит ком светлой глины. Пальцы правой изящным и точным движением, в котором художнику удалось запечатлеть осторожную стремительность, кладут щепоть глины на какое-то еще не завершенное изваяние. Оно не закончено. Работа, по-видимому, в разгаре. Все же можно различить, что это изображение старика, как бы в панике уносящегося от какой-то грозной, необоримой силы. Черты его еще не обозначены, но выброшенные вперед руки, изгиб ноги и, в особенности, развевающиеся концы хитона передают стремительность движения.
Но самое главное, что приковывает внимание, это лицо женщины – широкое, большелобое. И даже не само лицо, а глаза, взор которых сосредоточен на той точке скульптуры, куда словно бы летящие пальцы кладут глину. Рот с плотно сомкнутыми, волевыми, мужского склада, губами. Невольно забываешь, что это картина, и как бы видишь живого, сильного человека, погруженного в работу, художника, отдавшегося творческому порыву, поглощенного пластическим воплощением своей мечты.
Это полотно могло бы стать просто картиной. Картиной, названной, скажем, «Творчество». И это было бы одно из тех счастливых произведений, которые захватывают с первого взгляда, одна из тех художнических удач, в которой запечатлены не только внешние формы, но и глубинная, внутренняя, я бы сказал, даже философская суть изображенного.
Но это не картина. Это портрет. И изображена на нем Вера Игнатьевна Мухина – скульптор.
Да, такой вот собранной, целеустремленной, всегда погруженной в свое дело, вечно ищущей, неутомимо стремящейся к совершенствованию она и была в жизни, эта удивительная женщина. Такой предстает она в своих произведениях, когда, переходя из зала в зал ее выставок, наблюдаешь, как рос этот мастер – от юношеских, еще угловатых и неуклюжих, но далеко не робких попыток, до последних, монументальных, величественных работ, в которых в полную силу развернулось ее дарование.
Немало часов провел я у работ Мухиной. Интересны среди них не только общепризнанные, но и те, что в свое время не обратили общественное внимание, – их и сам художник не числил среди любимых своих творений. Но во всех своих работах – скульптурах, эскизах, рисунках – мастер встает как беспокойный, самобытный искатель, порой ошибающийся, порой делающий не то, но умеющий на своих ошибках учиться, все время до последнего своего дня старавшийся постоянно совершенствовать свое искусство, а главное, чуждый самодовольной «маститости», увы, погубившей и губящей столько талантов.
Работы Мухиной, если их рассматривать не разрозненно, это повесть о том, как вырос всенародно любимый художник. И рисует эта повесть мастера не на парадном юбилейном портрете, а в заляпанном глиной рабочем халате, в час вдохновенного творчества. Он встает таким, каким его запечатлел другой большой художник – М. В. Нестеров.
– Мы живем в стране, где стоять на месте – значит пятиться назад. Художник не имеет права переминаться с ноги на ногу ни дня, ни часа. Он должен все время расти вместе со своим народом, но в росте этом он должен оставаться самим собой и пуще глаза хранить творческую индивидуальность, – говорила мне Вера Игнатьевна, с которой мы однажды осматривали художественную выставку. И это было не только словами, не только ее мечтой, но и рабочим принципом.
Еще в 1912 году она сделала небольшую скульптуру обнаженного юноши. В руке чувствуется неуверенность, но уже обращает внимание точность, жизненность анатомических пропорций и какая-то свежая необычность. В ту же пору был создан, может быть с излишней четкостью, но хорошо передающий внутренний облик человека, портрет молодого скульптора Вертепова. Это начало пути. Но уже в этих работах чувствуется особый почерк. Тот самый, который придает такую прелесть одной из последних больших ее работ – памятнику А. М. Горькому, стоящему ныне на площади на родине писателя, «молодому Горькому», как говорила она. В этой скульптуре дан романтический образ Горького-Буревестника, полный динамики. С поразительным мастерством передан внутренний мир молодого писателя-борца, напряженно сдерживающего гневный порыв и в то же время устремленного вперед с верой в светлое будущее. В этой чудесной скульптуре, как и в портрете кораблестроителя Крылова, мастерски выполненном из ноздреватого древесного нароста, мне кажется, с особой силой проявилось это, столь характерное для мастера, умение слить лаконичную выразительность форм с глубиной психологического анализа, начатки которого чувствуются уже в первых ее работах.
Между первыми из названных мною работ и последующими десятилетия труда, целая жизнь в искусстве. Учеба у знаменитого французского скульптора Бурделя. Неутомимые поиски. Взлеты, приземления. Увлечение так называемыми «левыми» течениями. Принесение дани кубизму, конструктивизму. И, наконец, новый прелестный творческий рывок уже с ясно осознанных позиций социалистического реализма, окрыленного революционной романтикой.
Но, сопоставляя ранние и зрелые работы, можно видеть, как художник упорно и неустанно совершенствовал мастерство, как креп, рос его талант. И с той же убедительностью можно видеть, что во всех этих поисках Мухина никогда не подстраивалась под чей-то шаг, никогда не говорила никому комплиментов, не фальшивила, оставалась сама собой. Каждая из ее работ – большая и малая – отмечена своеобразием самобытного таланта.
Уже в монументальной скульптуре «Крестьянка», созданной в 1927 году, раскрыт ее талант. Карандашные эскизы, оставленные В. Мухиной, позволяют видеть, как художник, в совершенстве владевший чувством пропорций, упорно искал пути создания образа труженицы земли, который мог бы символизировать мощь плодородия, показать человека, точно бы налитого до краев могучими соками родной природы.
И хотя в работе этой скульптор еще не освободился окончательно от своих «левых» увлечений, хотя, стремясь передать мощь, силу, он умышленно нарушал гармоничность пропорций, излишне утолстил, например, ноги, он все же создал обобщенный образ крестьянки. Эта работа вызвала горячий отклик и у нас и за границей, стала заметной вехой в развитии советского ваяния.
А через десять лет В. И. Мухина делает новый шаг вперед и создает свой теперь всемирно знаменитый шедевр «Рабочий и колхозница», который украсил советский павильон на Парижской выставке. Вряд ли найдешь сейчас страну, где была бы неизвестна эта скульптура. Она стала как бы пластически выраженным гимном советскому человеку. Молодой рабочий и юная колхозница, рука об руку стремительно шагающие вперед, подняв вверх серп и молот. Кто не знает этой группы! Но вглядитесь в нее: с каким лаконизмом и в то же время как динамично воплощен в ней образ советского народа-труженика, вдохновенного идеями коммунизма, как просто и мудро рассказано о нерушимом союзе рабочих и крестьян, являющемся основой основ нашего государства, как сильно передан в этой летящей вперед и ввысь группе пафос трудового созидателя.
– Если бы Мухина сделала только одну эту скульптуру, и то ей навечно была бы отведена страница в истории искусства, – сказал мне когда-то известный миланский скульптор и искусствовед, сам большой художник.
И он прав. Но Мухина, заслужив этой своей работой подлинно всемирную известность, не остановилась на ней, а продолжала идти к вершинам искусства. Каждая из ее значительных последующих работ запечатлела искания художника, совершенствование творчества. Были созданы скульптурные эскизы четырех великолепно задуманных декоративных групп для украшения Москворецкого моста – «Плодородие», «Хлеб», «Земля» и «Море». Одна из них, увеличенная до задуманных мастером масштабов, изображает двух девушек, стоящих на коленях и поддерживающих золотой сноп.
Продолжая работать над монументальной скульптурой, Мухина создает проекты памятников А. М. Горькому, П. И. Чайковскому, проектирует монумент основателю Москвы Юрию Долгорукому и, наконец, скульптуру «Мир», которая увенчала сейчас купол планетария в Сталинграде.
В соавторстве со своими учениками, З. Ивановой, Н. Зеленской, С. Казановой и А. Сергеевым она создает свою последнюю монументальную работу «Требуем мира», и в этой ее лебединой песне голос скульптора снова звучит во всю мощь. Работа рождалась в дни, когда корейский народ защищал свою родину, свою честь и независимость. Как рассказывала мне Вера Игнатьевна, работа эта родилась из небольшой скульптуры «Возвращение», созданной Мухиной в первый год войны, в дни, когда гитлеровцы рвались к Москве.
Это небольшая по размерам работа. Но какой большой смысл заложен в ней, с каким гневным пафосом обличает художник-гуманист организаторов и поджигателей войны! Солдат вернулся с фронта. Могучий мужчина в расцвете сил, он потерял ноги. И вот, вернувшись, он обнимает жену сильными мужскими руками. Но он стал вдвое ниже ее и может обнять только колени. И какая затаенная, подавленная боль чувствуется в позе потрясенной женщины, в ее закрытых глазах, в ее откинутой голове. На выставках около этой небольшой группы всегда можно видеть людей. Думается, что работа эта агитирует за мир, разоблачает всю мерзкую сущность захватнических войн с неменьшей силой, чем самое пламенное воззвание.
И вот девять лет спустя художник снова возвращается к этой теме в такой же страстной, благородной скульптуре, созданной в содружестве со своими учениками.
– Я хочу создать скульптурный агитплакат, – рассказывала Вера Игнатьевна, когда работа эта была только замыслена. Мы сидели у нее в кабинете, в молчаливом окружении моделей ее любимых работ – законченных и незавершенных. – Понимаете, хочу сделать скульптуру, которую без труда можно разбирать на составные элементы, возить с места на место, устанавливать в залах конференций и конгрессов, созванных в защиту мира. Мне уже трудно участвовать в работе Сторонников мира, трудно ездить, я не люблю выступать. Пусть вместо меня на них представительствует моя скульптура, пусть она говорит то, что хотелось бы сказать мне.
Увлеченная этой мыслью, Вера Игнатьевна быстро расставляет на столе крохотные фигурки. Глаза ее разгораются.
– Видите… Вот, скажем, после заседания из зала выходят люди. И им навстречу вот это: берегите мир! Спасайте детей от атомных бомб! Пусть ни одна мать больше не заплачет над телом ребенка, погибшего при бомбежке…
Сказала и задумалась. По-мужски потерла лоб рукой.
– Не знаю, долго ли мне осталось жить… Но после меня пусть останется это… Пусть скажет людям то, что я всегда думала…
Когда все это говорилось, скульптуру она видела лишь мысленно. Но вот шесть бронзовых фигур, идущих в одном направлении, обрели задуманный ею облик: слепой в поношенной солдатской форме, мать-кореянка, поднимающая убитого младенца, а сзади трое мужчин: русский, китаец и негр, как бы воплотившие в себе добрую волю человечества. Все они шагают за молодой женщиной с голубем на вытянутой руке. Они не молят о мире, они не просят. Они требуют мира, требуют от имени всего человечества, требуют во имя расцвета мировой культуры и прогресса на всем земном шаре.
В этой скульптуре отражен гуманизм Мухиной, неукротимая страстность ее художественной натуры и советские черты ее характера, не позволявшие ей, мастеру с мировой славой, зазнаться, обронзоветь, творчески постареть, заставлявшие ее всю жизнь активно вторгаться в действительность, чутко откликаться на все, что волновало ее народ.
Глубокая народность в самом высоком смысле этого слова – вот что покоряет в работах В. И. Мухиной. Она всегда была с народом, всегда жила его жизнью, радовалась его радостью.
Как-то однажды, во время совместной заграничной поездки, у нас зашел разговор об одном даровитом ростовском скульпторе, который в дни оккупации его города очутился у гитлеровцев, а потом по наследству от них перешел к американцам. Поводом к разговору послужил журнал «Лайф», где сей самодовольный тип был снят на фоне скульптурного фриза, которым он опоясал какое-то новое здание в США. Люди на этом фризе были изображены утрированно вытянутыми, тощими. Все это вместе походило не на человеческие группы, а на комок земляных червей.
– Гадость, – отрезала Вера Игнатьевна, передернув плечами, и брезгливо бросила журнал на пол, как нечто физически отвратительное, – а ведь не бездарный был человек. Даже талантливый.
И, по привычке своей все тут же обобщать, она, помолчав, добавила:
– Художник должен всегда творить на родной земле и жить со своим народом. Общение с народом питает всех нас. Если художника оторвать от народа, с ним неминуемо произойдет то, что с полевым цветком, если его взять пересадить в банку, да и поставить на подоконник. Как его щедро ни поливай, какими удобрениями не подкармливай, он высохнет, захиреет… Тут расписывают, сколько этот тип получил долларов за это безобразие. А ведь, в сущности, на фотографии показано, как он пляшет и кривляется на своей собственной могиле… Мерзко… Мерзко!..
Думается, что в этих словах прозвучало эстетическое кредо Мухиной.
Во всем, что касается творчества, она была необыкновенно строга и к себе и к другим. Приспособленчества не терпела. Бойких коллег, которые, пользуясь своим именем, хватали везде заказы, выполняли их холодной рукой, бригадно-скоростным способом, с помощью скульпторов, имена которых потом в каталогах не значились, – этих она просто ненавидела. У нее для них и словцо такое специальное было – халтуртрегеры. Воевала она с халтуртрегерами беспощадно, громила их где только могла, не считаясь ни с именитостью и былыми заслугами, ни с их званиями и должностями.
И с той же страстностью, не щадя, как говорит Гоголь, «чинов и званий», разделывала она в творческих спорах и тех коллег, которые, отодвинув на второй план человеческий образ, идею, с портновским старанием ваяли из мрамора и бронзы всяческие воинские знаки различия и отличия, по-военторговски разглаживали героям своих произведений штаны, даже ухитрялись выводить на них генеральские лампасы, а скромные солдатские плащ-палатки, разуму вопреки, превращали в нечто среднее между тогой римского сенатора времен упадка империи и «гарольдовым плащом».
Вскоре после войны мне довелось путешествовать с Верой Игнатьевной по Румынии. В те дни это было еще королевство.
В Румынском национальном музее и в частном тогда хранилище местного коллекционера Замбакчану Вера Игнатьевна подолгу стояла растроганная у полотен Теодора Амана, Иона Андриеску, Николае Григореску и современного мастера Корнелиу Баба. Эти живописцы, такие разные по творческим манерам, по тематике, каждый по-своему прославляли молодое румынское искусство, воспевали народ, его историю, его труд, его борьбу.
В особенности любовалась Мухина полотнами Григореску. Вольная, но точная кисть этого мастера, его глубокая, я бы даже сказал, проникновенная наблюдательность, страстность восприятия, сочетающаяся с гармоничностью колорита, согретая любовью к простым труженикам, покоряли взыскательного художника. Зимой, во вьюгу, Мухина не поленилась проделать на военной машине много километров, чтобы где-то в Плоешти посмотреть еще несколько полотен в мастерской, где до последних дней работал Григореску.
Но, бродя с Верой Игнатьевной по выставкам, посещая мастерские, мы часто, слишком часто слышали с пафосом произносимые фразы: «Бухарест – это, знаете ли, маленький Париж»… «Мастер Икс, он же пишет у нас как настоящий француз»… «Мастер Игрек, у него отличная французская школа, он похож на парижского маэстро такого-то».
Слушая это, Мухина хмурилась, резко уводила разговор в сторону, даже бесцеремонно обрывала собеседника. Мы, ее товарищи по путешествию, зная ее «золотой» характер, чувствовали – надвигается гроза. Это становилось особенно опасным, потому что были уже отпечатаны приглашения на доклад, который она намеревалась сделать для художественной интеллигенции.
К этому предстоящему выступлению она отнеслась добросовестно.
– Румыны исключительно талантливый народ, к ним с банальными истинами и отштампованными мыслями соваться нельзя, – говорила она и на несколько вечеров заперлась в номере.
Доклад она написала, склеила почему-то в виде свитка странички и предварительно представила его на обсуждение товарищам по делегации. Это было добротное, остроумное эссе. В нем не было ничего, что могло бы задеть самолюбие интеллигенции. Мы обрадовались и успокоились.
Но вот Мухина на трибуне. Оседлав очками короткий горбатый нос, она скороговоркой читает доклад, едва давая возможность переводить его на румынский. И вдруг, рассуждая о тенденциях современного искусства, о настроении художников и скульпторов, она резко сдернула очки, отложила свой свиток и, соскочив с академических рельсов, пошла, как говорится, по шпалам.
– …У вас тут я часто слышу: Бухарест – это маленький Париж. Я сама училась в Париже, я жила там и люблю его, но, честное слово, я ни от одного француза никогда не слышала, что Париж – это большой Бухарест…
Мы, сидевшие в публике, онемели: началось.
– У каждого народа свои традиции, свои сокровища… Вам, слава богу, досталось великолепное наследство. Развивайте его. Разве не лучше отлично говорить на родном румынском языке, чем посредственно на французском… Про одного мастера мне тут тоном похвалы говорили – это же наш маленький француз. Я бы на его месте смертельно обиделась. Лучше быть большим румыном, чем маленьким французом…








