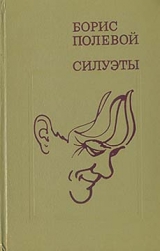
Текст книги "Силуэты"
Автор книги: Борис Полевой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)
Дальнобойность

Конст. Федин
Бывает так, что человек, с которым ты давно знаком, которого, казалось бы, ты хорошо знаешь, вдруг по-настоящему раскрывается в течение какого-нибудь часа. Так случилось у меня с Константином Александровичем Фединым.
Я познакомился с ним как с писателем в юности. Читал его роман «Города и годы» – произведение своеобразное, сильное, увлекательное, отобразившее и революционный Питер, и милитаристскую кайзеровскую Германию тех дней, и пафос революционной Советской России, и картины обывательского болота умирающего старого мира.
Очень помню, как этот роман, своеобразный, сложный, острый, захватил меня при первом же чтении, и с тех пор я усердно читал все, что выходило из-под пера Федина: и «Трансвааль», и «Братья», и конечно же «Похищение Европы» – книгу, раскрывшую для нас, увлеченных созидательным пафосом первой пятилетки, зарождение и рост фашизма в Западной Европе, задыхавшейся в тисках кризиса. И во время войны среди нас, военных корреспондентов, ходила его книга «Свидание с Ленинградом», представляющая образец насыщенного боевого репортажа. Я очень люблю этот род искусства, считаю его особенно действенным, позволяющим мгновенно откликаться на все самое интересное из того, что происходит. Это были великолепные репортажи, не потускневшие во времени и по сегодняшний день.
Но по-настоящему раскрылся для меня Константин Федин и как художник и как человек в немецком городе Нюрнберге, где Международный военный трибунал судил главных преступников второй мировой войны, судил нацизм во всех его чудовищных проявлениях.
Мы сидели на этом процессе с Константином Александровичем рядом на корреспондентских местах, и перед нашим взором проходили ежедневно такие картины фашистского ада, по сравнению с которым ад, нарисованный Данте Алигьери, мог показаться просто домом отдыха.
Мастерские для промышленной утилизации отходов фабрик смерти – первичным сырьем для них служили тела умерщвленных в газовых камерах… Абажуры, зонтики, изящные дамские сумочки и прочие товары широкого потребления, сделанные из человеческой кожи… Мыло личное, хозяйственное, детское, техническое, сваренное из человеческого жира. Было от чего лишиться сна и аппетита.
В день, когда представитель советского обвинения Л. Н. Смирнов показал сушеные человеческие головы на изящных каменных подставках, которые начальники лагерей дарили в виде оригинальных сувениров высокопоставленным посетителям из нацистской верхушки, Константин Федин сидел, закусив губу, молчаливый, потрясенный. Нервы были так взвинчены, что нужна была какая-то разрядка. И он вдруг предложил:
– Давайте я устрою вам экскурсию по городу.
И вот после заседания мы отправились с ним погулять. Впрочем, слово «погулять» здесь было мало подходящим. Улиц в центре города, в сущности, не было. Были лишь тропинки и дорожки, расчищенные меж груд битого кирпича и обломков старинных зданий.
Федин возглавлял процессию. Он шагал быстро, уверенно, к нашему удивлению, легко находил путь, хотя лишь изредка можно было увидеть сохранившийся кусок стены с синей табличкой с названием улицы.
И вдруг он остановился у чудом сохранившихся ворот. Они, эти ворота, никуда не вели и ничего не охраняли. За ними не было ни дома, ни двора, только груды кирпича. И вот, задумчиво смотря на эту груду своими светлыми, выпуклыми глазами, Федин сказал:
– Вот здесь был когда-то дом, в котором я жил. Сюда пришло ко мне известие об Октябрьской революции в России. Из этих ворот я вышел в последний раз, возвращаясь на родину… Да, из этих самых ворот. И это я однажды описал.
Я знал, конечно, фединскую биографию. Знал, что он, русский студент со средней Волги, уехал в Германию завершать образование. Был тут застигнут первой мировой войной и задержан на целые четыре года. Он это описал? Где же?
И вдруг ясно вспомнилась давно уже читанная книга «Города и годы». Вспомнилась во всех подробностях. Возник перед глазами ее главный герой, революционер Курт Ван, прекраснодушный, колеблющийся интеллигент Андрей Старцов и конечно же с особой четкостью вспомнился обер-лейтенант фон Цур Мюлен-Шенау.
Вспомнилась его ладная сухощавая фигура, мундир с железным крестом, породистая голова, будто бы шрамом, рассеченная ровным пробором. Вспомнилось высокомерное выражение его тонких жестких губ, вспомнились его рассуждения о приоритете северной расы над всеми расами мира, его надменные речи, его бредовые мечты.
Здесь, в Нюрнберге, который когда-то был колыбелью нацизма, а в те дни готовился, как нам казалось, стать его могилой, среди развалин древнего города, который в фединской книге был описан самодовольным, благополучным, процветающим, именно здесь, на месте описанных событий, эта оригинальная фигура литературного героя вспомнилась с особой четкостью.
И тут, у старых ворот, которые никуда уже не вели, я как-то новыми глазами увидел и Федина, и его книги. Ведь в этих книгах ему удалось пророчески предсказать, всё то небывалое, Тогда еще неведомое и страшное, что потом начало бурно прорастать, окореняться в локалях и бирхаузах Нюрнберга, что через несколько лет, войдя в силу, обретя неограниченную, чудовищную власть, залило кровью лик всей Европы.
Так мастер литературы, предвидя будущее, предостерегал человечество от того, к чему могут привести, казалось бы, вздорные, бредовые, мечтания о расовой исключительности немцев и ненависть к Стране Советов.
А разве сегодня эти предостережения художника потеряли свое значение? Разве теперь на Ближнем Востоке в маленьком государстве не слышатся бредовые разглагольствования о приоритете народа-избранника, о превосходстве, будто дарованном ему богом или историей, со всеми вытекающими из таких мечтаний последствиями?
Тогда, в Нюрнберге, в дни процесса над главными преступниками второй мировой войны мне захотелось, очень захотелось перечитать «Города и годы». Но где их достанешь? В библиотеке, захваченной из Москвы советскими сотрудниками Трибунала, только юридическая литература. Послал в Москву жене телеграмму. Она взяла эту книгу в библиотеке «Правды» и переслала ближайшим самолетом. Перечитал. Еще раз поразился точности творческого предвидения. Потом книга эта, которую большинство из нас, конечно, знало и раньше, пошла по рукам. Ее перечитывали, взвешивая, так сказать, в свете Нюрнбергского процесса. Теперь она выглядела как некое фантастическое путешествие в будущее. Из журналистских рук книга перекочевала к юристам и где-то там исчезла, затерялась. Ее, вульгарно говоря, зачитали. За это пришлось мне потом отвечать перед строгими библиотекаршами «Правды», решившими, что я ее присвоил.
В корреспондентском баре вокруг книги завязывались оживленные литературные дискуссии на тему: «Может ли писатель предсказать будущее». Спорили и, опираясь на живой фединский пример, который все еще жил перед глазами, приходили к заключению: может. Это качество литературы Всеволод Вишневский, тоже бывший в те дни среди нас и обожавший военную терминологию, определил одним словом: дальнобойность. Дальнобойная книга. Такой приговор был вынесен тогда нами в дни Нюрнбергского процесса.
В послевоенные годы Константин Федин создал трилогию «Первые радости», «Необыкновенное лето» и «Костер» – целую эпопею, своеобразную художественную историю революции и революционных преобразований в большом приволжском городе в центре России. Читал я их с перерывами по времени выхода томов и неизменно применял к ним мерку Вишневского: да, дальнобойность.
Со свойственным Федину глубоким мастерством писатель нарисовал широкую панораму жизни большого волжского города на разных этапах революционной борьбы, становления и укрепления советской власти, революционные преобразования первых лет.
Целая галерея героев встает со страниц этой эпопеи. Читаешь и словно в жизни знакомишься и с Кириллом Извековым, и с его друзьями, правда которых торжествует, укрепляется, воплощается в действительность в процессе революционной борьбы.
Но не менее ярко, может быть только более резкими красками, очертил автор и портреты врагов революции – купчины Мешкова, предателя Зубинского, авантюриста и болтуна Шубникова. Все они так четко выписаны, что после того, как перевертывалась последняя страница, начинало казаться, что когда-то ты с ними встречался, спорил, и горячо спорил, отстаивая свою правду.
И хочется поблагодарить большого писателя за то, что он обогатил отечественную литературу сильно написанными образами коммунистов, которые уже встали рядом в одной шеренге с гладковским Чумаловым, фадеевским Левинсоном, шолоховским Давыдовым. Их характер, их духовное богатство раскрыты в борьбе, в постоянной эволюции, и потому они жизненны и живучи.
Сейчас, когда я пытаюсь набросать хотя бы силуэт Федина, человека, которого я люблю, обязательно вспоминается и еще один разговор о нем на веранде загородного ресторана, вознесенного над гладью Дуная, где, после длительного и утомительного заседания, за кружкой доброго венгерского вина отдыхали Федин, Мартин Андерсен-Нексе и я.
– Я был первым на Западе писателем, кто описал красный флаг, поднявшийся над вашим броненосцем «Потемкин», – рокотал Нексе своим глухим, будто бы со дна бочки исходящим голосом. – Сынки, это моя гордость. С тех пор я следил за борьбой ваших рабочих, за вашей революцией. У каждой революции свой неповторимый почерк, и ты, – старый метр, классик европейских литератур, со всеми, кто был помоложе его, обращался на «ты», – твой старый роман помог мне, датчанину, раскрыть особый почерк вашей революции. Ты вывернул наизнанку души всех этих прусских аристократишек, этих самозванных сверхчеловечков, которых ведь я в жизни тоже встречал и видел.
Федин, человек деликатнейший, слушал со вниманием, и по выражению его лица можно было понять, как дорога ему эта похвала литературного корифея.
А совсем недавно, когда Константину Александровичу исполнилось восемьдесят лет, мы отдыхали с ним в подмосковном санатории. В определенное время на весенних дорожках огромного парка появлялась его высокая, не по-стариковски прямая фигура. Опираясь на палку, он неторопливо гулял, задумчиво наблюдая за распускающейся листвой, за тем, как дикие утки плавают на озере, устроив там для себя транзитный пункт.
Гулял он обычно недолго. Потом исчезал. Мы знали: он пишет.
– Ну как, разгорается ваш «Костер»?
Он шутливо отвечал:
– Тьфу, тьфу, не сглазьте. Разгорается… понемножку, очень понемножку. – И как-то застенчиво улыбался.
– Может быть, что-нибудь можно прочесть? Или расскажите хоть развертывание сюжета.
– Нет, нет, не обижайтесь. По-моему, только очень плохая курица начинает кудахтать до того, как снесла яйцо.
Но мы знали: работает. Неутомимо работает. Мы знали, что там, в просторной комнате, большое окно которой выходило на искусственное озеро, под веселый щебет птиц продолжает свое дело этот мастер «дальнобойных» книг.
Размышления у могильного камня

Назым Хикмет
Грустно, очень грустно стало бывать на Новодевичьем кладбище. С памятников отовсюду смотрят лица людей, с кем когда-то встречался, работал, дружил. Но какие бы очередные печальные обстоятельства ни приводили меня туда, как бы ни болела свежая рана очередной утраты, я всегда пробираюсь через частоту могил в тот уголок кладбища, где, как маленькая скала, возвышается гранитная глыба. На ней вытесан контур человека с гордой непокорной головой. Он весь устремлен вперед, этот человек. Он как бы идет, проламывая грудью, всем туловищем встречный шквальный ветер, он весь в порыве, в движении, в борьбе.
Скромная надпись: Назым Хикмет. Дата рождения и смерти.
Я подолгу стою у этой неотесанной глыбы, и в эти минуты рядом со мной словно встает этот человек, мой трудный друг, вся жизнь которого была сплошным устремлением навстречу буре, навстречу ветру и в поэзии, и в драматургии, и в общественных делах, и в любви. Да, и в любви.
И особенно ярко вспоминается мне первая встреча с этим человеком, встреча немного курьезная и потому, наверное, запомнившаяся так отчетливо.
Кто из нас, литераторов моего поколения, не знал о Назыме Хикмете? Знали, что живет в Турции такой удивительный человек, поэт, драматург, давний друг нашей страны. Знали, что жизнь его – неустанная борьба, непрерывный, непреходящий подвиг. Знали, что за политическую деятельность свою он постоянно подвергается жестоким репрессиям, но борьбы не прекращает и потому большую часть своей жизни проводит в тюремных камерах.
Поэзию его в те дни знали меньше. Но было известно, что и в тюрьме он неустанно пишет. Стихи его просачивались сквозь каменные стены в открытый мир. Друзья и поклонники поэта собирали их в сборники. Поэзия узника бурно жила на свободе, звучала на разных языках, кроме родного, турецкого.
Знали мы и о том, что человек этот, находясь в дни войны в отделении с особо строгим режимом, каким-то образом ухитрялся следить за борьбой советского народа. Подвиги советских людей на фронте и в тылу врага находили отзвук в его большом горячем сердце.
Так, через французские переводы, узнали мы о его поэме, посвященной подвигу московской школьницы, и стихи о бессмертной борьбе двадцати шести гвардейцев у подмосковного разъезда Дубосеково. Как имя Зои Космодемьянской, имена панфиловцев достигли его ушей через стены тюрьмы особого режима? Как посвященные им стихи вырвались на волю и пошли гулять по свету, – это оставалось тайной. И оттого сам поэт – узник невольно казался нам волшебником, умеющим совершать удивительные вещи.
Ну, а когда началось Движение Сторонников мира, это самое могучее Движение современности, объявшее все пять континентов, мы заочно включили имя славного турка в руководство Движения. В разных странах поднялась активная борьба за его освобождение. Звучали гневные речи, писались протесты, петиции, и вот радостная весть: Назым Хикмет вырван из тюрьмы. Он летит к нам. Он будет в Москве.
Не помню уж по какой причине, я в этот день несколько задержался. Времени для прихода его самолета оставалось в обрез. В последние минуты торопливо купил на Центральном рынке пучок роз и бросился в машину, умоляя шофера гнать вовсю. И как это часто случается, когда торопишься, где-то на выезде из Москвы попали в маленькую аварию. Пришлось машину бросить. Вышел на шоссе, стал голосовать. Легковые машины презрительно проносились мимо. Только один самосвал с жидким бетоном в кузове смилостивился надо мной, отчаянно махавшим своим цветочным веником. Шофер втащил меня в высокую беседку кабины. Но где-то невдалеке от аэродрома ему надо было сворачивать к стройке. Ни уговор, ни посулы не подействовали: бригада ждет бетон, нельзя. Пришлось снова выскакивать на шоссе.
А секундная стрелка, казалось, бежала быстрее, чем всегда, и какой-то самолет уже клал в небе пологие круги. Человек-легенда мог быть в этом самолете. И тут я заметил быстро несущийся, сверкающий лаком ЗИМ. А черт, была не была. Я выскочил наперерез машине, угрожающе поднимая свой букет. Свирепо пискнув тормозами, тяжелая машина остановилась в нескольких шагах. За стеклом я разглядел знакомое лицо известного нашего полководца. Выражение этого лица, скажем прямо, не сулило ничего хорошего.
– Вы с ума сошли… Прочь с дороги.
– Назым Хикмет, Назым Хикмет, – бормотал я как пароль. И это имя разгладило свирепые морщины на круглом лице маршала.
Он даже сам открыл дверцу.
– Имею в запасе полчаса. За полчаса встретим? Поехали, а то опоздаем.
Мы опоздали. Когда тяжелый наш лимузин въехал на площадь аэровокзала, толпа встречавших уже рассаживалась по машинам. Издали различил знакомые лица: Тихонов… Симонов… Михаил Котов. А самого Назыма Хикмета увидел в целом ворохе цветов, который он обеими руками прижимал к себе. Но поприветствовать его, познакомиться не было уже времени, ибо в следующее мгновение кортеж машин проследовал мимо.
Но помню, отлично помню, как поразил он меня при этой первой мимолетной встрече. Вместо хилого, зеленолицего дистрофика, каким полагалось, по моему мнению, быть человеку, приговоренному к двадцати восьми годам заключения, только что вышедшему на волю, передо мной мелькнул крепкий, загорелый мужчина в светлом костюме, в рубашке с расстегнутым воротом, с задорными рыжеватыми усиками и пышной шапкой палевых волос.
На следующий день мы познакомились, потом подружились. Впрочем, слово «подружились» в данном случае не носит индивидуального характера. Обладающий огромным бесценным даром дружелюбия, этот турок стал другом всех своих советских коллег, всех, с кем он встречался по своим литературным, театральным, общественным делам, и, вспоминая его сейчас, я отчетливо слышу его задорный голос, где в обращении часто путаются «ты» и «вы», где то и дело мелькает слово «брат», а буква «и» звучит твердо, почти как «ы». Это последнее дало повод Николаю Тихонову потом, когда Хикмет обжился и даже обзавелся автомашиной, написать шутливое четверостишье:
Хыкмет Назым
Имеет ЗЫМ
И потому
Неотразым.
Он любил людей, любил хорошую компанию. Любил угостить знакомых, причем сам приготовлял мудреные и острые турецкие блюда, перед чем торжественно облачался в женский фартук, который у него был в чемодане даже во время поездок. Вообще он был на редкость хозяйственный человек, наш Назым. В поездках у него всегда можно было одолжить иголку с ниткой подходящего цвета, сапожную щетку. А однажды, во время конгресса в Хельсинки, мы видели такую сцену. У нашего делегата – архиепископа Николая Крутицкого и Коломенского случилась беда – его парадное одеяние было облито во время ужина жирным соусом. Завтра с утра ему нужно было выступать. Священнослужитель приуныл.
– Пойдем, брат, – бодро сказал ему Назым и, взяв за руку, увел его в свой номер. Здесь, засучив рукава и ловко действуя большими, поросшими рыжим волосом руками, он не без блеска вывел роковое пятно с помощью какой-то патентованной немецкой пасты, оказавшейся у него в запасе.
И мы всегда поражались: откуда у него, внука турецкого паши, потомка многих поколений весьма родовитых турецких аристократов, эта уютная мужицкая хозяйственность, эта любовь к простой народной пище, это стремление оказаться полезным даже едва знакомому человеку.
А каким чувством юмора он обладал, как заразительно умел смеяться! Помню, в дни одного из конгрессов Сторонников мира в Стокгольме японские друзья показали нам страшный фильм. Документальный фильм о трагедии Хиросимы, которая, как оказалось, была снята кинооператорами, вскоре умершими от лучевой болезни. Там было все: и американский самолет, летящий над городом, и черный гриб, взметнувшийся в небо, и тысячи обуглившихся трупов, и, наконец, на граните моста тень человека, который сидел ловя рыбу и совершенно испарился при взрыве. Все мы были подавлены. Решили развеяться, побродить по ночному Стокгольму. Шли неторопливо, останавливаясь у магазинных витрин, вероятно, инстинктивно оттягивая момент, когда предстояло остаться в пустом гостиничном номере один на один со страшными видениями, только что прошедшими перед нами на экране. Задержались у лавки древностей. Посреди витрины стояла деревянная скульптура Георгия Победоносца, поражавшего копьем поверженного змия. Скульптура была явно старая, привезенная, вероятно, из какой-нибудь сельской церкви, и было в ней что-то наивное и привлекательное. И тут Дмитрий Шостакович вдруг улыбнулся.
– Вы чему, Дмитрий Дмитриевич?
– Вспомнил древнерусский стих об этом вот воинственном господине, – и продекламировал:
…Держит в руце копие,
Тычет змия в жопие…
И тут вдруг на всю улицу раздался смех, веселый, сочный смех Назыма Хикмета. Он несколько раз заставил композитора повторить эти чрезвычайно понравившиеся ему слова древнерусского языка.
– Чудесно, брат, чудесно!.. Совсем как сама эта древняя статуэтка.
Он любил слушать свои стихи в переводе на любой из языков. Любил смотреть свои пьесы. Мы с женой сидели с ним рядом на премьере «Чудака». С детской непосредственностью он переживал все происходящее на сцене, морщился, когда тот или иной актер фальшиво подавал реплику. А в последнем трагическом действии лицо автора было омыто слезами, которые он и не прятал.
– Это же я, – пояснил он. А потом с очень милой и совсем ненавязчивой непосредственностью стал выспрашивать: – Ну что? Ну как? Неплохо? Правда, неплохо?
Смотрели пьесу «Всеми покинутый». Он тоже волновался, комкал носовой платок, вздыхал и Опять в финальных сценах не скрыл слез.
– Это тоже я, брат.
Помнится, тогда жене моей пришла в голову мысль спросить, не он ли является героем одного из его самых сильных лирических стихотворений.
– А гигант с голубыми глазами – это тоже вы?
Он вдруг по-девичьи покраснел, опустил свои действительно очень голубые глаза, сказал:
– Ну зачем вот так прямо спрашивать?
Я люблю его стихи, которые, однако, как мне кажется, лучше не читать, а слушать. Слушать даже в плохом исполнении. В них сплелись два начала: классической турецкой и народной поэзии. Чудесный сплав этих двух компонентов и дал третье, – оригинальное, неповторимое, только хикметовское.
В нашей советской поэзии он больше всех любил Маяковского, с которым был знаком и знакомством этим гордился.
– Маяковский, брат, это Маяковский. Стихи его я в первый раз не прочел, а увидел, именно увидел в русской газете, как только вступил с судна на советский берег. Сошел, оглядываюсь и вижу: какая-то большая газета прилеплена почему-то к стене. В ней на первой странице вроде бы стихи. И напечатаны они как-то странно, вроде лесенки. Спросил одного азербайджанца: что, брат, это такое? Он сказал: Владимир Маяковский. Попросил его прочесть по-русски. Он русский знал плохо и плохо читал, но я все-таки понял, что это какие-то большие, необычные стихи. Ну, а потом я с Маяковским познакомился. Он несколько раз приезжал к нам в КУТВ [7]7
КУТВ – Коммунистический университет народов Востока, где учился Хикмет.
[Закрыть]и читал. Ах, брат, как он читал. Даже те, кто плохо знал русский, отхлопывали ладони. Впрочем, брат, могло ли тогда прийти в голову, что я увижу его в бронзе и что буду почти ежедневно сходить на станции метро «Маяковская».
«Советский Союз – моя вторая родина», – говорил Хикмет в одном из своих стихотворений. Для него это было не лозунгом, не фразой. Он терпеть не мог лозунговых фраз. Всей своей творческой жизнью он был связан с нашей страной. В воспоминаниях о встречах с Москвой он черпал бодрость, сидя в старой турецкой тюрьме. Обрывки сообщений Советского Информбюро с фронтов войны, которые доносило до него иногда радио, тотчас же вызывали у него самый активный поэтический отклик.
В узком пенале одиночной камеры, видя все одни и те же четыре голых тюремных стены, парашу в углу, замкнутую на железный засов дверь, в маленьком волчке которой изредка появлялся глаз тюремщика, он живо рисовал в своем воображении великий фронт, на котором шла смертельная битва добра и зла. Он рисовал картины битвы, он видел Москву тех трагических дней.
Снова оказавшись у нас, он чувствовал себя дома, и этот период его жизни стал временем бурного, интенсивного творчества и в поэзии, и в драматургии, и в кино. Он был активнейшим деятелем Всемирного Совета Мира. Много и с энтузиазмом работал по «мирошным», как он шутил, делам, но и во время этих поездок ухитрялся писать и стихи и пьесы.
Во время конгресса в Варшаве нам трем – артисту Николаю Черкасову, Хикмету и мне – было поручено составить к утру проект какого-то документа. В назначенное место Хикмет не пришел. Мы направились к нему в номер. Он сидел на диване, поджав ноги, в ночной рубашке, и что-то быстро-быстро писал. Вскинул на нас свои голубые глаза и удивленно, сердито отмахнулся.
– Потом, потом.
Признаюсь, я был несколько даже обижен такой встречей, тем более что дело, которое нас к нему привело, не терпело отлагательств. А вот Николай Константинович, натура глубоко артистическая, все воспринял по-иному.
– Поэт, настоящий поэт. Помните, как бранили критики Петра Петровича Кончаловского за его Пушкина без штанов?.. Вот так, именно так и пишутся великолепные стихи.
Хикмет ездил на конгрессы мира, даже когда врачи категорически это ему запрещали. Но выступать не любил. Если уж выступал, то речь его скорее напоминала белые стихи. Опытнейшие переводчики, сидевшие в кабинах, всегда затруднялись его переводить и извиняющимися голосами лишь пересказывали его выступление. Но в нужную минуту, когда от нападок отстаивались какие-то важные принципы, он легко вскакивал на трибуну, и его словесный удар бил всегда точно в цель.
Так было, например, однажды в Стокгольме на конгрессе, где китайская делегация попыталась расколоть Движение. Вылазка готовилась заранее. Мы ее, в сущности, и предвидели. Китайцы, как всегда, приветливо здоровались, улыбались, вели дружелюбные разговоры, но мы видели, что машины их судорожно курсируют между зданием конгресса и китайским посольством. Потом на делегатских скамьях появились китайские дипломаты, а маленькие куколки – переводчицы, покинув кабины, смешались с делегатами. Мы поняли: провокация вот-вот произойдет.
Так и вышло. Когда обсуждался документ конгресса и советский делегат заговорил о ленинской политике мирного сосуществования государств с различным социальным строем, китайские делегаты вдруг забушевали, закричали, затопали, застучали наушниками по столам. Девушки-куколки тоненькими голосами переводили на русский их реплики, звучавшие с мест.
– Левизинисты, левизинисты, – пищали они.
Конгресс замер: что происходит? Что вдруг сделалось с китайской делегацией, обычно такой дисциплинированной, сдержанной, улыбчивой?
– Социал-империалисты, левизинисты.
Председатель, огромный негр из Сенегала, расколол стакан о графин, безуспешно пытаясь восстановить тишину. Наконец он предложил представителю китайской делегации подняться на трибуну, высказаться, обосновать свои претензии.
– Как они смеют говорить о мирном сосуществовании, – зажурчало в наушниках. – Разве могут мирно сосуществовать волки и овцы!
И тут высокая, стройная фигура в сером костюме метнулась через зал. На трибуне оказался Хикмет, возбужденный, решительный, яростный.
– Кто овцы? Мы овцы? – крикнул он в огромный зал. – Мы львы!
На мгновение, когда в наушниках журчал перевод его слов, многоязычная аудитория замерла, а потом грянули такие аплодисменты, каких, вероятно, еще и не слышал этот довольно-таки экспансивный конгресс. Возвращаясь на свое место, Назым просто продирался сквозь аплодирующую толпу, ему жали руки, женщины целовали его, оставляя на щеках карминные следы.
Так пятью словами была сорвана тщательно задуманная провокация, и конгресс не только не раскололся, а продолжал работу еще более сплоченным.
Назым Хикмет не боялся споров, в делах он был мужественен, храбр, его глаза спокойно смотрели в лицо любой опасности. Но однажды я все-таки видел слезы, настоящие слезы в этих его выразительных глазах. И, признаюсь, сам был в этом виноват.
В 1962 году отмечалось его шестидесятилетие. В этот день он получил гражданство Советского Союза и назвал этот час самым счастливым часом своей жизни. Выступая на посвященном ему вечере в клубе литераторов, я закончил свое слово так:
– Да здравствует наш согражданин Назым Хикметович Хикметов!
Когда после этого мы с ним расцеловались, щеки его были мокры от слез…
Таким вот и стоит он передо мною, когда я оказываюсь возле гранитной глыбы, на которой высечен контур высокого, устремленного вперед человека, идущего навстречу шквальному ветру. Таким мы видели и знали его. Таким он и был до последней минуты – деятельным, кипучим, с сердцем, открытым для дружбы и добра. Он и умер, как жил. Утром его нашли в прихожей со свежей газетой в руках. Газета была открыта на странице, где рассказывалось о новой зверской бомбардировке Ханоя и Хайфона.








