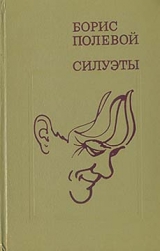
Текст книги "Силуэты"
Автор книги: Борис Полевой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)
– Люди сидят обычно по-разному, – неожиданно начал лектор. – Вот мы с вами привыкли сидеть на стульях с длинными ножками. В Турции сидят на низеньких табуретках. Есть страны, и немало таких стран, где люди считают удобным садиться просто на пол, свернув ноги кренделем. А вот недавно я был в Японии, так, представьте себе, там предпочитают сидеть на полу, на собственных ногах. И оказывается, для них это очень удобно, хотя любому из нас в этой непривычной позе трудно бы было долго выдержать…
Даже странно было слышать полную тишину, наступившую в зале. Но, не обращая на нее внимания, как не обращал внимания на аплодисменты и свистки, лектор продолжал в своем обычном ворчливо-добродушном тоне.
– И каждый из этих способов сидеть можно понять и принять, кроме одного – манеры сидеть положив ноги на стол. Да и с этой манерой, пожалуй, можно согласиться, однако при условии, что стол этот будет собственный, а не чужой.
Тут разразились такие аплодисменты, что никакие свистки уже не могли пробиться сквозь них…
Это умение рассказать о думах и чувствах советского народа, об успехах и победах Сторонников мира, рассказать своими, особыми, словами, рассказать, насыщая речь афоризмами, свежими образами, смело сталкивая эпитеты лбами, сделало Эренбурга одним из любимых ораторов Движения. Не раз выступая в предубежденной, а иногда и просто во враждебной аудитории, писатель покорял ее правдой, силой своего слова.
Простые люди знали, ценили неутомимого «пилигрима мира». Не в доказательство этому, ибо это общеизвестно, я приведу два, как мне кажется, интересных примера.
Советские солдаты в дни боев на немецкой земле случайно нашли под развалинами старинного, разбитого авиацией замка старинное охотничье ружье дивной работы. Ружье было сломано, но ствол, казенная часть и ложа, украшенная великолепнейшей гравировкой, инкрустированная перламутром, серебром, золотом, обратила их внимание. Нашелся в роте знающий человек. Он прочел надпись, выгравированную по-французски, и узнал, что уникальное это ружье – подарок льежских оружейников Наполеону Бонапарту, сделанный ими в дни, когда будущий император был еще революционным полководцем Конвента. Полюбовались на диковинку, кто-то вспомнил при этом, что Илья Эренбург увлекается историей Франции. И вот писатель получил из действующей армии ящик с обломками уникального ружья, посланными ему в подарок, и письмо за подписями всего наличного состава роты с пожеланиями доброго здоровья и творческих успехов.
А в болгарском городе Варна, где сейчас международный дом отдыха журналистов, среди других достопримечательностей этого старинного города показывают иногда иностранцам сапожную мастерскую, известную лишь тем, что над ней висит большая вывеска «Илья Эренбург». Это рабочие мастерской решили по-своему выразить уважение к любимому писателю.
Работая над этой книгой, я вспоминаю все, что знаю об Эренбурге, его романы, повести, статьи, речи, вспоминаю его самого, жизнедеятельного, неутомимого, иронического, и никак не могу отделаться от странной мысли – полно, так ли, действительно ли ему в последние его годы было столько лет. Впрочем, во Франции, которую он так хорошо знал, есть поговорка: «Женщине столько лет, сколько ей дают окружающие». Думаю, что пословицу эту можно бы было применять и к самому Илье Григорьевичу. Я так и хотел сделать, руководя когда-то вечером, посвященном его семидесятилетию, но воздержался, боясь наскочить на одну из его едких острот, ибо знал, что человек этот превыше всего не терпел пошлости.
Менестрель Латинской Америки

Николас Гильен
Николас Гильен – не просто кубинский делегат и не просто поэт по профессии. Гильен – это явление, – так сказал Илья Эренбург.
Разговор происходил давно. На бурном конгрессе Сторонников мира в Варшаве формировались руководящие органы Движения, в те дни лишь набиравшего свои силы. Обсуждались кандидатуры в бюро Всемирного Совета Мира. Организаторы конгресса давали характеристики выдвигаемым ими кандидатам.
Признаюсь, я тогда не понял эту парадоксально звучащую фразу: «Человек – явление». Это действительно трудно было понять, но потом, познакомившись с Гильеном, понаблюдав его в шумной, кипучей, экспансивной массе латиноамериканских делегатов, узнав поближе этого невысокого, смуглого мулата и как поэта и как человека, мы убедились, сколь точна была эта странно звучащая характеристика.
Николас Гильен воплотил в себе характерные черты своего талантливого и своеобразного народа. Его природную даровитость, его живость, шумную, яркую энергию, его импульсивность. Народа, умеющего страстно бороться за свою честь и свободу и с империализмом и с внутренней реакцией, умеющего верно дружить, страстно ненавидеть, народа поэтического по натуре.
Многие из делегатов Латинской Америки до той варшавской встречи никогда не видели Гильена и даже не слышали его имя. Но все знали его стихи, его очаровательные соны – эти ритмические песни-танцы, и часто в часы перерыва утомительных заседаний, затягивавшихся далеко за полночь, Гильен начинал выстукивать по столу танцевальные ритмы, и все принимались петь. Петь Гильена.
Его друзья познакомили нас с биографией, интересной биографией, начавшейся с трагического происшествия в его семье. Он был внуком крестьянина и сыном известного кубинского публициста, обладавшего свободолюбивой душой и острым пером. Отца убили контрреволюционеры, когда Гильен был зеленым юношей. И в этот роковой час семьи юный Гильен ступил на революционный путь.
Нам говорили, что его творчество как бы вобрало в себя все радости и печали кубинского народа, гордость его свободолюбия, ненависть к любым врагам и угнетателям. Гильен обладает редким поэтическим даром и всю силу этого щедрого дара отдает своему народу, служить которому он поклялся у гроба отца. Главный и единственный герой его поэзии – трудовой народ Кубы. Пишет ли Гильен соны или элегии, обращается ли к сложному жанру сонета или поэмы – все это о народе и для народа.
– Он мог бы быть модным, богатым, преуспевающим, но для этого должен был перестать быть самим собой, – рассказывал нам о нем на том же конгрессе другой кубинский делегат, Хуан Маринельо. Вместе с Гильеном участвовали они когда-то в борьбе испанских республиканцев. По очереди писали жгучие корреспонденции, рассказывая латиноамериканским собратьям, живущим на другом конце земного шара, о героических страницах трагической битвы свободолюбивых, людей с объединенными силами фашизма, происходившей в те дни на испанской земле.
В краях, где странствовал когда-то рыцарь Печального Образа Дон Кихот Ламанчский, в те дни в смертельной борьбе схватились мир вчерашний и мир завтрашний, Гильен написал одно из лучших своих произведений. Оно называлось «Испания». Подзаголовок раскрывал его смысл: «Поэма о четырех печалях и одной надежде».
Да, действительно, Гильен перестал бы быть Гильеном, если бы отвернулся от боли, печали, надежд и радостей своего народа. И не случайно большинство стихотворений, выходящих из-под его пера, сразу же, как-то само собой превращаются в песни, и песни эти первоначально звучат на сахарных плантациях, в портах, на рыбачьих шхунах, в барах и трактирчиках, а потом с зеленого острова переносятся на континент и там, расставшись со своим автором, гуляют по всей Латинской Америке.
Земной шар сейчас, в век космоса, стал удивительно тесен. Люди доброй воли часто встречаются между собой на форумах мира, на всех пяти континентах земли. В годы, которые были для Гильена годами вынужденной эмиграции, я встречал Николаса неизменно веселого, деятельного, полного энергии, неутомимо работающего, любящего за стаканом вина с полнейшей откровенностью рассказать другу о своих мечтах и замыслах.
Это был самый энергичный и жизнерадостный изгнанник из всех, каких я знал. Не забуду случайной встречи в Париже на аэродроме Орли. Мы с женой и сопровождавшей нас переводчицей, женщиной строгой и чинной, уже прошли барьер полицейского контроля и направлялись в зал посадки, как вдруг сзади послышался крик:
– Борис, Джулия!
Оглядываемся – за барьером Гильен, веселый, улыбающийся, в яркой рубашке и каком-то невероятного размера сомбреро. Машет рукой и что-то кричит. Наша переводчица бледнеет и, подхватив нас под руки, начинает тащить в глубь зала.
– Да это же Гильен.
– Вижу, конечно, но знаете, что он вам кричит? Он говорит, что он здесь по чужому паспорту, – поясняет переводчица побледневшими губами. – Под чужим именем. – И тащит нас дальше в толпу ожидающих посадки на московский самолет. В самом деле, сообщение о нелегальном положении – не самое лучшее, о чем можно поговорить через голову французских полицейских. Мы знаем, что Сюрте женераль – организация в общем-то серьезная.
Однако через несколько минут среди отлетающих появляется Гильен. Он по-прежнему оживлен, весел, размахивает своим сомбреро и что-то говорит, говорит. Переводчица шепотом поясняет нам, что он выражает сожаление, что не может лететь с нами в Москву, что он пришел сюда проводить своего друга, который тоже здесь на нелегальном положении, что по Москве он очень соскучился и что мы обязательно с ним вскоре там встретимся. А затем следует целая куча приветов Фадееву, Тихонову, Твардовскому, Корнейчуку.
Передав приветы, он снова по-рыцарски взмахивает сомбреро.
– Чао, амигос! До встречи в Гаване!
«До встречи в Гаване» – в те дни это было у него как бы обязательной формулой прощания. Где бы мы с ним ни расставались: в Москве, Кантоне или Бухаресте, – мы слышали от него это «До встречи в Гаване, друг».
В те дни его Куба была бесконечна далеко и от него и от нас. Нам же она казалась просто призрачным островом. Я представлял ее лишь по смутным воспоминаниям из школьных учебников географии да по четверостишью Маяковского:
Если Гавану окинуть мигом —
Рай страна,
страна что надо.
Под пальмой на ножке стоит фламинго,
Цветет коларио по всей Ведадо.
И поэма Маяковского «Блек энд уайт» и газетная хроника о свирепствах диктатуры на Кубе заставляли нас в ответ на щедрые приглашения Гильена напоминать ему о действительности:
– А Батиста?
Переиначивая известное выражение Виктора Гюго, Гильен, сверкая своими черными глазами, неизменно отвечал:
– Батисты рождаются и умирают, а народ живет, народ вечен. – И от себя добавлял: – А диктаторам иногда дают коленкой под зад.
И он оказался прав, Николас Гильен, которого его чилийский друг Пабло Неруда назвал в своей статье менестрелем Латинской Америки. В конце концов мы смогли принять его приглашение…
Встретились с ним в Гаване в первые месяцы победы кубинской революции. Диктатору Батиста действительно дали коленкой под зад. Народное правительство Фиделя Кастро деятельно начинало строительство новой жизни.
Гильен оказался таким же неугомонным, жизнерадостным, каким мы его привыкли видеть. Он с головой, больше чем когда-либо, был погружен в поэзию и в то же время сверх всякой меры обременен общественно-организационными делами.
– Нужно произвести целое исследование, чтобы перечислить все его должности, – шутил Хуан Маринельо, его соавтор по корреспонденциям из сражающейся Испании, а в те дни уже ректор Гаванского университета.
В шутке была правда. Гильен писал стихи и прозу, в большой газете «Ежедневные новости» он из номера в номер помещал короткие публицистические статьи и в статьях этих как бы вел многодневную задушевную беседу с читателями. Он был председателем Союза писателей и художников. Руководил Движением Сторонников мира на острове. Был членом Всемирного Совета Мира. Он…
Нет, Маринельо был прав: просто невозможно перечислить все посты, которые он занимает. Подозреваю, что и ему самому сделать это не под силу.
– Как живешь, Николас?
– Хорошо живу. Всюду и всегда опаздываю, – жизнерадостно заявил он, действительно изрядно опоздав на писательскую встречу, которую он сам же организовал и на которой он должен был председательствовать.
Вечером, точнее ночью, он пригласил нас в «самый роскошный ресторан Гаваны». В этом городе, действительно изобилующем роскошными отелями, экзотическими ресторанами, этот «самый роскошный» оказался просто… большой подворотней в одном из старых каменных домов на шумной улице. В подворотне были тесно расставлены столики, а кирпичные обшарпанные стены были сплошь оклеены фотографиями знаменитых людей Кубы и иных стран с дружескими надписями, адресованными этой весьма странной точке общественного питания.
Все столики были заняты. Но для Гильена откуда-то из кухни приволокли еще один колченогий, который тут же, однако, покрыли белоснежной накрахмаленной скатертью.
При появлении Гильена по всему этому своеобразному «залу» будто ветер по лесу прошелестел. Я не знаю языка, но без труда угадал: кто?.. который?.. где?.. И тотчас же у колченогого стола выстроилась очередь любителей автографов. Потом будто из земли возникли два пожилых африканца с гитарами и какими-то очень звучными погремушками и под аккомпанемент этих инструментов хриплоголосый дуэт запел соны Гильена. За столиками поддержали. Поддержали дружно. Мотив и тексты были, по-видимому, всем известны, и получился очень стройный, своеобразный хор.
Так ночь и потекла. Гильен добродушно рассыпал автографы на карточках меню, на каких-то клочках бумаги, на полях газет. Я потихоньку потягивал новый для меня напиток с шикарным названием «Куба либре», то есть «Свободная Куба».
Где-то уже глубокой ночью в зал вошла очень красивая женщина в белом свитере и длинной широкой темной юбке, подчеркивающей стройность ее форм. Я сразу узнал здешнюю эстрадную певицу, называвшую себя русским именем Любка. У нее, разумеется, было какое-то свое, кубинское имя, но после того, как она прочитала «Молодую гвардию» Фадеева, она взяла себе артистический псевдоним Любка в честь героини романа Любы Шевцовой.
За день до этого произошел такой случай. С Хуаном Маринельо мы пошли в ночное кабаре, где выступление этой артистки было, как говорили, гвоздем программы. Выступала она в костюме праматери Евы, дополненном лишь очень скромными, но совершенно уже необходимыми деталями. Она исполняла вихревой негритянский танец, исполняла так здорово, что, несмотря на ее оригинальный костюм, точнее на отсутствие костюма, ее встречали как-то по-дружески тепло. Публика шумела, стучала по столам, долго не отпускала ее со сцены, и она плясала снова и снова, плясала, щедро улыбаясь, сама увлеченная своим танцем не меньше, чем зрители. А на следующий день я пошел в народный банк обменять чек на валюту, и в дверях мне решительно преградил путь стройный мальчик с автоматом и большим пистолетом в деревянной кобуре. Он был в форме милисианос [5]5
Милисианос – добровольный милиционер.
[Закрыть]. Красивое лицо этого мальчика показалось почему-то очень знакомым, и вдруг я узнал в нем… вчерашнюю танцовщицу, именующую себя Любкой.
– Да, это так. Она милисианос. У нас много гусанос [6]6
Гусанос – буквально гусеницы. Так на Кубе зовут контрреволюционеров.
[Закрыть], трудящиеся Кубы охраняют свое добро. Вечером вы опять сможете увидеть ее на эстраде, – пояснили мне в банке.
Так вот, этот очаровательный милисианос пришел прямо к столику Гильена и, наклонившись, оставил на его лбу жирное карминное пятно.
– Я хочу танцевать для вас, маэстро.
Раздвинули столики, старые африканцы завели какую-то лихую мелодию, и начался тот же бешеный танец, причем развевающаяся юбка то и дело хлестала нас по носам.
Потом танцовщица присела за столик Гильена и отказалась выпить даже «Куба либре»: некогда, ей нужно еще переодеться в форму, взять оружие, она должна выходить на пост. Гильен был растроган, по-отечески похлопал ее по спине.
– Спасибо, ты доставила мне и моему советскому другу большое удовольствие.
– Не благодарите, для меня большая честь танцевать для Николаса Гильена.
Из ресторана Гильен выходил в сопровождении толпы друзей, под аккомпанемент следовавшего за нами «оркестра». Он был растроган и горд. Распростившись с провожатыми, он, явно гордясь любовью своего народа, сказал:
– Это, брат, не какая-то там Нобелевская премия. После того вечера мы не раз встречались с Гильеном и в Гаване, и в Москве, и в других городах мира, вели дружеские разговоры, жестоко спорили, но всегда расставались по-хорошему. Кубинский народ отметил его семидесятилетие. Солидная дата, что там ни говори. Но в памяти моей он навсегда останется таким, каким он выходил тогда из ресторана-подворотни: веселый, задорный, искренне гордящийся столь ярко выраженной народной любовью, своей всенародной славой. И молодым. Да, и молодым.
В день его юбилея я дал в Гавану телеграмму: «Привет, Николас, мы не верим в твое семидесятилетие».
В строю навечно

Ярослав Галан
Бывают писатели, о которых трудно говорить в прошедшем времени. Он был. Он писал. Он говорил. Он боролся. Это как-то не для них, сколько бы лет ни прошло со дня их кончины. Они, такие писатели, жили столь кипуче и интенсивно, столько сделали для людей, для культуры, так ярко горели идеей, что навеки утвердились в памяти людей как активные члены общества, живые среди живых.
Таков украинский писатель Ярослав Галан. Он не так много написал, но его острые книги, согретые любовью к людям, просто-таки пылающие ненавистью к врагам советского народа и социализма, эти его книги-бойцы звучат сегодня так же свежо, страстно, злободневно, как звучали при его жизни четверть века назад. И сам он, неутомимый, неистовый разоблачитель буржуазного национализма и клерикального мракобесия, принявший смерть за письменным столом, за работой над очередным острым памфлетом, и сегодня борец среди борцов.
Мы познакомились с ним в немецком городе Нюрнберге в дни исторического процесса над главными военными преступниками второй мировой войны. Я был там корреспондентом «Правды», он представлял газеты Львова. Поначалу этот невысокий, коренастый, немногословный человек с большой львиной головой мог показаться нелюдимым, флегматичным. Но стоило ему разговориться, обманчивый облик сразу менялся. Светлые глаза загорались, рука резким движением отбрасывала назад пряди русых волос, всегда свисавших ему на высокий крутой лоб, голос, не теряя своей мягкой украинской интонации, обретал очень энергичное звучание, и собеседник сразу же поражался глубиной суждений, его эрудицией, резкой бескомпромиссностью и в то же время почти застенчивой деликатностью.
Разумеется, мы уже все знали его биографию, несколько необычную для советского журналиста биографию. Западноукраинский коммунист, он, как говорится, с «младых ногтей» с головой окунулся в революцию. Жизнь под особым надзором дефензивы, как именовалась в Польше политическая полиция. Аресты. Тюрьмы. Нелегальное существование. И напряженная революционная работа.
И как бы между делом в редкие тихие дни бурной его жизни выходили из-под его пера памфлеты, рассказы, пьесы, исполненные любовью к своему народу и обжигающей ненавистью к буржуазному украинскому национализму и служителям Ватикана. Украинские националисты ненавидели и боялись его не меньше, чем чиновники дефензивы. Боялись его острого слова. И было чего бояться. Памфлеты молодого Галана били точно в цель и находили отзвук в сердцах трудящихся.
Зато рассказы и очерки, которые он писал после воссоединения Западной Украины с Советской Родиной, были согреты радостью, в них зазвучал пафос утверждения. И вот война. Галан снова борец. Он боевой военный журналист. Из-под его пера летят воззвания, листовки. Он диктор на тех героических подвижных радиостанциях, которые с передовой под огнем врага адресуют правдивое слово уму и сердцу немецких солдат. Он обращается к разуму тех предателей, которые снюхались с оккупантами, пошли в эсэсовские специальные батальоны, в охранные войска, всем этим бандеровцам, мельниковцам, ставшим послушным орудием Гитлера…
И вот мы знакомимся с Галаном в ложе прессы на Нюрнбергском процессе. Здесь он тоже не созерцатель. Не летописец. Он борец. А как журналист он добрый товарищ.
У него перед нами огромное преимущество. За малым исключением, все мы не знаем иностранных языков. Он, учившийся в венском и краковском университетах, прекрасно говорит по-украински, по-русски, по-польски, по-немецки. Он знает французский и понимает английский. В работе ему не приходится с помощью переводчика преодолевать языковой барьер, поэтому он видит зорче и острее нас. Но этим своим преимуществом он не пользуется эгоистически, а щедро делится с нами своими знаниями, своими мыслями, преподнося эти знания и мысли в самой деликатнейшей форме:
– Вы заметили, конечно, как Розенберг сказал то-то и то-то. У этой фразы двойное дно. Ее можно понять так и этак. Но, как мне кажется, ее следует понимать так.
Мы, конечно, этого двойного дна не заметили и восприняли фразу, о которой шла речь, в буквальном переводе. Но разъяснение преподнесено Галаном в такой форме, что мы принимаем его с благодарностью.
– Редчайший экземпляр деликатнейшего человека, – говорит о нем другой украинский писатель – Юрий Яновский, автор знаменитых «Всадников», тоже наш сосед по скамье в ложе прессы, где он представляет газеты Киева.
Все мы очень загружены. Пишем и передаем свои сочинения почти каждый день. А вот интересы Галана не ограничиваются стенами Юстиц-палаца, где происходит международное судилище.
– Здесь нацизм лежит перед нами поверженный и распластанный, здесь его спокойно анатомируют, – говорил Галан мне однажды. – Но когда вырезают раковую опухоль, в организме остаются метастазы, и это очень опасно. Вы, Борис, разумеется, не хуже меня понимаете, что из этих метастаз может вырасти новая опухоль.
Вот это-то все время и занимает его беспокойный ум, ум революционера. И не только метастазы нацизма, но буржуазного национализма всех мастей. Он с тревогой следит, как здесь, в Баварии, и в частности, под крылышком первой американской дивизии, оккупирующей Нюрнберг и его окрестности, сплачиваются, сбиваются в группы, активизируются все эти бандеровцы, мельниковцы, жовтоблакитники, буржуазно-националистические охвостья из Белоруссии и прибалтийских республик. Большинство из них служило Гитлеру в войсках СС. После войны их интернировали, а сейчас по лагерям интернированных разъезжают всяческие заокеанские пропагандисты и вербовщики. Сулят деньги. Суют иностранные паспорта, агитируют «предпочесть свободу» в западном мире и не возвращаться на родину с повинной, грозя за это карой и на земле и на небе.
Знаем мы это. Но много дел на процессе, и мы как-то не находим времени всерьез проанализировать это явление: не наше это, в сущности, дело. А вот дальновидный Галан серьезно обеспокоен. Давний его враг – буржуазный национализм – организуется, набирает силы, на этот раз под крылом американского военного орла.
Галан не просто обеспокоен. Он начинает борьбу с этим врагом. Европейски образованный, безукоризненно знающий языки, он смело проникает на сборища националистов, посещает мессы в костелах и кирках, где звучат антисоветские, антикоммунистические проповеди и призывы и отсюда, из Нюрнберга, посылает в свои газеты гневные, разоблачающие статьи. Мы начинаем серьезно беспокоиться за его жизнь, в особенности после того, как в районе карандашной фабрики Иоганна Фабера, во дворце которого размещен лагерь прессы, в вонючей речке нашли два трупа – немецкого коммуниста, профорганизатора с фабрики, и украинской девушки из числа перемещенных лиц.
– Удержите его, – просит меня Юрий Яновский, обеспокоенный за судьбу своего товарища. – Говорил я с ним, не раз говорил. Отвечает: это не мое, это наше общее дело. Ну, хоть бы псевдонимом подписывал эти свои статьи, а то прямо «Ярослав Галан». И даже датирует: Нюрнберг. Будьте ласковы, поговорите.
И вот я затеял этот нелегкий разговор, напомнил Галану, какой страшной смертью погиб недавно закарпатский епископ Феофан, с которым я в дни войны познакомился в мукачевском монастыре. Это был любопытный, мыслящий человек. Сразу же после присоединения Закарпатья к Советскому Союзу он совершил поездку по нашей стране и начал печатать в газетах серию очерков «Путешествие в страну чудес», своеобразных, любопытных очерков, в которых он радовался тому, что наконец-то весь украинский народ живет под единой крышей общего дома.
– Если бы Иисус Христос жил в наши дни, он обязательно был бы коммунистом, – говорил нам между прочим этот странный пастырь, пользовавшийся в закарпатских селах большим уважением.
– Вы знаете, Ярослав, как он погиб?..
– Знаю, Борис, конечно, знаю.
А погиб Феофан так. Однажды в своей почте он обнаружил открытку, на которой был изображен трезубец. Разумеется, епископ не мог не знать, что в такой форме бандеровские бандиты делают предупреждение тем, кто активно укрепляет советскую власть. Знал, но не обратил внимания. Продолжал публиковать свои очерки. И вот однажды ночью в его покои проникла бандеровская банда. Его умертвили мучительным образом: наложили на голову обруч из провода и медленно скручивали до того, пока череп не лопнул.
– Судьба Феофана вас не пугает, Ярослав?
– Нет, не пугает, – тихо, без всякого пафоса ответил Галан. – Если бы революционеры были пугливы, кто бы стал делать революцию. У меня с этим националистским отребьем личные счеты.
– Давно?
– С детства. – На широком лице Галана появилась такая редкая на нем улыбка. – С детства, – повторил он. – Однажды священник на уроке закона божьего спросил меня, почему папу зовут Пием.
– Наверное, потому, что он любит выпить, пан отец, – ответил я совершенно искренне. Поп приказал мне положить руки на парту и стал бить по пальцам линейкой. Тогда, вероятно, и возникли у меня первые антиклерикальные настроения, а что касается фашистского отребья, всех этих националистов, они меня не раз выдавали дефензиве, можно сказать, они и были украинским филиалом дефензивы.
– И все-таки будьте осторожны.
– Не обещаю. Считаю долгом срывать романтические одежды со всего этого гитлеровского отребья. Я буду заниматься этим всю жизнь, пока рука может держать перо, – тихо, и опять же без пафоса, но очень твердо закончил разговор Галан.
И он выполнил это свое слово. Действительно, он боролся с националистскими бандитами и ватиканским мракобесием до момента, пока рука держала перо. В прямом, в буквальном смысле этого слова.
Одна за другой выходили из-под его пера книги, памфлеты, рассказы, пьесы, в которых он точно метал копья своего гнева и в националистов и в клерикалов. В памфлетах «Их люди», «Ватикан без маски», «С крестом и ножом», в книге «Любовь на рассвете», в трагедии «Под золотым орлом», в очерках «На службе у сатаны», «Отец тьмы» Галан разоблачал буржуазных украинских националистов, вскрывал их тайные и явные мерзости, бил по клерикалам, ханжам, двурушникам, по всем, кто пытался в западных областях Украины помешать наступлению социализма.
Ему не посылали трезубец. Предупреждение ему было послано в виде официального ватиканского проклятья. 13 июля 1949 года папа Пий XII отлучил его от церкви. Галан пренебрег и этой угрозой.
Он продолжал борьбу. Вскоре после этого отлучения убийца проник в кабинет писателя. В этот момент Галан как раз сочинял статью. Никто, конечно, не видел, как это произошло, но по следственным материалам можно восстановить картину. Увлеченный Галан не слышал, как раскрылась дверь кабинета. Убийца зашел сзади и ударом валашки топорика-посоха, с каким ходят закарпатские горные пастухи, рассек ему череп.
Его большая, великолепная львиная голова поникла на рукопись. Сквозь пятна крови можно было разобрать последние, написанные им слова: «…Исход битвы в Западных украинских областях решен, но битва еще продолжается…»
Да, битва продолжается, и в этой битве с буржуазными националистами, в битве за души людей и сейчас активное участие принимают книги Ярослава Галана.
Он навечно остается в строю борцов.








