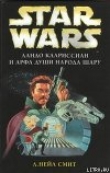Текст книги "Дом в Пасси"
Автор книги: Борис Зайцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
СКИТ
…По преданию, огромная рыба выплеснулась из реки на берег, когда святой молился, ища место для монастыря. Он пожалел ее, бросил обратно в воду – и приняв это за указание, основал невдалеке обитель. Много столетий прошло с той молитвы. Было аббатство и малым и великим. Норманны сожгли его. Во времена крестовых походов оно отстроилось – замечательный собор из камня пористого, белого, и посейчас стоит – узкий, длинный, проросший кой-где плесенью, вырастивший березку в одном из карнизов, опирающийся на древнейшую, еще романскую абсиду. И как бы продолжением его воздвигалась Sainte Chapelle [55]55
Святая капелла (фр.)
[Закрыть]– великого изящества и чистоты стиля ранне-готического. За остатками стены река в осоках. Пестроцветные птицы низко, чуть воды не касаясь, чертят над самым зеркалом, на закате, прямые горизонтали от одного лозняка к другому.
Рыба поплескивает, но уже нет той таинственной, что во времена святого выражала волю Бога. Маленьких плотичек, пескарей да кой-где красноперого окуня выудит рыболов с плоскодонки.
Аббатство в запустении. В соборе служит, правда, старый кюре в шапочке, похожей на корону, сухой, довольно крепкий, неприветный. Но корпус с кельями долго пустовал. Был там пансион для католических девиц, во время войны госпиталь, потом опять пустыня, пока нынешней зимой не появились здесь вполне странные люди в черных клобуках.
Сова вылетела из угла залы капитула, когда архимандрит Никифор и валаамский монах Авраамий впервые осматривали помещение. Никифор, худой, высокий, с чахоточной грудью и вставными серебряными зубами, вздыхал, глядя на паутину, на потолки провисающие, незапирающиеся двери. Но веселый Авраамий решил дело.
– Ничего, о. Никифор, обойдется. Церковь я берусь вам самолично переделать, кроваток нам понавезут… А главное-то дело, место больно хорошее. До чрезвычайности душевное местечко.
Авраамий был очень здоровый, мужиковатый монах, шутник, бывший столяр, не весьма твердо знавший, чем несториане отличались от моноелитов, но прекрасно понимавший, что такое жизнь, и Бога чувствовавший так, будто Он с ним всегда рядышком. Место и действительно ему понравилось – лесами, уединенностью, тишиной. До Валаама, конечно, далеко. Что, вообще, может равняться с Россией! Все-таки, река… Тоже не то, что наша, но тут одно Авраамия прельщало: сам он рыболов. Река медленная, полноводная. Стрижи, бабочки, зеленая осока, рыбка поплескивает. Он об этом не сказал Никифору, но настаивал горячо, чтобы тут основаться.
Игумен помолился, поколебался и решил снять. Когда через неделю казначей Флавиан увидал помещение, то пришел в ужас. Плотный, несколько сумрачный, с умными, но не столь добрыми небольшими глазками иеромонах Флавиан недавно прибыл из Польши, не ужившись в знаменитом монастыре. Он считал, что игуменом следовало быть ему, а не тощему и чахоточному Никифору, вся заслуга которого в том, что у него серебряные зубы и стаж несколько лет на Афоне. Теперешний шаг Никифора только подтверждал, по мнению Флавиана, его неспособность к управлению. И хотя это было не совсем законно, Флавиан написал длинное письмо архиепископу, прося решение Никифора отменить: сырая местность, постройки ветхи и т. п.
Архиепископ же, приехав, посмотрев сквозь золотые очки на собор, реку, на будущие спальни мальчиков и кельи монахов, на огромную залу, уже прозванную за пустынность Сахарой, покручивая пряди темной с проседью бороды и как бы соглашаясь с Флавианом, благословил контракт подписать.
Авраамий был в восторге. Строгал, пилил; засучив рясу, мыл полы, вставлял новые шпингалеты и, поглядывая на реку, предвкушал лето с удочкой в промежутках между службами.
* * *
Так осела здесь эта Русь, в латинском месте раскинув свое становище. Зимой было холодно. Печурки дымили. Стены покрывались плесенью. Сырой, затхлый воздух. К маю стало легче. Понемножку устраивалась церковь. Из Ниццы прислали икону. Из Парижа – расшитые херувимами воздухи – рукоделие офицерских шоферских жен. Главное же: солнышко появилось. Распустились столетние вязы, липы, каштаны. Плющ завил статую Иосифа Обручника перед двухэтажным зданием аббатства. Запестрели в клумбах цветы Авраамия. И лягушки загукали по болотцам – перекликались ночью с совами. Авраамий поймал первого пескаря. Появились первые дети.
Мельхиседек, Рафа, генерал, все по-разному чувствовали себя, подъезжая к аббатству. Для Мельхиседека это было обычное – еще день, нынче в Сербии, завтра во Франции, послезавтра в Берлине или Греции, куда понесет его ладью ветер, все в том же ровном, сребристом дне. Для Рафы – странное и занимательное путешествие, чуть не в глубины Африки. При всей своей самоуверенности он все же придерживался генерала: вблизи этого сухого, прокуренного плеча будет покрепче.
Генерал все глядел в окно, отвертывался. Перед самым монастырем шоссе пересекало ложок с луговинкой, болотцем. С кочки поднялся, медленно, качаясь, закивал в воздухе русский чибис. Рафа заметил, что ближайший к нему глаз генерала мокрый.
– Вы, наверное, засорили? Я имею чистый платок. Если хотите, кончиком вам выну.
– Имею, имею… Нечего вынимать. Все в порядке. Сейчас приедем.
Автобус ссадил их на деревенской площади. Середина ее – зеленая лужайка, огороженная перилами – в глубине обелиск с водоемом и струйкой воды. Тихие дома вокруг, и за другой лужайкой, по другую сторону дороги громада собора, как бы грозная, прекрасная вечность. Со своими чемоданчиками под готической аркой входа прошли они двориком к Иосифу Обручнику и Пресвятой Деве.
– Вот, привез гостей из Парижа, – сказал Мельхиседек появившемуся на крыльце Флавиану.
Генерал снял шляпу, подошел под благословение. Рафе стало несколько жутко – в Париже он проще здоровался с Мельхиседеком. Тут что-то совсем другое.
И он сложил ладони, поцеловал волосатую, не весьма ему понравившуюся руку.
– Генерал Вишневский? Слышал, слышал, – говорил Флавиан. – А это что ж мальчик – к нам в общежитие?
Флавиан смотрел тускло, небольшими глазками – средне-приветливо. Он уже оценил, что богомольцы не из важных.
Мельхиседек объяснил: генерал и Рафа друзья обители, кое-что собирают, будут и впредь помогать. А приехали посмотреть и немножко отдохнуть.
– Так, та-ак… милости просим. – Флавиан посмотрел на Рафу, слегка усмехнулся. – И ты собираешь? Такой маленький?
Рафе показалось, в тоне его насмешка.
– Я собрал для мальчиков полтораста франков, – ответил он тихо, твердо. – Может быть, и еще соберу.
Флавиан опять усмехнулся, опять не совсем ясной усмешкой.
– Мы, разумеется, всегда благодарим благодетелей. Пожалуйте, однако, я укажу вам комнату.
И, поднявшись в первый этаж, пересекши огромную пустую залу – Сахару, провел их в небольшую комнату с окном в сад. Пахло сыростью, кисловатым. Было прохладно.
– Не взыщите, – сказал Флавиан генералу, – обитель весьма бедная, гостинника нет, я за всех. Вот кровать, диванчик для молодого человека, тут и утешайтесь, ежели вы любитель монастырского жития. Насчет питания, предваряю: довольно скудное. Но, возможно, разумеется, и прикупить.
Когда он вышел, Мельхиседек отворил окно. Майский воздух поплыл, теплый, золотой. Внизу огород, дальше вековые каштаны, дубы, мощная зеленая туя. И голубоватые леса на горизонте. Снизу из церкви пение – шла всенощная.
– Мне довелось быть на св. Афоне, – сказал Мельхиседек. – Там у них, знаете ли, кроме главных храмов устроены еще малые, в корпусах с кельями, называются параклисты. И вот так же пение как бы пронизывает всю обитель.
Генерал погладил свои усы.
– Какая прелесть! Солнце садится. Тишина, благодать… прямо тут расцветаешь!
Мельхиседек пристально на него поглядел.
– Михаил Михайлыч, вам бы поговеть здесь. Исповедуйтесь, причаститесь и пречудесно будет…
– Я и прежде, к вам в Пустынь наезжая, всегда говел. И Ольга Александровна, покойница. Боже ты мой! Опять русский монастырь, опять вы, о. Мельхиседек…
Генерал был в некоем возбуждении. Рафа распаковывал чемоданчик. В возбуждении он не находился. Ему не так особенно нравилось тут. Флавиан и совсем не понравился. Но он молчал. Вынимал зубную щетку, полотенце, мыло. Предложил помочь и генералу – тот отклонил.
Так как трапеза отошла, их покормили отдельно, но за тем же длинным столом в сыроватой трапезной. Пахло щами, мухи гудели в вышине. С каменных, недавно перекрашенных стен смотрел св. Серафим с медведем, Афонская гора, архиепископ с длинной бородой. Рафе стало немножко грустно. Мама сейчас в Париже ужинает, о нем думает. И вообще… все проще в Пасси! Можно выбежать на улицу, прокатиться по тротуару на ролике, пойти в синема… Мало ли как провести время. А здесь старые стены, сырость, летучие мыши. Генерал сказал, что выйти из обители уже нельзя, калитку запирают, как солнце сядет.
Мельхиседек немного с ними посидел, а потом отлучился – Рафе показалось, что растаял в этих мрачных стенах – и следа не осталось от легкой, белеющей бороды. Но Мельхиседек не таял – просто отправился к игумену. А Рафа страшно устал и в глазах у него двоилось: в десятом часу насилу добрел до диванчика.
Генерал долго не мог уснуть. Сначала еще ходили где-то внизу, посуда постукивала на кухне, голоса доносились. А потом все замолкло. Генералу казалось – не то, что нет звуков, а даже есть некое действенное беззвучие. Звуки и возникнуть не могут в бездонной этой ночи. «Так будет после смерти. И Ольга Александровна в такой же тишине сейчас».
Встал, подошел к окну. На дороге вспыхнул свет – сразу погасли от него звезды, но черней выступили лапы каштанов. Автомобильный сноп все ближе, выхватывает из ночи зеленые купы кустарников, тополей, дрожа, струясь по изгородям… – в жужжанье мотора все это пронеслось, сгинуло, как падающая звезда.
На звездном небе близок от Юпитера красноватый Марс. Редкостные соседи!
* * *
Дора Львовна ошиблась, думая, что Рафу поразят «поэтические стороны служб». Этого не случилось. В церкви его заинтересовала лиловая мантия Никифора и то, что тот наизусть читал Шестопсалмие – длинное, без книжки, – рассказывал он потом матери. Но в общем он нашел, что все это «немножко очень длинно». И добавил: «Немножко глупо, что я ничего не понимаю».
Монастырские службы действительно длинны. Генерал и сам не все выстаивал. Рафу же никак не принуждал, и тот себя не мучил: заходил в церковь, когда вздумается, долго не оставался. Вне же церкви проводил время даже интересно. Тактика его была такая: не попадаться на глаза Флавиану – его он сразу невзлюбил. Не пропускать Авраамия, когда тот идет удить рыбу – за ним он нес червей, ведерко для рыб. Но самое интересное было новое знакомство.
Вообще говоря, с мальчиками нелегко было сблизиться. То они сидели в школе, то чинно шли через Сахару в церковь, пели на клиросе, возвращались рядами под наблюдением Авраамия или монахов помоложе. Учили уроки. Оставались краткие часы свободы.
Но Дмитрий Котлеткин, мальчик лет четырнадцати, с рыжеватой щетинкой на голове, находился на особом положении – выздоравливающего после брюшного тифа.
Большую часть дня он лежал в раздвижном кресле на солнце, у статуи св. Девы. Иногда бродил немного в своем халатике. Умные небольшие глаза, старше возраста, смотрели спокойно и самоуверенно. Некрасив был Котлеткин, грубоватой русской некрасотой – с широким носом, несколько вздернутым, в веснушках, с красными руками – но Рафе все казалось в нем необычайным.
Героическое окружало Котлеткина: он бежал с отцом из России, через Днестр! И если отец служит сейчас в Париже, то полгода назад пули шлепали вокруг них ночью в днестровской воде. Это, конечно, такое дело, о каком в Пасси и подумать жутко – никто не думает, да и слово «Днестр» неизвестно.
– Мы с папкой цельный день в камышах пролежали, хайлом в землю. Нельзя двинуться. Пулемет так и чешет.
Рафа холодел. Сколько тут было правды, не ему судить, но выходило грандиозно. С Рафой Котлеткин был снисходителен, но немного свысока, как вообще с Европой. И стреляли-то по ним русские пограничники как-то особенно: на то она Россия! Можно было подумать, что Котлеткину даже нравилось, что так лихо стреляют русские. А Европа… первые дни в Берлине все магазины казались ему «распределителями». Товару много, хорошо бы «прикрепиться». И не без труда он поверил, что покупать тут можно и без карточки. Много, впрочем, в распределителях Берлина им забрать не пришлось. Передвинулись в Париж. Отец попал на завод, сын в общежитие.
Про монастырь Котлеткин говорил покровительственно.
– Ничего, хорошо. Старички не обижают. Вроде детотдела… Конечно, у нас служители культа лишенцы. Элемент контрреволюционный. Им не только ребят не доверяют, им и пайка нет. У нас там физкультура, а тут церкви да служба.
Рафа слушал с восторгом. Генерал поправлял его беженский язык, здесь же был перевод с русского еще на некий новый, не совсем понятный, но такой же замечательный, как сам Котлеткин.
– А почему же вы с papa [56]56
отцом (фр.)
[Закрыть]бежали?
Котлеткин посмотрел на него, слегка прищурился и сплюнул.
– Жранца было мало.
Рафа понял – чего-то нужного не хватало. Но чего именно, спросить не решился.
– Да меня и отсюда скоро монахи погонят.
– Почему?
– Папку сократили, он теперь шомажник. Рафа почувствовал себя прочнее.
– Chomeur? – По-здешнему так. Из каких же ему капиталов за меня платить? А без деньжонок, наверное, на улице окажешься. Да мне только бы выздороветь.
Разговор произвел на Рафу впечатление. Героя Котлеткина, спасшегося на Dniestr'e от пуль, исключать из-за chomaga'a! Он рассказал об этом генералу.
– Чего там исключать… Как-нибудь устроится. Генерал мало заинтересовался Котлеткиным.
Рафа почувствовал это, ничего не сказал, но нечто затаил. И решил действовать сам.
Он подстерег в саду Мельхиседека и подошел к нему.
– Парижанин, гость и друг… – сказал Мельхиседек. – Ну, как себя чувствуешь?
Мельхиседек сидел за деревянным столом, под каштаном. Но столе перед ним ученические тетрадки. Над столом, в вышине лапчатые листья – густая сень. Как из купола поток зеленой тени, прорываемой солнечно-золотыми столбами. Золотые кружочки кое-где на тетрадках, на седой голове…
Рафа поблагодарил и перешел к делу. Правда ли, что Котлеткина исключат из общежития?
Мельхиседек снял очки, стал протирать их. Солнечный луч отблеснул от стекла, скользнул по рукаву Рафиной курточки.
– Откуда ты это знаешь?
– Мне сказал Дима. Если его отец chomeur, то как же он будет за него платить?
Мельхиседек помолчал.
– Мне неизвестно то, о чем ты рассказал. Как же тебе ответить? Монастырь очень беден, ты знаешь. Мы не можем держать детей совсем даром. Но Котлеткин мальчик способный, к тому же и прибывший из России. Поддержать его надо. Во всяком случае, постараемся что-нибудь сделать. Дело не спешное. Он ведь и выздоравливающий.
В конце дорожки, от аббатства, показались два монаха.
– Да вот и сам о. игумен. Он тебе все объяснит лучше меня.
Никифора Рафа уже немного знал и не боялся. Рядом с ним шел Флавиан. Когда они приблизились, Мельхиседек поднялся, низко, почти до земли поклонился. Рафа не знал, как поступить: кланяться в ноги этому тощему, очень длинному и еще не старому монаху показалось странным. Подходить под благословение он побоялся – издали неуклюже поклонился.
– Садитесь, о. Мельхиседек, – тихо сказал Никифор. – Мы вас не будем отрывать от дела.
Он положил худую, как бы чахоточную руку на ученические тетрадки.
– Все их науку контролируете?
Рафу поразили его серебряные зубы. Что-то надломленное, кроткое и обреченное было в этом человеке. Рядом с ним Мельхиседек казался и моложе и бодрее.
– Пишут несамостоятельные телятки, кто как может. Довольно, впрочем, грамотно, ваше преподобие… Сожалею, что нет работы этого мальчика из России, Котлеткина.
Игумен продолжал постукивать пальцами по тетрадкам. Улыбка осветила усталое его лицо.
– Тот уж самостоятельный.
Мельхиседек разгладил серебряную бороду, распустил морщины и из-под очков не без лукавства посмотрел на Рафу. Флавиан сидел молча с недовольным видом.
– Сей Котлеткин, – продолжал Мельхиседек, – по словам гостя нашего, Рафаила Лузина, обеспокоен возможностью исключения из общежития, так как отец его стал безработный и не может платить.
Флавиан пожал плечами.
– Мы и так едва живы. Никифор задумчиво смотрел на Рафу.
– Безработный, не может платить, – повторил как бы про себя.
Потом неожиданно обратился к Рафе.
– Поди-ка сюда, мальчик.
Тот подошел не без смущения. Никифор слегка погладил темные Рафины кудельки.
– Это ты на приют нам собирал среди знакомых?
– Я.
Никифор поцеловал его в лоб – болезненными, бледными губами. Рафа ощутил запах ладана и чего-то сладковатого – «от бороды пахло дымом и духами», – рассказывал потом матери.
– Я боюсь, – прошептал Рафа, – что вы выгоните Котлеткина. У него отец безработный. И он сам очень… больноватый.
– А ты не бойся, – тоже тихо ответил Никифор. – Бог даст и не исключим.
Рафа несколько осмелел.
– У меня есть одна знакомая дама, госпожа Стаэле. Она может дать… une bourse [57]57
стипендию (фр.)
[Закрыть]… нуждающемуся мальчику. Она обещала. Надо только портрет, письмо. И чтобы вы тоже попросили за него…
– Ну, вот видишь! Чего же бояться? Все уже сделано! И Никифор поднялся.
* * *
Генерал решил говеть на совесть. Стал поститься, с некоего дня выстаивал уже все службы, до окаменения в ногах и голодной легкости в сердце. Мельхиседек поддерживал его в этом. Просил также «просмотреть умственным взором всю жизнь, все в ней подобрать» – и даже на бумажку занести как можно обстоятельней. В день исповеди ничего не «вкушать» и прочесть книжечку наставлений кающемуся.
– Высочайшее дело, Михаил Михайлыч, имейте в виду. У вас есть такое иногда… вольное отношение и взгляд… но не для сего момента, я прошу вас!
Он напрасно опасался: генерал был настроен серьезно. Никаких улыбочек, никаких задираний.
Вечером перед исповедью сидели они у источника, на зеленой лужайке против Собора и входа в аббатство. Смеркалось. Тучи тихо стояли, сгущая мрак. Иногда зарницы проблескивали. Было душно.
– Гроза идет, я чувствую, – сказал Мельхиседек. – Я никогда не ошибаюсь в природе, Михаил Михайлыч. Нынче будет очень громовая ночь.
К источнику – прозрачной, холодной струе из небольшого обелиска – подходили с ведрами и кувшинами дети, женщины, старики. Генерал и Мельхиседек сидели на двух белых камнях-тумбах: как два сторожевых льва. В полутьме перекидывались словами соседки, подставляя ведра. Потом уходили, и лишь серебряно, однообразно усыпительно журчала струя. Зарницы зеленовато освещали сидевших. Иногда вдалеке, за их спинами, возникал свет на дороге. Обелиск начинал дрожать узкой тенью на древнем аббатстве – автомобильно-золотой сноп все ближе, тень растет, и тень грибообразного строения дрожит как на экране, и когда бешено вылетит автомобиль – вдруг поползут эти тени вбок, а все зазолотеет в свете – только на мгновенье – автомобиль уже за углом, подняв за собой белую пыль.
– Вот вам и вечность, – Мельхиседек показал на струю, – и мгновение – на унесшуюся машину.
– Я, о. Мельхиседек, теперь более в вечности, – ответил генерал. – Нo у меня есть и смутные темные вещи-с.
– Я на это надеюсь, иначе зачем бы вам исповедоваться. Я надеюсь, что вы не так собой довольны, как та дама, что недавно у меня исповедовалась. Что ни спросишь, ни в чем не грешна. «Ну, говорю, может на прислугу иногда сердитесь?» «Никогда». «Пересудами занимаетесь?» – Тоже нет. – Да вот так все нет и нет. Я ей наконец и говорю: «Стало быть, вы святая».
Вдалеке загремело. Зеленоватый зев раскрылся, мигнул, охватил фосфорическим светом Собор, лужайку и сидевших. Несколько капель сильно по сухмени травы хлопнули.
Мельхиседек поднялся.
– Даже и скорее, чем я думал. Нет, идем ко мне, и там и договорим. Да и пора. Запрёт Флавиан обитель, что мы с вами будем делать тогда?
Они прошли под готическим сводом ворот. В садике около Иосифа Обручника еще сидело несколько мальчиков – Котлеткин, Рафа. Но уже Авраамий уводил их. Рафе разрешили на эту ночь лечь в общей спальне воспитанников.
В келье же Мельхиседека, небольшой узкой комнатке с высоким потолком, киотом в углу, где теплились разноцветные лампадки; чашечка одной из них покоилась на серебряном голубе, распростершем крылья – при неясном мерцании и вспышках бело-зеленых молний за окном началась беседа. Мельхиседек сел на свое ложе, такое же сухое, худенькое, как он сам. Генерала посадил у стола.
– О. Мельхиседек, – начал Михаил Михайлыч, не сразу, как бы раздумавшись. – Вот я и перед вами… Я и вообще много о себе размышляю, а эти последние дни ввиду исповеди и особенно. Да… что же могу сказать? Жизнь моя прошла – так ли, иначе ли… – все равно. Много я в ней нагрешил по характеру своему строптивому, но много ли сейчас о грехах мучаюсь? По правде говоря, не очень… Ну, разумеется, не так ангельски покоен, как та дама ваша… «святая». Все-таки меньше, наверное, угрызаюсь, чем бы следовало. Но некие странности в себе замечаю или неприятные вещи, разумеется, отрицательные. И хотел бы их высказать. Он опять помолчал.
– Ведь жизнь как будто бы, о. Мельхиседек, смиряет меня? Бывший командир корпуса, ныне безработный и полуголодный Ну, вообще последний человек. Да. А я не смиряюсь! Мне будто говорят: вот ты последний! Опусти главу, взор долу, как полагается. А я не опускаю. И не чувствую себя последним. Не то, конечно, чтобы мои заслуги какие или дарования этого у меня немного. Но откуда, скажите, это ощущение… как был корпусный командир, барин и начальник, и купить меня нельзя, и на подлость никогда не пойду, так и остался. Подумаешь – какая сила! А не могу от себя отрешиться, о. Мельхиседек – какие бы бисерные мешочки ни сшивал и сколько бы двуглавых орлов ни царапал на яичках.
– Это все разумеется. Я так вас и понимаю, Михаил Михайлыч. Вам очень трудно смириться.
– А между тем, это главное у нас, о. Мельхиседек?
– Главное, – почти грустно ответил Мельхиседек. – Самое главное. Но и самое трудное-с. Так что вы не извольте удивляться, что малого достигли.
– Да, я не совсем таков, как вам хотелось бы, о. Мельхиседек. Я все помню. И не все могу прощать. Я очень многое не простил, хотя Господь сказал, что прощать надо до семижды семи раз. Я знал одного полковника в гражданской войне, у которого замучили всю семью. Он потом очень любил смотреть, как большевиков вешали. До страшного цинизма доходил. Быть может, это уже начало безумия… Садился пить чай на крылечке а чтобы перед ним петлю на человека накидывали. Это жизнь. Я подобного не проделывал, но все-таки… все же сказать в такую даже минуту, как сейчас, что я простил тем, кто Россию мою распял… Это будет неверно. Нет у меня сил простить, о. Мельхиседек. Если бы дал Бог…
– Только молитва, – сказал Мельхиседек.
– Как понимать это?
– Когда вы молитесь, вы с высшим благом соединены, с Господом Иисусом – и Его свет наполняет вас. Лишь в этом свете вы и можете стать выше человеческих чувств и страстей.
– Ну, так, видимо, я не становлюсь.
– А надо, – тихо, с некоторым упорством сказал Мельхиседек.
– Сказано: «Возлюби ближнего своего как самого себя». Я тоже не могу, о. Мельхиседек. Во-первых, себя я бесконечно больше люблю. И ничего с этим не поделаешь. Второе: мне просто очень трудно любить! Я любил покойную Ольгу Александровну… Страстно-с, и деспотически… Но это не по-христиански, другая любовь. Теперь люблю Машеньку – опять иною, отцовскою любовью, но тоже деспотически. Приедет она, может, ей и нелегок покажется характер отца? Все может быть. Ну, еще наберется несколько человек, кого – не то что люблю, а уважаю, «хорошо отношусь». А к большинству – вполне равнодушен! Других просто терпеть не могу! Мне иногда, о. Мельхиседек, просто приходится сдерживаться… Почему я, нищий, чувствую себя здесь таким барином и судьей? Мне все кажутся лавочниками. Знаете, бистро… бистрошниками. Сытые лица за кассой, красные щеки, раскормленные жены, су, су… аперитивы, автомобильчики, вся, знаете, эта воскресная пошлость, мещанство… Я в России не так чувствовал… Иногда едешь в метро, смотришь на разных рабочих, старух, жирных с бородавками, на грязные руки, обкусанные ногти, на какого-нибудь храпящего приказчика… – вы, конечно, жалеете их, о. Мельхиседек, а я только думаю: «Господи, как они мне противны…» Вы вот окошечко отворяете, вам, пожалуй, душно от моих слов стало, но ведь я же человек, во мне ничего ангельского нет. Самый обыкновенный человек-с.
Мельхиседек действительно отворил окно. Гроза шла стороной. Все же от грома дребезжали иногда стекла, и в зеленых вспышках вставал на мгновение сад, каштаны, столик под деревьями. Но ветер стих. Шел ровный, очень теплый дождь.
На последние слова генерала Мельхиседек улыбнулся.
– Нет, я не для того отворил окно. А я люблю-с такой дождичек, и благоухание… очень прекрасно.
– И я люблю. И деревню люблю, покос, солнце… Уродство же с трудом выношу, и чем дальше, тем больше. Вы любуетесь сейчас благоуханием ночи, а я вам еще расскажу…
И рассказал, как ненавидел недавно в метро старуху, похожую одновременно на овцу, лошадь и англичанку – розовую, с белыми волосами, упорно ковырявшую в носу.
– Михаил Михайлыч, – тихо перебил Мельхиседек, – а вас смущает, что вообще зла и безобразия в мире как бы слишком много? Точно бы и не продохнуть человеку? Дурные торжествуют, богатые объедаются, сильные мира сего продажны?
– Да, о. Мельхиседек. Именно. Меня именно это смущает. Почему вы, однако, задали мне этот вопрос?
– Насколько я вас понимаю, по характеру вашему этот страшный вопрос действительно весьма трудный для понимания, должен особенно вам беспокоить. И думаю, вы не прочь были бы сразиться со злом так, как некогда воевали в окопах.
Генерал, волнуясь, стал говорить о царстве зла.
Было около одиннадцати, когда разговор кончился. Генерал сидел на подоконнике, молчал. Говорить ему более не хотелось. Он смотрел в ночь – в непроглядную, безмерную тишину. Все уже спало в монастыре.
Мельхиседек поднялся с постели.
– Вот вы и высказались, Михаил Михайлыч. И смириться, и полюбить ближнего цели столь высокие, что о достижении их где же и мечтать… Но устремление в ту сторону есть вечный наш путь. Последние тайны справедливости Божией, зла, судеб мира для нас закрыты. Скажем лишь так: любим Бога и верим, что плохо Он не устроит… Я полагаю, что вы теперь успокоились. Приступим же к таинству покаяния.
Мельхиседек надел ветхую епитрахиль, подошел к небольшому аналою пред киотом, где лежало Евангелие. Голубь Духа Святого простирал под лампадкой горизонтальные крылья. Вспышки молний освещали седые, тонкие волосы Мельхиседека, худенькие руки. «Мельхиседек, священник Бога Всевышнего, – вспомнил вдруг генерал. – Прообраз таинственный… священник Бога Всевышнего».
Он стал на колени. Мельхиседек накрыл его епитрахилью и прочел вслух молитву перед исповедью – генерал повторял за ним слова. Как бы плавный, но мощный удар нисходил на него, стирая годы. Под епитрахилью был он как младенец. Как младенец тихо признавал вины. И по младенческим, не старческим щекам слезы текли, когда знакомый, слабый, близкий и далекий голос таинственного ныне Мельхиседека произнес сверху:
– Властию, данною мне от Бога, я, недостойный иерей…
* * *
– Ладно, – говорит Котлеткин. – Напишу твоей голландке. Да она – по-русски и не понимает?
В церкви идет литургия. Котлеткин и Рафа сидят близ Иосифа Обручника, в садике при аббатстве. После ночного дождя все сияет, блестит. Свежи капельки в настурциях. Бойки воробьи, скачущие вокруг лужицы. И так сине небо с легким и туманным паром!
У Рафы в руках письмо – только что почтальон подал.
– Ничего, что по-русски. Ей переведут. Котлеткин смотрит на письмо.
– Это что же, из ССР?
– Да, генералу.
Оба рассматривают конверт.
– У него там дочь, – говорит Рафа не без важности. – Он ее сюда выписал. Она должна очень скоро прибыть.
Небольшие колокола – ими управляет Авраамий, дергая из коридора веревки – звонят к Достойной [58]58
«Достойно есть» – песнопение в честь Пресвятой Богородицы
[Закрыть].
– Генерал нынче… как это… fait sa communion… [59]59
причастился (фр.)
[Закрыть]Я должен его поздравить?
– Вот и не прозевай. Теперь он как раз скоро причащаться будет.
– Вы уверены?
– Меня, брат, уж тут старички обучили.
Рафе не хочется уходить от великолепного Димы Котлеткина. Пусть тот даже и не благодарил его за вмешательство и голландку – ничего. Он особенный, ему все можно.
Все же в известный момент Рафа идет в церковь. И попадает как раз вовремя. Никифор, улыбаясь серебряными зубами, поздравляет Михаила Михайлыча. «С принятием св. Тайн!» и Мельхиседек, и другие. Рафа подходит, тоже поздравляет. Целует жесткие, прокуренные усы, видит над собой глаза старческие, влажные – уже не спрашивает, не попала ли соринка.
В левой руке у него письмо. В нем сообщают, что у Машеньки от хлопот и волнений случился припадок сердца.
Через несколько минут узнает генерал, что похоронена Машенька в Дорогомилове.